
|
Филиппов - Теория Общества
Филиппов - Теория общества. Сборник [1999] «Теория общества» - первая книга в ряду периодических изданий Центра фундаментальной социологии. В нее включены работы, которые уже публиковались ранее, в том числе и по-русски, а также и те, что получены в рукописи и переводятся впервые. Они сведены под одной обложкой лишь волей составителя, отказавшегося от мысли представить научной публике теоретиков только какого-либо одного направления или пытаться поведать ей о «состоянии современной социологии». В современной социологии нет школ, которые бы заслуживали исключительного внимания; у нее нет никакого «состояния», ибо она не образует единства.Поэтому в нашу книгу включены преимущественно разрозненные, просто интересные работы*. Между ними, правда, есть переклички, и, наверное, можно было бы выделить во многих из них нечто общее, не только «дух эпохи», но и более плотные взаимосвязи. Однако эту задачу читатель способен решить самостоятельно. Вот почему мы решились отойти от привычного стандарта «вступительной статьи к сборнику статей». Есть, конечно, необходимость в кратких предварительных замечаниях к некоторым публикуемым материалам, однако их мы выносим за рамки данной статьи, предполагая рассмотреть в ней вопросы более принципиальные**.
* Конечно, здесь имеется в виду особый, теоретический интерес; вслед за Г. Блюменбергом его можно назвать «теоретическим любопытством». См.: Blumenberg H. Der ProzeB der theoretischen Neugierde. Frankfurt a.M.: Suhrkamp,
** Первоначальный вариант этой статьи см.: Филиппов А. Ф. «О поняли «теоретическая социология» // «Социологический журнал». 1997. № Ѕ. С. 5-37. Текст подвергся значительной переработке.
Теоретической социологии в сегодняшней России нет. Нет обширных и постоянных коммуникаций, тематизирующих, прежде всего, фундаментальную социологическую теорию, нет обширных концептуальных построений (разветвленной теории), нет достаточно самостоятельных последователей (во всяком случае, круга последователей) какой-либо признанной западной школы, нет и заметных претензий на создание своего собственного большого теоретического проекта. Не случайно социология не привлекает к себе общественного внимания даже в интеллигентной среде, если, конечно, не считать опросов общественного мнения. Публичное невнимание к социологии - социальный факт, имеющий симптоматическое значение. Речь идет не только о состоянии науки, но и о состоянии общества. Эту констатацию можно было бы сделать исходным пунктом историко-генетического анализа, исследуя статус социологии в нашей стране в различные эпохи, перенося при этом акцент либо на исторически изменчивый облик социологии, либо непосредственно на сами социальные условия ее возникновения и изменчивого существования. Исторически можно релятивировать также и суждение об отсутствии теоретической социологии, которое мы выставили выше как почти несомненный факт. Историк мог бы сказать, что, если рассмотреть под определенным углом зрения, то и социология в широком смысле слова - как некая наука об обществе - и, соответственно, ее сугубо теоретическая составляющая почти непрерывно существуют у нас с давних пор. Отрицать принципиальную возможность и даже плодотворность таких исследований нет резона. Вместе с тем, имеет смысл ввести различение между теоретической деятельностью в социологии и собственно теоретической социологией. Первое можно рассматривать либо как результат приложения усилий тех ученых, которые ориентированы преимущественно на эмпирию и теоретизируют, так сказать, ad hoc, либо - в редких случаях - как реализацию собственно теоретического интереса. Это все же ничего не меняет в первоначальной оценке. Формулируя более жестко, скажем, что теоретическая деятельность у нас, правда, есть, но нет теоретической социологии как устойчивой совокупности взаимосвязанных коммуникаций определенного рода. Но тогда требуется точнее указать, какого именно рода. И здесь, скорее, следует идти путем, обратным историко-генетическому. Между обществом и его социологией существует функциональная связь, которую невозможно описать простой формулой «причина - следствие». А теоретико-социологическое рассуждение об отсутствии теоретической социологии в обществе, которое трактуется определенным образом именно потому, что отсутствие в нем теоретической социологии рассматривается как своеобразный симптом, - такое рассуждение, безусловно, изначально парадоксально и потому рискованно. Оправданием риска - помимо собственно плодотворности, о которой уж никак не может судить сам автор, - могло бы стать, пожалуй, напоминание о том, что таково всякое начало движения: нечто уже есть, хотя его еще нет. Эта констатация имеет смысл для всех наших последующих рассуждений. Постоянное возвращение к этой фигуре аргументации обнаруживает важную трудность, с которой обычно приходится сталкиваться всем радикальным авторам, твердящим - говоря словами И. Г. Фихте - о «полной греховности» мира*, даже если эта греховность выражается в столь маловажном обстоятельстве, как отсутствие теоретической социологии. В логическом смысле речь идет о проблеме абсолютного начала, когда из ничто должно стать нечто. В социальном смысле революционная задача требует исполнителя, отсутствие которого как раз и свидетельствует о совершенной греховности мира, а присутствие делает непонятным промедление с переходом от греховности к спасению. В нашем случае это можно интерпретировать, примерно, так: если теоретической социологии нет, то непонятно, как она может возникнуть сразу в виде масштабных концепций и сети специфических коммуникаций, а если все-таки может и условия для этого есть, то почему еще не возникла? Напрашивается и ответ: движение осмысления, направленное на ничто, зарождает то нечто, которое - и т. д. Это такой знакомый, такой обкатанный, до почти неприличного автоматизма отработанный способ-рассуждений, что нам нельзя всецело ему довериться. Его также следует проблематизировать, сделав не главным, но только первым из ряда возможных подступов к проблеме.
* См.: Фихте [И. Г.] Основные черты современной эпохи. СПб.: Издание Д. Е. Жуковского, 1906. С. 10 («...эпоха освобождения, непосредственно - от повелевающего авторитета, косвенно - от господства разумного инстинкта и разума вообще во всякой форме, - время безусловного равнодушия ко всякой истине и лишенной какой бы то ни было руководящей нити, совершенной разнузданности - состояние завершенной греховности").
Итак, первоначально можно выстроить аргументы следующим образом. Теоретическая социология есть самоосмысление общества, если воспользоваться старой и несомненно гегельянской формулой Ханса Фрайера*. Знание обществом самого себя в форме теоретической социологии означает то состояние общества, при котором только и возможна теоретическая социология. Формулировка содержит необходимую тавтологию: знание субъектом себя как такового означает, что ему подлинно присуща субъектность**. Однако отсюда выводится не столь уж банальное суждение. Невнимание общества к социологии - симптом особого рода спонтанности, невменяемости общества. Осознавая себя, общество становится иным, рефлектируя свое основное движение и выстраивая его хотя бы отчасти на основе данных самопознания. Правда, строго говоря, приписывать обществу как таковому способность к самопостижению социологически некорректно***. Точно так же нельзя способность к постижению общества отождествлять с одной только социологией****. А если не придавать буквального значения словам «общество знает» и «общество осознает» и ввести дополнительное ограничение на исключительность социологических притязаний, можно сделать заключение, в общем, не поражающее своей новизной: наше общество не осмысливает себя теоретически в некоторых определенных формах, привычно называемых социологической теорией. Но что значит это последнее ограничение, почему столь важны эти некоторые определенные формы? Социальных наук много, почему именно социология и именно теоретическая? И действительно ли общество где-то когда-то сознательно (с указанными ограничениями) выстраивает свое движение?
* А точнее, неогегельянско-неофихтеанской и, конечно, неомарксист-ской, если только не именовать неомарксизмом исключительно левую «критическую теорию». См.: FreyerH. Soziologieals Wirklichkeitswissenschaft. Leipzig, 1932.
** О роли тавтологий см.: Луман Н. Тавтология и парадокс в самоописаниях современного общества // Социо-Логос. Вып. 1. Общество и сферы смысла. М.: Прогресс, 1991. С. 194-215.
*** «...само общество не может говорить. Вопросы ставят люди.» (Alexander J. С. Action and its Environment. Toward a new synthesis. N.Y.: Columbia Univerrsity Press, 1988. P. 1.)
**** См. статью Г. Терборна в данном томе.
Один из возможных аргументов в пользу социологии мы находим, например, у Ю. Хабермаса. Именно социолология, говорит он, как наука о кризисе перехода от традиционных к современным обществам par excellence, единственная из всех социальных дисциплин, сохранила связь с проблемами всего общества, а не только его отдельных сфер (будь то экономика, политика или что-то еще)*. Аргумент хорош, если настаивать на единстве всей социологии или - как это делает Хабермас - доказывать возможность нового синтеза основных социологических теорий. Но ведь понятие социологии как особой и единой дисциплины в высшей степени проблематично**. Отсутствие безусловных теоретических лидеров, резкое взаимное неприятие ряда известных школ и т. п. в мировой социологии - вещи слишком хорошо известные, чтобы говорить о них снова и снова. Известны и попытки привлечь историю социологии, прежде всего сочинения классиков, в качестве основного теоретического ресурса при определении границ, задач и возможностей нашей науки***. Но при этом трудно найти отправную точку, начало возникновения собственно социологической (не философской, не политической) теории****, сложно составить список бесспорных классиков дисциплины. Вспомним, что социологические труды, впоследствии признаваемые нами как классика, в момент своего возникновения не укладываются в сложившееся дисциплинарное членение науки*****.
* См.: Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981. S. 19-20.
** О единстве дисциплины социологии см. статью Г. Вагнера в настоящем издании.
*** «В качестве научной дисциплины, которая не может опереться на надежные, безусловно признаваемые всеми специалистами аксиомы, социология вновь и вновь бывает вынуждена удостовериться в своих «традициях». Таким образом, рецепция «классиков» социологического мышления в большинстве случаев имеет в виду нечто большее, нежели простое сохранение музейных фондов - ведь понятия, теории и постановки проблем, получившие выражение в классически образцовых трудах, функционируют как сложная среда взаимопонимания [социологов] внутри [их] профессионального мира». (Wagner G., Zipprian H. Zur Einfiihrung // Max Webers Wisenschaftslehre. Interpretation und Kritik / Hrsgg. v. G. Wagner und H. Zipprian. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1994. S. 9.). См. также: Alexander J. C. The Centrality of Classics // Social Theory Today/ Ed. by A. Giddens & J. H. Turner. Stanford (Cal.): Stanford University Press, 1988. P. 11-57.
**** Специалисты по истории социологии хорошо знают, насколько далеко можно проследить линии идейной преемственности. В новейшей отечественной литературе см.: История теоретической социологии / Под Ред. Ю. Н. Давыдова. Т. 1. М.: Наука. 1995.
***** У социологии классического периода свои классики, далеко не те же самые, кого мы привыкли считать классиками сейчас. См.: Con nel R. W. Why is classical theory classical? // American Journal of Sociology. 1997. Vol. 102. № 6. P. 1511- 57 (1512 ff, 1542 f)- Ср. также: Collins R. A sociological guilt trip. Comment on Connel // Ibid. P. 1558-64.
Разумеется, размышляя о начале социологии можно принимать во внимание не только и не столько определенным образом квалифицируемые тексты, сколько институциональный аспект ее формирования*. Обсуждение, т. е. реальная тематизация тех или иных текстов в научной коммуникации, происходит в более или менее сложившихся институциональных рамках и ведет не к тотальному обновлению, но к частичному изменению организации науки как совокупности дисциплин. Классическими в сегодняшнем смысле (при всех разногласиях относительно списка классиков) в классический (в сегодняшнем смысле) период оказываются те работы, которые в конечном счете (т. е. уже много позже их публикации) начали задавать характер коммуникации, изначально структурированной вниманием к совершенно иным сочинениям. Нынешнее внимание к классикам продолжает именно эту традицию, но мы хорошо понимаем относительность, преходящий характер самой традиции, а это заставляет сомневаться в безусловности любого, сколь бы то ни было обоснованного списка классиков**.
* См., например: Manicas P. A History and Philosophy of the Social Sciences. Oxford: Blackwell, 1981. Ch. 1. Маникас говорит о том, что в узком, научно-институциональном смысле социология оформилась в течение, примерно, полувека, с середины 1880-х по середину 1930 гг., когда появились кафедры социологии, научные журналы и ассоциации социологов, между тем как становление социальной науки растянулось на гораздо более продолжительный период, исчисляемый несколькими столетиями. Об истории американской социологии, с точки зрения ее институционализации, см.: Turner S. P., Turner J. H. The Impossible Science. An Institutional Analysis of American Sociology. Newbury Park, Cal.: SAGE, 1990. О том, насколько неудовлетворительным может быть чисто институциональная ориентация историка социологии см.: Schelsky H. Zur Entstehunggeschichte der Bundesdeutschen Soziolo-gie. Ein Brief an Rainer Lepsius // KZfSS. 1980. Jg. 32. Hft. 3. S. 418 f.
** Об искусственном характере господствовавшего после второй мировой войны консенсуса в теоретической социологии см.: Bourdieu P. Epilogue: On the Possibility of a Field of World Sociology // Social Theory for a Changing Society / Ed. by Bourdieu P. and Coleman J. S. Boelder, Col.: Westview Press, 1991. P. 376 «ff. Бурдье характеризует последовавшие изменения как исчезновение социологического nomos'a (в старом греческом смысле слова, как способа видения и деления) и возникновение настоящей аномии несогласных между собой школ.
Исторически возникшее знание требует иного и более мощного оправдания, нежели ссылка на тот факт, что родоначальники социологии обладают особым статусом (который им приписывают сегодняшние авторы, сформированные в русле этой самой традиции). И наоборот, принимая «список классиков», существующий здесь и сейчас, мы принимаем не просто исторически значимый результат, но и то представление о социологической теории, которое предполагает такое отношение к таким классикам. Достаточно ли нам этого?
Знание должно что-то означать для общества здесь и сейчас, и если апелляции к классикам научно и общественно успешны, то действенность самой традиции также есть симптоматический социальный факт: нечто в обществе продолжает оставаться таким же, как в классические времена, классики не кажутся архаичными - кому? в каком отношении? - и, главное: где? Вот вопрос вопросов, к которому мы ниже еще вернемся.
Подойдем, однако, к делу с другой стороны. Предположим, что общество - это совокупность структурированных (т. е. совершаемых по установленным, хотя и постоянно обновляемым образцам) взаимодействий*. Тогда отсутствие в нем теоретической социологии означает только, что среди этих взаимодействий не выделяются, не «выгораживаются» определенного типа коммуникации**, которые принято называть теоретической социологией.
Такой способ рассуждения таит в себе не один подвох. Если наше основное понятие - «взаимодействие»***, то можно задаться вопросом, где обрывается взаимодействие, что именно его обрывает и с какой точки зрения оно должно считаться продолжающимся или прерванным. Ибо если оно есть везде, то «регулятивный мировой принцип», как называет его Зиммель****, теряет значение дифференцирующего признака, а если не везде, то сомнительной оказывается его универсальность.
* Под этой формулировкой (она специально дана в самом общем виде) в той или иной форме могли бы подписаться самые разные современные теоретики.
** Здесь мы уже отождествили взаимодействие и коммуникацию, что, конечно, далеко не самоочевидно.
*** Стоить вспомнить, что это фундаментальная категория Г. Зиммеля, хотя сегодня далеко не всякий теоретик, пишущий о взаимодействии, опирается именно на Зиммеля.
**** В качестве «регулятивного мирового принципа мы должны принять, что все со всем находится в каком-либо взаимодействии» (Simmel G. Ueber sociale Differenzierung. Gesamtausgabe / Hrsgg. v. O. Rammstedt. Bd. 2 / Hrsgg. v. H.-J. Dahme. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1989. S. 130. В русском переводе: Зиммель Г. Социальная дифференциация // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. М.: Юрист, 1996. С. 314).
При всей абстрактности такого рассуждения его легко применить к достаточно популярной концепции «мирового» или «глобального» общества. Получить эту концепцию на уровне элементарного рассуждения очень просто. Если мы скажем, что вот такое-то общество (система, социальный порядок и т. п.) есть совокупность одних взаимодействий, а другое общество, соответственно, совокупность других, то логично будет продолжить рассуждение, рассмотрев взаимодействие между этими обществами. Либо оно есть, либо его нет. В наше время полная изоляция выглядит, скорее, как редкость, исключение и, кажется, вообще вряд ли возможна. Но взаимодействие между обществами - это тоже взаимодействие. Значит, напрашивается и более общее понятие взаимодействия и более общее понятие общества. В конце концов, так можно дойти и до понятия мирового или глобального общества. А глобальному обществу должна была бы соответствовать и глобальная социология. Пусть даже она не будет вполне единой. Если имеется ряд образцов, по которым коммуникации структурируются как теории общества, а среди последних - хотя бы несколько образцов структурирования коммуникаций как эпизодов теоретической деятельности именно социологов, то главное состоит не в том, могут ли быть согласованы между собой такие эпизоды, а в том, что они вообще есть. Но насколько плодотворен такой путь?
Одним из первых социологов* о «мировом обществе» стал писать Н. Луман: «Мировое общество конституируется не в силу того, что все большее и большее число лиц, несмотря на пространственное удаление, вступает в элементарные контакты между присутствующими. Так только дополнительно проявляется тот факт, что в каждой интеракции конституируется некоторое «и так далее» иных контактов партнеров, причем возможности [этих контактов] доходят далее до всемирных переплетений и включают их в регуляцию интеракций***.
* Самой ранней из новейших публикаций такого рода считается статья У. Мура. См.: Moore W. E. Global Sociology. The World as a Singular System // AJS. 1966. Vol. 71. P. 475-482.
** Luhmann N. Soziologische Aufklarung 2. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975. S. 54.
Правда, в поздних публикациях Луман не только не причислял себя к сторонникам концепции «глобального общества», но критиковал их, в первую очередь, потому, что эти теоретики, как ему казалось, недооценивают масштабы «децентрализованнойи сопрягающей всемирной коммуникации «информационного общества»*. Так, в частности, он оценивал подход Э. Гидденса. Гидденс определяет глобализацию как «интенсификацию всемирных социальных отношений, которые связывают удаленные друг от друга местности таким образом, что происходящее на местах формируется событиями, происходящими за много миль отсюда, и наоборот»**. Это уже далеко не то же самое, что преимущественно имеют в виду теоретики «международной социальной системы» или «международного общества» (будь то социологи или специалисты по международным отношениям***), и лишь отчасти описывает (если вообще соглашаться с ней) концепция мировой системы И. Уоллерстай-на****. Гидденс рассматривает глобализацию в четырех измерениях: как (мировую) систему национальных государств, мировую капиталистическую экономику, мировой военный порядок и международное разделение труда*****, не забывая, конечно, и о глобальном воздействии современных средств коммуникации, которые, скорее, на уровне некоторых специфических контекстов (например, международный валютный рынок), нежели на уровне общего культурного сознания, приводят к образованию совокупных ресурсов знания******.
* См.: Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997. S. 31 f. Ср. также в настоящем издании: Луман Н. Теория общества. С. 220.
** Giddens A. The Concequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1990. P. 64.
*** См., напр.: Parsons Т. Order and Community in the International Social System// Parsons T. Politics and Social Structure. N.Y.: The Free Press; L: Macmillan, 1969. P. 292-310; Luard E. International Society. Basingstoke and L.: Macmillan, 1990.
**** См.: Wallerstein I. Societal Development, or Development of the World-System? // International Sociology. Vol. 1. № 1. P. 3-17. В русском переводе: Уоллер-стейн И. Общественное развитие или развитие мировой системы? // Вопросы социологии. 1992. № 1. С. 77-88. Критический анализ см. в статье: Burch К. Invigorating World System Theory as Critical Theory: Exploring Philosophical Foundations and Postpositivist Contributions // Journal of World-Systems Research. 1995. Vol. 1,№ 18 (Электронная версия: http://csf.colorado.edu/wsystems/jwsr.html).
***** См.: Giddens A Op. cit. P. 71.
****** tm.: Ibid. P. 77 f.
Этот последний аспект чрезвычайно важен. Действительно ли в каждом взаимодействии имплицировано всемирное «и так далее», как это прописано у Лумана, или реальность глобализации приходится наблюдать на уровне определенных социальных образований (квалифицировать которые мы пока не беремся), причем глобальное знание сосредоточивается у сравнительно узкого круга участников особых международных взаимодействий (например, валютных сделок)? Гидденс, называя измерения глобализации, во всяком случае, обходит вопрос, до какой степени знание о глобальных взаимозависимостях (отрицать которые вряд ли кто взялся бы) действительно входит в повседневное проектирование поведения человеком, чей горизонт познаний нередко весьма узок.
М. Фезерстоун ставит проблему новой глобальной культуры, которую социология еще не может толком описать, ибо придерживается старых, связанных с национальным государством схем, а ведь «возникновение и развитие социологии - и это признается все более широко - в высшей степени определялось возникновением современного национального государства, тем специальным случаем, когда особенные характеристики процесса национальной интеграции были обобщены в модели социальной интеграции, в которой общество становится главной системой координат для социологии»*. Для «глобальной культуры», которой отнюдь не свойственно такого рода национально-государственное единство, обычные понятия социологии уже не годятся. Но кто и как репрезентирует и постигает эту культуру1} Вместе с тем, как показывает Г. Вагнер**, понятие мирового, или глобального общества (оттенки значений в данном контексте не существенны), поскольку в нем акцентируется момент всемирной взаимосвязи, не отличается новизной. Явления этого рода фиксируются социальными учеными с давних пор. Однако, в наши дни в этом понятии акцентируется также и момент небывалого прежде социального единства мира, а не просто мирового хозяйства.
* Featherstone M. Global Culture: An Introduction // Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. A Theory, Culture & Society special issue / Ed. by M. Feather-stone. L.: SAGE, 1990. P. 3.
** См.: Wagner G. Die Weltgesellschaft. Zur Kritik und Uberwindung einer so-ziologischen Fiktion. Ms. Bielefeld, 1997.
И в таком виде понятие глобализации стало популярным, в основном, благодаря усилиям сравнительно узкого круга влиятельных теоретиков, впечатленных, возможно, не только политическими или экономическими тенденциями современной жизни, но и новым пространственным видением мира в его слабо расчлененном единстве, которое стало формироваться к концу 60-х - началу 70-х гг., между прочим, благодаря все более частым и ус-пешным космическим полетам (участники их, к которым было привлечено широкое внимание публики, часто говорили о том, что из космоса не видно никаких границ между странами и народами, Земля и человечество представляются едиными). Однако социология, стремящаяся к таким унификациям, вряд ли сможет ответить на «вызов многообразия»*. Следовательно, дело не в том, чтобы вообще поставить под сомнение правомерность и плодотворность описаний глобализации**. Явления всемирной взаимосвязи нарастают, и оспаривать это нет резона. Но что это значит для социологии? Поучительны утверждения Э. Тириакь-яна, который не сомневается в низкой «международной компетентности» как американских элит, так и американских студентов-социологов на всех уровнях обучения, и даже большинства преподавателей социологии. «Международная компетентность», т. е. знание «мировой сцены», - это познания в мировой географии, демографии, истории, экономике, - и она здесь явно недостаточна, чтобы достойно ответить на «вызов интернационализации»***.
* См. Wagner G. Die Herausforderung der Vielfalt. Ms. Bielefeld, 1998.
** Одна из наиболее обширных концепций разработана Р. Робертсо-ном. См.: Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. L. etc.: SAGE, 1992.
*** См.: Tiryakian E. A. Sociology's great leap forward: the challenge of inter-nationalisation // Globalization, Knowledge and Society / Ed. by M. Albrow & E. King. L. etc.: SAGE, 1990. P. 63 ff.
Поясним существо проблемы на небольшом примере. Допустим, что, желая удостовериться в существовании глобальных феноменов, наш соотечественник поутру выпивает чашку бразильского кофе, сваренного в немецкой кофеварке, надевает американские джинсы, итальянскую рубашку, шотландский свитер и португальские ботинки, смотрит по японскому телевизору новости CNN и отправляется в Скандинавию на международную конференцию по проблемам глобализации, расплатившись за билет кредитной карточкой международной системы «Visa». Разумеется, на вопрос, что здесь глобального, он мог бы ответить вопросом же: «А что здесь не глобально»? Проще всего было бы сказать, что жизненные стандарты одной или нескольких групп людей не могут служить убедительным показателем общей тенденции. На это возможен контраргумент: всегда бывает так, что какой-то образ жизни сначала становится привычным для немногих, а потом оказывается чуть ли не всеобщим достоянием.
Иначе говоря, со временем не только сто пятьдесят миллионов жителей России, но и миллиард жителей Китая и захотят, и смогут посетить Лувр, хотя бы даже и не одновременно. Эта перспектива кажется, конечно, сомнительной. И, вероятно, следующий аргумент, с точки зрения сторонника глобализации, мог бы быть таким: конечно, все китайцы в Париж (если предположить, что он и впредь останется глобально значимым центром) не поедут, однако, познакомятся с новостями европейской жизни благодаря телевидению. Здесь, пожалуй, стоит вспомнить о том, что не то что поголовно все жители Китая, а самые что ни на есть просвещенные американцы, согласно Тириакьяну, отнюдь не обладают должной «международной компетентностью», хотя и могут, видимо, найти на карте Париж не только в штате Техас. И это не следует понимать слишком упрощенно: пробелы в образовании, когда речь идет о профессиональных обязанностях, восполнить можно. Но что именно должно побудить вьетнамского крестьянина посвятить свой досуг новостям политической жизни Бразилии, видимо, предстоит еще выяснить. Слишком просто было бы сослаться на то, что экономический кризис в той же Бразилии может иметь весьма чувствительные последствия для миллионов людей по всему миру. Куда более чувствительные последствия для того же крестьянина имели, например, всего четверть века назад американские бомбардировки, однако это обстоятельство обычно не приводится как пример мировых взаимосвязей.
На это, наконец, можно возразить, что даже если означенному крестьянину и нет дела до политической или культурной жизни далеких стран, то у него вполне может - рано или поздно - появиться и корейский телевизор, и индонезийские джинсы, и русский компьютер. И если его благосостояние уже сейчас может оказаться в прямой связи и с колебанием курсов валют, и с далекими от него политическими событиями, то со временем у него появится возможность не просто информационно-смыслового взаимодействия, но и рефлексии по поводу собственного участия в несомненных явлениях глобализации*.
* Их все-таки во многих случаях не стоит переоценивать. Эмпирические исследования показывают, что о явлениях глобализации публично высказываются куда больше, нежели для этого есть основания в фактических тенденциях. См.: GerfiardsJ., Rossel J. Bestimmungsgriinde und Folgen der Transnationalisierung verschiedener Kommunikationsgemeinschaften der Gesellschaft. Vortrag in der Plenarveranstaltung «Strukturwandel von Kommunikationsgemeinschaften». SoziologenkongreB in Freiburg, 14-18 September 1998. S. 18.
Как мы видим, дело не во взаимосвязях самих по себе, даже если взаимосвязаны действующие и действия, отстоящие друг от друга на значительные, прямо-таки глобальные расстояния. Дело в том, каков характер взаимосвязей. Разумеется, русский социолог, надевший американские джинсы, может с полным правом утверждать, что вступил во всемирную связь потребителей и производителей одежды. Но связь эта все-таки в известном смысле односторонняя. И не потому, что на стороне одного производство, а другого - потребление (если американец создал для меня одежду, то я для него - рабочее место), но потому, что вообще ношение джинсов на, скажем, научных конгрессах есть воспроизведение определенного образца поведения, стиля жизни, созданного и заданного в одном месте и воспринятого в другом. Эта роль продуцентов и трансляторов, на стороне одних, и сознательных или бессознательных реципиентов, на стороне других, является одним из наиболее проблематичных аспектов теоретических рассуждений о мировом обществе. Однако, не менее, если не более, характерными, чем явления всемирной трансляции определенных образцов, оказываются более сложные явления «гибридизации», «креолизации», если воспользоваться известным термином У. Ханнерца, т. е. сложного смешения, скрещения культур и стилей жизни*. Можно, правда, рассматривать именно эту «гибридизацию» как глобальный феномен, но глобальный феномен многообразия гибридизаций не тождествен глобальности как смыслу, непосредственно проживаемому самими участниками этих взаимодействий. Как социологи мы должны держать в поле зрения собственную смысловую жизнь людей. Тогда нам придется выяснять и то, понимают ли они характер отношений, в которые вступают повседневно и повсеместно**, и роль воспроизводимых, транслирующихся и воспринимаемых культурных и поведенческих образцов, и тот взгляд на мир (возможно, отнюдь не глобалистский), который предлагают и даже навязывают своим приверженцам новые гибридные культуры.
* cm. : Hannerz U. Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning. N.Y.: Columbia University Press, 1992.
** И что значит: понимают? Понимают адекватно? Но адекватно чему? Той точке зрения, которую мы выставляем как более истинную, поскольку она де подкреплена наукой? А почему именно в нашем случае социальная наука или, по меньшей мере, те, кто на нее ссылается, не окажутся столь же несостоятельными, какими они уже не раз были в этом веке?
Наконец, весьма заметны и важны тенденции, которые упрощенно можно было бы назвать «локалистскими». Точнее, по аналогии с «анти-модерном» (термин У. Века), речь должна идти об «антиглобализме», если понимать под этим направленное, планомерное противодействие глобализации, происходящее именно и только в контексте уже состоявшегося мирового взаимодействия*.
* См.: Beck U. Die Erfmdung des Politischen. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1993. S. 100 ff. «Антимодерн» (Gegenmoderne), говорит Бек, не есть нечто старое, вневременное и т. п., но представляет собой проект и продукт модерна, это «продуцируемая и могущая быть продуцируемой несомненность» (S. 101-102). Иными словами, упрощая до крайности весьма тонкое рассуждение Бека можно сказать, что если модерн - это рассудок и рассудочная рациональность, то антимодерн - это сильные чувства (любовь, ненависть, страх), сознательный выбор инстинктивного, активного поведения, восстановление ритуалов, табу, традиций, новое освящение расколдованного мира и новая вражда и ставка на силу там, где победила идея разумного разговора и договора. (Нечто отчасти сходное фиксирует, хотя и в ином контексте, М. Маффесоли, говорящий о «чудесном», «божественном» социальном. См.: Маффесоли М. Околдованность мира или божественное социальное // Социо-Логос. Вып. 1. Общество и сферы смысла. М.: Прогресс, 1991. С. 274-283.) Маффесоли также одним из первых начинает говорить об образовании неоплеменных общностеи. См.: Mafleso-li M. Les temps des tribus. Paris: Klincksieck, 1988. Точно так же и антиглобальность - это выбор в пользу локального в противоположность всемирному, но выбор в контексте мировых связей, выйти за пределы которых уже невозможно.
Итак, мы различаем:
1. Объективно существующие мировые взаимосвязи, в чем бы они ни заключались.
2. Собственно взаимодействие пространственно удаленных участников всемирных коммуникаций, т. е. взаимосвязи, поскольку они «пропущены» через собственную смысловую жизнь действующих.
3. Устойчивые смысловые элементы, в том числе (при всей неопределенности этого понятия) культурные образцы глобализации как важнейшую составляющую собственной смысловой жизни действующих.
Пункт 1 должен вызвать наименьшие споры, хотя важные параметры (в том числе эмпирически измеримые) объективной глобализации еще предстоит выяснять и уточнять с точки зрения разных дисциплин и подходов. Пункт 2 подводит нас ближе к социологической проблематике в более узком смысле слова, ибо речь здесь идет о взаимодействиях, предполагающих исследование собственно смысловой жизни их участников.
Обратим внимание на то, что действующие рассматриваются как пространственно удаленные друг от друга (иначе бессмысленно говорить о глобализации). Таким образом, в рассуждения вторгается несколько сугубо количественных моментов, коварных в своей неопределенности. Какое количество километров должно считаться достаточно большой удаленностью, чтобы взаимодействие попадало в разряд глобальных? Достаточно ли раз в году поговорить по телефону из Киева с родственником в Аргентине, чтобы считаться участником глобального взаимодействия? Что еще, кроме удаленности и частоты взаимодействий с удаленными партнерами, принимается в расчет при характеристике взаимодействия как глобального? Вот почему неизбежно обращение к пункту 3. И здесь мы сталкиваемся с тем самым принципиальным вопросом, о котором речь уже несколько раз заходила выше: является ли взаимодействие удаленных друг от друга действующих «глобальным» для эксперта-наблюдателя или оно таково для них самих по самому смыслу взаимодействия? И если мы даже говорим о глобальном обществе и глобальной культуре не с точки зрения нового единства*, но с точки зрения нового многообразия, то предполагаем ли мы тем не менее, что в основе наших рассуждений лежит фундаментальное различение: (просвещенный и) просвещающий социолог и непросвещенные действующие? Иными словами, не выглядит ли уверенность в том, что подлинное значение глобализации со временем откроется всем, кто сегодня еще прозябает во тьме невежества, как очередной вариант той самой веры в прогресс и конечное единообразие общества, которое отличает достаточно традиционные способы социологического (и не только) рассуждения? И есть ли у нас полная уверенность, что в таком случае мы вовсе не присоединяемся к числу посвященных в тайны прогресса, но, скорее, опять-таки воспроизводим - теперь уже в «теоретических» рассуждениях - успешно транслированный нам, но не нами созданный образец?
* Мировое общество, говорит У. Бек, характеризуется «экономической взаимозависимостью, соединением через сети средств коммуникации, пространственной мобильностью и культурной стандартизацией». См.: Beck U. Op. eit. S. 122. Но стоит ли конструировать социальные фикции, подменяя глобальное единство глобальной распространенностью? См.: Wagner О. Die Weltgesellschaft. Op. cit. S. 12. (См. здесь же отсылку к принципиально важным суждениям Р. Корфа: Korff R. Die Weltstadt zwischen globaler Gesellschaft und Lokalitaten // Zeitschrift fur Soziologie. 1991. Hft 4. S. 357-368.).
Во всяком случае, «глобальное», «мировое» общество - это, в принципе, возможная, но далеко не всякий раз самая лучшая, наиболее пригодная система координат для теоретика, подобно тому как и социология (см. цитированные выше рассуждения Фезерстоуна), в ее наиболее приближенном к классической традиции виде, - возможно, не лучший способ судить об объективно складывающихся мировых взаимосвязях. Заметим еще раз, что в мире всемирных взаимодействий далеко не вся социология ориентирована на глобальное общество - потому ли, что она все еще пребывает во власти старых представлений об обществе в территориальных границах государства, из-за недостаточной ли состоятельности исследователей в делах международных или просто потому, что мировое общество (по мнению ряда авторов), даже как общая система координат, далеко не лучшая, не самая плодотворная схема рассуждений для теоретика в мире не только едином, но и в высшей степени многообразном. И уж тем более сомнителен ее прогрессистско-просветительский пафос, который удивительным образом сказывается в самых простых описаниях: «Крестьянский участок земли, города кругом, [далее] регион, страна, континент и т. д. образуют в пространственном аспекте «потенциально достижимый мир»; во временном аспекте этому соответствует то, как протекает день, [затем] история [отдельной] жизни, [и, далее,] эпоха, а в социальном аспекте - референтные группы, начиная с семьи и, далее, община, нация и т. д. вплоть до «мирового общества»*.
* Habermas J. Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 2. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1981. S. 187.
Такое линейное расширение контекстов взаимодействия предполагается социологическими теориями, которые - при всех своих достоинствах - не могут в отношении основного их содержания (разве что - и с большой осторожностью - как образец) перениматься теми, кто (и если) именно в ограниченности своего опыта усматривает важнейшую социологическую проблему, вокруг которой так или иначе требуется центрировать принципиальные теоретические построения.
Мы начали это рассуждение с того, что в обществе, понимаемом как совокупность всех возможных взаимодействий, теоретическая социология есть особый род взаимодействия. С точки зрения глобального общества и глобалистской социологии, действительно, не важно, что теоретической социологии нет у «нас», потому что любое «мы» релятивировано тотальностью мирового взаимодействия.
Достаточно и того, что теоретическая социология существует в мировом обществе - «социология для одного мира», как сформулировала в свое время М. Арчер*. Надо отчетливо понимать, что именно мы (разумеется, в конечном счете, при последовательном продумывании) отвергаем, отказываясь от такой схемы. - Не только крайне привлекательное для интеллектуала представление о себе самом как наиболее просвещенном, знающем из современников, но вообще симпатичный образ свободно парящего апологета прогресса, друга мира, свободы и демократии, а также, разумеется, и общечеловеческих ценностей, задающих масштаб всех его рассуждений. Вместо безусловного знания безусловных приоритетов, одновременно представляющихся и ценностями, и подлинным направлением социальной эволюции, мы оказываемся в ненадежном мире, знание о фактическом многообразии которого (включая многообразие способов познания**) не есть знание ни о том, что познавать, ни о том, как познавать, ни о том, ради чего познавать. И уж меньше всего оно позволит ответить на главный вопрос: кому это нам?
* См.: Archer M. Sociology for One World: Unity and Diversity // International Sociology. 1991. Vol. 6. № 1. P. 131-147.
** Которое, с точки зрения «глобальной социологии», может привести к неплодотворному релятивизму: «...Согласие относительно того, что действующие живут в совершенно «различных мирах», принципы которых являются делом местной лингвистической конвенции, будет куплено Ценой отказа от любых сравнительных исследований». (Archer M. S. Resisting the Revival of Relativism // Globalization, Knowldege and Society. Op. cit. P. 20).
Этот вопрос имеет как сугубо теоретический, так и практический смысл, поскольку затрагивает проблему коллективной идентичности и, следовательно, индивидуальных самоидентификаций отдельного человека. Именно с этой точки зрения нередко оценивают значение социологии. Можно рассуждать так, что - пусть не вся и не всегда - она представляет собой знание, одновременно и максимально приближенное к повседневным образам социальной жизни, и рационализированное. Не будучи «житейской мудростью» в традиционном понимании, она позволяет обычному человеку «научно» объяснять для себя происходящее, дистанцируясь и от идеологических схем, и от привычных, повседневных толкований.
Не как действующее научное предприятие, но как постоянно обновляемый запас знания* она является важным ресурсом индивидуальной рефлексии, самоидентификации и постольку - свободы. Мы еще увидим, насколько уязвимо в принципе такое толкование. Очевидно, однако, что и здесь мы должны решить, что означает отсутствие теоретической социологии в нашей стране и нельзя ли восполнить дефицит отечественных ресурсов за счет импорта идей, добавить к американской курице американскую социологию.
Вопрос слишком сложен и напрямую связан с замыслом настоящего издания. Очевидно, что публикации переводов (классических текстов или лучших работ лучших современных теоретиков) не изменят статуса социологической теории, а попытки имитировать переводами собственно теоретическую деятельность заведомо обречены на неуспех. Причина все та же. Социолог-теоретик, даже работая с самыми абстрактными понятиями, более или менее явно апеллирует к определенным образам социальности. В его понятиях схватываются не конкретные эпизоды опыта, но образы переживаемых событий социального. Образ социального - это нечто среднее между знанием конкретных событий** и абстрактной концептуальной схемой. Через образы социального происходит предварительный отбор того, что мы, с одной стороны, способны воспринять как событие, а с другой, - описать в понятиях. Именно поэтому одно только обращение к текстам, обязанным своим возникновением осмыслению иных, так сказать, не близких нам образов, представляет собой ресурс весьма ограниченный. Какие образы близки нам и уникальны, а какие - нет, до какой степени может и должно простираться заимствование, вообще стоит ли в каждом конкретном случае рассматривать заимствование как проблему - это вопрос, который не поддается метатеоретическому разрешению.
* Знания более абстрактного и менее специфичного, но, в принципе, более достоверного, нежели обыденное, ибо оно подвергается критике и обсуждению по все еще значимым правилам научной дискуссии; знания более «объемного» - ибо социальная наука представляет собой также институционализированную и непрерывно культивируемую традицию.
** См. у Парсонса понятие «событий действия» (Parsons T. The Structure of Social Action. N.Y. and L.: McGraw-Hill, 1937. P. 45). Луман говорит о «событиях коммуникации». См.: Luhmann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1988. S. 52.
Проблема взвешенного распределения акцентов в теоретической деятельности между стандартами той или иной степени универсальности и ориентацией на уникальный опыт не может быть решена априорно, помимо самого исследования, продуктивностью которого только и доказывается тот или иной вариант решения. Мы рискуем только высказать здесь некоторые предварительные замечания.
Подобно тому, как сомнения относительно радикального глобализма не стоило бы понимать в том смысле, что фактически влияние мировых событий на нашу жизнь ничтожно, так и утверждение, что в понятиях социологической теории должны быть схвачены уникальные образы социальности, не предполагает отрицания некоторых универсальных критериев, согласно которым знание признается или не признается научным и, далее, именно социологически научным. Существует сложное отношение между непосредственным социальным опытом исследователя*, той научной традицией и интеллектуальной средой, на которую он ориентируется, и «мировыми», т. е. более или менее распространенными и признанными стандартами исследования. Вот простейшие примеры: «Протестантская этика» М. Вебера - признанная классика для большинства социологов во всем мире. Но возникнуть она могла - как хорошо известно и документировано специальными исследованиями - только в определенном месте и в определенное время**: именно в Германии, именно в Гейдель-берге, именно в начале века. Обретение этой книгой статуса классического сочинения означало вместе с тем становление определенных стандартов в социологии. Но и в момент своего появления она была сочинением, автор которого ориентировался на определенные каноны историографии и на методологические принципы признанной философии науки южно-германского неокантианства. Едва ли кто не различит за монументальной системой Т. Парсонса (даже в самых абстрактных ее формулировках) Соединенные Штаты эпохи «нового курса» и послевоенного процветания.
* Этот опыт отнюдь не тождествен рационально контролируемому, правильному научному опыту, а вопрос о том, насколько могут быть разделены между собой эти два вида опыта, опять-таки нуждается в отдельном обсуждении.
** Вопрос о личной гениальности ученого важен, но в связи с рассматриваемыми проблемами должен быть вынесен за скобки. Об исторических констелляциях, приведших к созданию «Протестантской этики», см.: Weber's Protestant Ethic: Origins, Evidence, Context / Ed. by Lehmarm H. and Roth G. Cambridge [USA]: Cambridge University Press, 1993.
Точно так же общеизвестно влияние на его методологию признанной философии науки А. Н. Уайтхеда. Примеров такого рода очень много, а случаев успешного перенесения иноземных концепций на другую почву в неизменном виде практически нет. А отсюда следует сначала очень простой вывод: до тех пор, пока политические границы сохраняют свое радикальное значение, ограничивая особую территорию социального, полноценная социология в той или иной стране возможна лишь при условии, что, по меньшей мере, там предпринимаются попытки сформировать свою собственную фундаментальную теорию с учетом собственного уникального опыта и признанных стандартов философии и методологии. Здесь лишь необходимы следующие ограничения: (1) при формировании фундаментальной теории невозможно пренебрегать принципиальным эмпиризмом социологии (несколько переиначивая известную формулу Л. Ранке, некогда примененную к истории: требуется выяснить, как это есть в действительности). Именно поэтому мы признаем некоторые принятые шаблоны исследования (хотя бы они и различались у разных школ; иными словами, пусть те или иные, но шаблоны, господствующие образцы). (2) Невозможно игнорировать фактически завершающееся в современной социологии разделение труда и выделение работы с социологическими понятиями в особую область деятельности. Таким образом, фундаментальная теория, подобно эмпирическим исследованиям, ориентируется и на уникальные образы, и на принятые образцы. Если даже нами движет желание способствовать самопониманию именно нашего общества, но желаем мы именно социологии, то наши описания должны быть произведены согласно некоторым образцам. А поскольку никакой иной теоретической социологии, кроме как на Западе, не существует, то становление теоретической социологии, где бы оно ни происходило, предполагает постоянную ориентацию на «западный образец» (т. е. на один или несколько из западных образцов). Иначе говоря, теоретические коммуникации по поводу «нашей страны» (лишь тогда они могут стать наукой) оказываются социологическими (т. е. совершенно определенной наукой), только если подключаются к «западным»*.
* Об опасности изоляционизма лучше напоминать тогда, когда дела еще не так плохи. Характерный пример: в 1955 г., предваряя небольшой сборник переводов Г. Зиммеля, Э. Хьюз писал, что американцы, родной язык которых - английский, не склонны учить другие языки. Поэтому переводы редки, а с прекращением потока иммигрантов из Европы лингвистическая изоляция станет еще более ошеломляющей. Мы весьма зависимы от переводов, говорит он. «Основная интеллектуальная опасность этой зависимости заключается в том, что мы, американцы, часто просто не будем знать работы, написанные на других языках. Меньшая опасность состоит в том, что мы будем принимать переведенную часть за целое, за всю концепцию того или иного ученого.» (Hughes E. H. Foreword// Simmel G. Conflict and The Web of Group Affiliations. N.Y.: The Free Press, 1955. P. 7.)
Однако этой - достаточно очевидной - констатацией далеко не исчерпывается существо проблемы. Социальная наука (может быть) важна для (повседневной) индивидуальной рефлексии (если и поскольку эта последняя сопровождает, а скорее, завершает или предваряет поведение*) отнюдь не только в силу качества самого знания (научного, в противоположность обыденному мнению). Здесь еще играет роль, во-первых, то, каков статус самой научности в обществе и культуре и, во-вторых, насколько реализован в обществе принцип социального государства. Эти моменты взаимосвязаны далеко не очевидным образом.
Мы говорили, что теоретическая социология есть в известном смысле знание обществом самого себя**.
* В момент действия, говорит А. Шютц, реализуется проект, после действия происходит его осмысление, включая попытку понять собствен ный мотив, но сам момент действия не членится на исполнение и рефлек сию. См.: Schutz A. Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt (1932). Frankfurt a.M: Suhrkamp, 1981. S. 111-136.
** Это, между прочим, находит отражение в Названии последней книги Лумана: «Общество общества». Социология принадлежит обществу, ибо является одной из систем его коммуникаций. См.: Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Op. cit.
Тогда отсутствие в обществе научного знания о нем самом можно также трактовать не просто как недостаток знания, но как отсутствие внятно очерченной инстанции «критической рефлексии». Отсутствие теоретической социологии как «самосознания» общества (при всех ограничениях, налагаемых на использование данной терминологии) означает, что общество не дистанцировано от самого себя. Его жизнь (будь то функционирование социальной системы, события коммуникаций или индивидуальные акты) происходит по большей части непосредственно. Оно, как мы сформулировали выше, спонтанно и невменяемо. Столь очевидное, в том числе и для многих социальных ученых, обстоятельство способно побудить их к более оптимистичным заключениям, например, следующего рода. Теоретической социологии, вообще фундаментальной социальной науки (точнее как социология не квалифицируемой), правда, нет, но потребность в ней ощущается, а это означает перспективу возможного изменения самого общества. Иными словами, теоретизирующий интеллектуал самой своей рефлексией может менять общество. Мысль есть действие.
Однако должны ли мы удовлетвориться столь оптимистичным умозаключением? Дело даже не в том, что не всякое самодистанцирование общества, появление в нем инстанции рефлексии есть социология и что далеко не все, кто ощущает потребность в ней, суть социологи. Дело даже не в том, что сомнения вызывает проявляющаяся лишь в последние годы дистанцированность интеллектуалов, не отошедших, но, скорее, отодвинутых от заметных, наблюдаемых ролей в обществе, т. е. от позиций, которые они привыкли занимать с начала наших несчастных реформ. Во всяком случае, в отношении социологии это не вызывает ни сожаления, ни изумления. Как бы ни оценивать вклад каждого ученого по отдельности (а отрицать успехи отдельных ученых у нас нет оснований), в основном, наша социальная наука пережила бесславное десятилетие. Интеллектуалы сменили привычную фронду (в лучшем случае) по отношению к старому режиму на (притворившееся наукой) идеологическое обеспечение нового порядка и опомнились только тогда, когда этому последнему стала не нужна от них даже такая малость.
Правда, если это и ставит под сомнение моральную состоятельность критической дистанции, то само по себе еще отнюдь не означает ее социальной и теоретической несостоятельности. Но главное в другом. Ведь «дистанция» и «критическая дистанция» - далеко не одно и то же. Интеллектуал, критиковавший «реальный социализм» за подавление свобод и малую эффективность, совершенно неоправданно смешивал два рода знания: «инструментальное» и «освободительное», «эмансипаторное». «Если гражданину препятствуют искать своего благополучия угодным ему образом, только бы оно было совместимо со свободой других, то сдерживают жизнеспособность всего предприятия, а тем самым опять-таки силы целого». А потому посягательство на гражданскую свободу (включая свободу духовного самоопределения) означает ослабление торговли и ремесел и ослабление государства*. Эта благородная уверенность Канта, а вместе с тем и вся традиция от Маркса до Хабермаса, быть может, и хороша, однако «великий проект Просвещения» кажется, не получает у нас большого успеха.
* Kant I. Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlieher Absicht // Kant I. Werke-Zweisprachige deustch-russische Ausgabe / Hrsgg. v. N. Motroschilova u. B. Tusehling. M: Kami, 1994 S. 112. Здесь же русский перевод: С. 113. Перевод исправлен.
И вряд ли это случайно. Даже если сделать вид, будто не замечаешь принципиального различения, по меньшей мере, указанных двух, если уж не трех родов знания*, следует отдавать себе отчет в том, что критическая установка предполагает довольно значительную левизну теоретика.
* Триады М. Шелера («знание ради господства», «знание ради образования», «знание ради спасения») и Ю. Хабермаса («эмпирическое и аналитическое», «герменевтическое и историческое», «критическое и эман-сипаторное» познание) хорошо известны. По времени им предшествовали в нашем веке проницательные рассуждения С. Н. Булгакова. См. об этом: Сапов В. В., Филиппов А. Ф. «Христианская социология» С. Н. Булгакова // Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М.: Наука, 1990. С. 369-380.
Между тем, «критический», освободительный пафос обернулся у многих социальных ученых надеждами на «капитализм». Однако эмансипация от капитализма (даже от «позднего») и эмансипация от социализма (даже от «реального») противоположны друг другу, как бы ни скрывалось это обстоятельство разного рода маскировочными приспособлениями вроде «борьбы с отчуждением», «преодоления командно-административной системы» и «разоб лачения бюрократии», которое после нескольких лет просветительской работы социальных ученых сошло на нет так быстро и так бесславно. А ведь реальное крушение реального социализма оказалось и ударом по социальным позициям западной социальной науки. В мире исчезает фактическая альтернатива западному социальному государству, а значит, исчезает и историческое оправдание этого последнего. Ведь подобно тому, как появление социализма, именно в самых тяжелых, тоталитарных его формах, стало вызовом капитализму, а ответом на него - социальное государство, предмет вожделений и недосягаемых мечтаний для большинства наших соотечественников (включая самых ученых и просвещенных), так и крушение социализма ставит под сомнение продолжение социального государства как дорогостоящего предприятия. Оставляя в стороне вопрос, может ли оно и впредь столь успешно существовать там, где когда-то зародилось, мы вправе предположить, что мероприятия развитых стран по обеспечению лояльности собственного населения не распространяется на весь мир.
Социальное государство, заметим еще раз, слишком дорогое удовольствие, его хватает только на немногих. Оно реально замыкается от остального мира, укрепляет границы, а не распахивается навстречу «мировому обществу», что мы и наблюдаем повсеместно в самых разнообразных формах, от ужесточения режимов въезда и иммиграции в благополучные страны до ограничений на поселение в Москве.
Между тем, социальное государство - это не просто обязательства государства поддерживать определенный уровень благосостояния граждан. Это также особая роль социальной науки. Обязательства государства должны быть сбалансированы с его возможностями. Оно запускает, предвидит, предотвращает социальные процессы. Оно ориентируется не на критерий физического выживания, но на фактически существующие, изменчивые притязания и мотивы. Оно не доверяется «стихии», оно планирует*. И, разумеется, ему для этого нужна - и оно поэтому ее поддерживает - независимая инстанция производства знания - наука. Но ученый не хочет быть просто технологом государства. Независимость науки и научного знания можно понять как способность не только давать государству средство, но и задавать цель. «Автономная коллективность» ученых оказывается общественностью**.
* См. классическую трактовку этого вопроса у К. Мангейма: Манхейм К. Диагноз нашего времени // Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 412-571; особенно гл. 1. Менее известен, но во многих отношениях не менее продуктивен подход X. Фрайера. См.: Freyer H. Herrschaft und Planung. Zwei Grundbegriffe der politischen Ethik (1933) // Freyer H. Herrschaft, Planung und Technik. Aufsatze zur politischen Soziologie. Weinheim: VCH, Acta Humaniora, 1987. S. 17-44.
** Просветительскую идею научной общественности как «свободно парящей интеллигенции» мы находим у Мангейма.
Исторические судьбы либеральной идеи публичности, на которую Хабермас возлагает немалые надежды, прослежены в знаменитой книге: Habermas J. Strukturwandel der Offentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der burgerlichen Gesellschaft. (1962) 5.Aufl. Neuwied und Berlin: Luchterhand, 1971. Взаимосвязь идеи научности с идеей обращенных к государству притязаний «от имени человечества» показывает Ж.-Ф. Лиотар. См.: Lyotard J.-F. La condition postmoderne. Rapport sur le savoir. Paris: Minuit, 1979. В русском переводе см.: Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 1998. С. 89. Перевод примечания 119 на указанной странице испорчен неверным истолкованием publicite как реклама. На самом деле речь идет о взаимосвязи публичности выражения мнения и общественности как особой инстанции, что отражается в соответствующей многозначности немецкого Offentlichkeit.
Однако их способность задавать общую цель отнюдь не следует из их описаний и объяснений, сколь бы адекватны они ни были*. Точнее говоря, она не следует вообще ни из чего. И это относится не только к позитивным наукам о природе, но и ко всему корпусу социальных наук. Но если с дискредитированной способностью социальных ученых указывать цели и выставлять претензии (научные и «общечеловеческие» одновременно) все более или менее ясно, то их технологическая избыточность при распаде социального государства начинает у нас только проявляться и недостаточно серьезно обозначена лишь потому, что одни социальные обязательства являются неизбежной принадлежностью любого современного, а не только развитого благополучного государства, а другие еще остаются как пережитки прошлых времен. Агония социального государства есть также агония социальной науки как социальной технологии, которая лишь до некоторой степени зависит от теоретической, фундаментальной социологии. На Западе редукция социальных обязательств государства всякий раз способствовала полевению ущемленных ученых. Однако оно все равно оставалось реальным гарантом существования не только технологически ориентированной, но и критической по отношению к нему науки**. В этом виде она может быть хотя бы отчасти ориентирована на знание ради знания, в ней возможна (хотя и ей приходится все труднее) чистая теория. Но если социальная теория не может быть инстанцией, где формулируются общечеловеческие притязания, с точки зрения которых оценивается социальная жизнь и предписываются цели ее движения; если она не нужна государству ни как конкретное знание о многообразных социальных проблемах и процессах, ни как технология разработки эффективных социальных решений, то что тогда еще ей остается?
* Об этом очень внятно пишет тот же Лиотар. От Просвещения, говорит он, приходит «повествование об эмансипации», легитимирующее науку как истину, опирающуюся «на автономию собеседников, включенных в этическую, социальную и политическую практику. Однако ... [н]ичто не доказывает, что если истинно высказывание о действительности, то окажется справедливым также и прескриптивное высказывание, необходимым результатом которого будет ее изменение». Lyotard J.-F. Op. cit. P. 66. В русском переводе: Лиотар Ж.-Ф. Цит. соч. С. 96-97. Правда, Лиотар акцентирует различия в правилах языковых игр, которые не позволяют переводить дескриптивные высказывания в прескриптивные. На самом деле, если почистить терминологию, с ним согласились бы даже Юм и Кант. Интересно и плодотворно у него другое: анализ такой научности и такой публичности с точки зрения притязаний ученых и «просвещенной общественности» в современном государстве.
** Критическая теория и социальная технология противопоставлены здесь только как идеальные типы. Фактически социологи, занятые прикладным исследованием конкретных социальных проблем, вполне могут быть изначально ориентированы на критическую социальную теорию.
Чтобы ответить на этот вопрос применительно к нашей ситуации, полезно будет определить институциональное место отечественной социологии. Как наука, как чистое исследование она умирает и не много имеет шансов возродиться. Место ее пребывания - маркетинг (понимаемый в самом широком смысле в обществе, где требуется эффективно продать политиков и презервативы) и образование, поскольку оно еще не всецело становится образованием-для-маркетинга. Несмотря на все различия, существующие, казалось бы, между этими двумя областями приложения усилий со стороны социальных ученых, место и возможности теории, в общем, и тут и там одинаковы. Теоретическая социология создает ресурс возможных описаний общества*, которым могут воспользоваться и наемные технологи, и все те, кто в какой-то мере определяет свое (хотя бы только профессиональное) поведение с оглядкой на науку, т. е. в первую очередь преподаватели и студенты. В рамках университетов она оказывается не образованием-для, но просто образованием, тем знанием ради знания, для которого нет социального места в области исследований, но которое еще входит в канон университетского обучения. Конечно, мы не будем обольщаться: университеты не только у нас, но и по всему миру все больше становятся не столько местом собственно образования в традиционном смысле этого слова, сколько способом редуцировать безработицу среди молодежи, создать видимость дополнительных возможностей для социальной мобильности. И все-таки даже в такой форме они дают институциональный шанс социологической теории. А поскольку основная задача университета - не производство, но передача знания, занятия теорией, в принципе возможные, поневоле превращаются в любительское занятие профессионалов.
Ср.: у Вернера Зомбарта: «Все, что называют формальной социологией, есть не что иное, как выставление теоретических возможностей общественных отношений; напротив, под материальной социологией понимают осуществление таковых возможностей в истории. Я полагаю поэтому, что следовало бы совершенно отказаться от противоположения формальной социологии материальной и поставить на это место другое противоположение: теоретическая и эмпирическая социология, дополнив эту антитезу еще одною: общая и специальная социология». (Зомбарт В. Введение // Зомбарт В. Социология /пер. И. Д. Марку-сона. Л.; Мысль, [1926]. С. 11.
Ненужная теория обретает неожиданную свободу: она не обязана никому и ничем, она подлинно становится знанием из теоретического любопытства - и (хотя бы в минутной иллюзии самооценки) ничем больше.
Данное издание задумано не как «та самая», обещающая откровение если уж не последних, то хотя бы достаточно свежих истин, КНИГА, но именно и прежде всего как просто книга, как «одна из», как малая часть того массива публикаций, без которого невозможно нормальное существование науки. Она нужна прежде всего преподавателям и студентам - эта привычная, банальная формула имеет в контексте наших рассуждений совершенно определенный смысл: наша книга обращена к тем, кто занимает единственно возможное для социологической теории институциональное место. Но «теория» здесь мыслима только во множественном числе. Не планируя чего-то иного и большего, нежели сборник интересных переводных работ, мы все-таки рискуем заявить эту книгу не как продолжение, но как начало нового ряда изданий потому, что ее очевидная пестрота скорее отражает состояние коммуникаций, чем состояние концепций. Теоретическая социология (на своем институциональном месте) появится, если ориентация на актуальный образец как один из многих сосуществующих и соотносимых образцов научной коммуникации (как она выражена в публикациях) станет непременной составляющей исследований, идентифицируемых прежде всего по этой ориентации. Ориентация на образец коммуникации для создания шансов продолжить коммуникацию - вот о чем идет речь. Теоретическая социология - это еще одна возможность создания описаний, то самое конструирование понятий, которое отличает любую теоретическую деятельность. Публикация - не способ окончательного подведения черты, но продолжение текущей коммуникации и шанс для последующих.
Теперь снова вернемся к тому, что отсутствие теоретической социологии мы трактовали не только как собственно научную, сколько как социальную проблему. Появление теоретической социологии - тоже не только научный результат, но и социальное изменение, но отнюдь не потому что теперь-то общество - наконец - обретет орган мышления о себе самом. Социальное изменение нельзя с(т)имулировать одним только выпуском книг. И (даже в самом переносном смысле в этом сравнении, кажется, есть толк) общество не мыслит о себе само не только потому, что не может, но и потому, что не хочет. Дать возможность и пробудить волю - это совсем разные вещи. В чем же состоит шанс социолога-теоретика? В том, чтобы дать шанс обществу! Напомним, что «шанс» - важнейший термин в ключевых определениях Макса Вебера. Социальное отношение - это шанс, что состоится социальное действие. Шанс на регулярность социального действия в рамках определенного круга людей, когда он держится только силой привычки, - это обычай. Шанс на то, что участники отношения будут ориентироваться на представления о существовании легитимного порядка, называется значимостью этого порядка. Борьба ведется за шансы (распоряжения чем-либо или даже шансы на выживание). Власть и господство суть шансы навязать свою волю и обеспечить повиновение приказам*. Шанс социологии стать в обществе тем, чем она может быть, есть шанс общества на особого рода само-дистанцирование. Но самодистанцирование означает возможность самонаблюдения, отличения себя от иного, идентификации. Выше мы так или иначе ставили этот вопрос: о каком обществе, собственно, идет речь? Где границы этой социальности? Совпадают ли они и до какой степени с границами политическими? Что такое территория социальности? Как взаимосвязаны пространственный и временной аспекты этой идентичности? Должны ли различения быть всегда четкими и однозначными и не представляют ли куда большего интереса маргинальные феномены (и феномен маргинальности)? - Это только немногие вопросы, без рассмотрения которых дальнейшее движение социологической мысли представляется невозможным. Разработка этих тем неизбежно повлечет за собой новые и новые вопросы, столь же плотно взаимосвязанные...
Только так и может возникнуть теоретическая социология, социологическое самосознание нашего общества - как обширная, многообразная совокупность коммуникаций, как ряд претенциозных теорий. Воспользуемся ли мы этим шансом, покажет будущее.
август 1996 г. - февраль 1999 г.
* См.: Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. 5. Aufl. Studienausgabe. Tubingen: J. С. В. Mohr (Paul Siebeck), 1985. S. 13, 15, 16, 20, 28.
СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Рэндалл Коллинз
СОЦИОЛОГИЯ: НАУКА ИЛИ АНТИНАУКА?*1
В последние годы концепция социологии как науки неоднократно подвергалась нападкам. Их можно суммировать в следующих пунктах: 1) Социология не сумела получить достоверных результатов или обобщений в виде законов. 2) Детерминистские законы не существуют, потому что социальное действие состоит из ситуационных толкований, основанных на человеческой субъективности, рефлексивности и творческой способности. 3) Мы замкнуты в мире дискурса. Общество как таковое есть род текста, который мы в разное время читаем по-разному. 4) Предыдущее положение часто связано с историческим релятивизмом, с тезисом, что существуют только исторически особенные явления и нельзя открыть никаких общих законов, применимых к любому времени и месту. 5) Наконец, существует и различного рода «техническая критика» научных методов и метатеории, особенно концепции причинности. Философией науки стал сегодня постпозитивизм, и научно ориентированная социология, как говорят, интеллектуально устарела. Различные элементы критики не обязательно объединены между собой. Некоторые из них содержат важные нюансы, способствующие расширению социологического знания. Но я полагаю ошибочным общий для всех разновидностей критицизма упрек, состоящий в том, что социология не имеет и не может иметь никакой научной достоверности.
1 Я признателен П. ДиМаджио, Р. Кэмпбеллу, Р. Ханнеману, А. Стинч-Комбу и Дж. Тернеру за комментарии к предварительному наброску этой статьи.
* Collins R. Sociology: prescience or antiscience? // American Sociological Review. February 1989. Vol. 54. P. 124-139. - Прим, перев.
Конечно, наука - не единственный законный способ дискурса или вид знания. Социология, подобно многим другим интеллектуальным дисциплинам, может иметь дело с эмпирическими описаниями (включая и современные социальные условия, и исторические последовательности); она может обсуждать моральные проблемы, предлагать или отвергать планы практических действий и сравнивать существующие условия с идеалами; обсуждать основополагающие методологические и другие метатеоретические вопросы. Но главный род деятельности, который дает социологии интеллектуальное оправдание, - это формулировка обобщенных объяснительных принципов, организованных в модели глубинных процессов, порождающих социальный мир. Именно эти процессы определяют, каким образом конкретные условия порождают конкретные результаты. Эти обобщенные способы объяснения и составляют науку.
Я попытаюсь показать, что ни один из аргументов, выдвигаемых против трактовки социологии как науки, не является препятствием для формулировки значимых объяснительных моделей. Мы уже имеем основные контуры нескольких таких моделей в областях, простирающихся от микросоциологии через теорию формальных организаций до макросоциологии. Социология вовсе не обречена на научную несостоятельность. Те, кто атакуют научную социологию, обычно сражаются с карикатурой на «позитивизм» в самом узком его значении. Вместе с тем многие специалисты по якобы научной социологии восприняли именно те уязвимые концепции метода и содержания науки, которые сделали их беззащитными перед антипозитивистскими нападками.
Ниже речь пойдет о главных направлениях критики социологической науки. Я также постараюсь показать, чему можно научиться у критиков, отрицающих научный характер социологии. Поток ситуационных взаимодействий, человеческая субъективность и рефлексивность, динамизм и эпизодические подвижки макроструктур - все это части предмета социологии. Привлечение внимания к таким явлениям и даже исследование их структуры можно поставить в заслугу некоторым из «антинаучных» подходов. Но в данном случае важно, что подобные исследования позволили выразить упомянутые процессы в более общей форме и тем самым расширить сферу действия объяснительных моделей, которые образуют ядро научной социологии.
Мнимая несостоятельность социологического исследования
Один из вариантов нападок на социологию отрицает ее из-за отсутствия результатов. После почти ста лет исследований мы якобы еще не пришли ни к достоверным обобщениям, ни к законам социологии. Такая критика часто исходит от аутсайдеров нашей дисциплины. Например, А. Макинтайр [43] основывает на этой критике доказательство отсутствия мирского, нетрадиционного основания морали. А. Розенберг [54] доказывает, что поскольку общественные науки не имеют и не могут иметь никаких законов, любое социологическое объяснение должно отправляться от причинности на социобиологическом уровне. Сами социологи иногда также совершают подобное отречение, обычно в контексте обсуждения альтернативных метатеорий (см. например, [60]).
Но обвинение в том, что социология ничего не знает, что мы не имеем достоверных значимых обобщений, явно ложно. В качестве контраргументов приведем некоторые примеры, продвигаясь от микроуровня к макроуровню.
I. Чем более длительно, интенсивно и замкнуто взаимодействие между людьми, тем больше они будут отождествлять себя с некой группой и тем большее давление они будут чувствовать и оказывать в направлении подчинения локальным образцам поведения и веры при условии равенства их сил и отсутствия конкуренции в борьбе за скудные ресурсы. Существует множество вариаций формулирования этого принципа, основанных на разнообразных исследованиях. Дж. Хоманс [38] выразил его сущность, опираясь на изучение неформальных групп в промышленности, а также на антропологические исследования и экспериментальные малые группы. Э. Дюркгейм [23], анализируя динамику религиозных ритуалов, пришел к сходной идее, что интенсивное сфокусированное взаимодействие порождает моральную солидарность и подчиненность групповым символам. И. Гофман [29] распространил эту модель на «социотворческие беседы». Знаменитые эксперименты С. Аша [3] продемонстрировали силу давления и влияние групповой сплоченности на подчиненность индивидов группе даже в зрительных восприятиях. Теория символического интеракционизма приходит к тому же: если понятия данного лица производны от позиции некоего обобщенного другого, выведенной на основании личного социального опыта, тогда то, что индивиды думают, должно находиться под влиянием образцов их взаимодействия. Исследования по самооценкам [55; 66] можно считать одним из вариантов этого принципа: здесь показано влияние группового членства и солидарности на представления о себе. В другом случае изучение состояний ожидания [4] обнаруживает воздействия групповых давлений на исполнение задач (что было показано уже в знаменитой работе У. Уайта «Общество на углу улицы» [74]). Исследования сетевых связей [8] дают равноценную формулу: сетевое принуждение имеет результатом однородные предрасположения и установки. Наблюдаемая согласованность этих разнородных теорий и исследований дает убедительные доводы в пользу того, что установленные принципы зависимости между плотностью взаимодействия, солидарностью и конформизмом верны.
II. Человеческие познавательные способности ограничены; соответственно чем сложнее и неопределеннее ситуация, тем вероятнее, что ее участники прибегнут к какой-нибудь принимаемой без доказательств установившейся рутинной практике и сосредоточатся на конкретной области наиболее волнующих их проблем. На этом принципе сходятся очень многие, отправляясь от совершенно разных точек зрения. Г. Саймон представил его как принцип «ограниченной рациональности», который объясняет, почему в любой данный момент времени при решении наиболее острых проблем, стоящих перед организацией, ее члены занимаются поиском не самых лучших, а лишь удовлетворительных решений [58; 44, 173-174].
Этнометодологические эксперименты Г. Гарфинкеля [27], основанные на совершенно ином подходе, показывают, что индивиды не могут справиться со всей сложностью социальных порядков и их оправданий (особенно потому, что проблема таких оправданий в принципе не имеет окончательного решения). Соответственно люди всякий раз активно сопротивляются, когда их вынуждают подвергнуть сомнению значительное количество самоочевидных рутинных способов действия одновременно. Это подтверждают и данные экспериментальных исследований суждений в условиях неопределенности [39].
Существует много версий изложенного выше общего понимания человеческой стратегии поведения в сложном мире на основе ограниченной рациональности. Можно сказать, что это одна из общепринятых тем в специальных науках конца XX в., оказывающая влияние на наши усилия по построению модели познавательных процессов. Она способствует пониманию природы организаций и формирования рынков [77; 73]. Она объясняет, почему источником власти внутри организаций и среди множества профессий является позиция, обеспечивающая доступ к имеющей критическое значение области неопределенности и позволяющая занявшим эту позицию определять для остальных членов организации, с какого рода необычной реальностью они имеют дело [20; 75]*. Принцип когнитивной ограниченности также предполагает, что всякое изменение на макроуровне происходит по следующему образцу: периоды рутинизации внезапно прерываются эпизодическими перестройками. В свете этого я позволю себе предположить, что микропринцип когнитивной ограниченности вплетен в макромодель организационных систем Ч. Перроу [50; 51], в которой сочетание нелинейности организационных процессов и тесной связи между ними приводит к эпизодическим «системным авариям».
* Власть может основываться также на ресурсной зависимости в сетевой структуре [18; 76] и на принуждении, осуществляемом с переменным успехом в различных сетевых структурах [76; 56]. Власть зависит и от распределения в организации ресурсов контроля [24], и от условий мобилизации и конфликта среди противостоящих групп, как гражданских [64], так и военных [15]. Власть - сложный феномен: мы сделали успехи в некоторых частных теориях, но еще не сумели свести их вместе.
III. Рассмотрим важный принцип, относящийся к макроуровню государства. Политический кризис возникает, когда государственный военный аппарат разлажен внутренним расколом между элитами; в особенности его поломка вероятна при военном поражении и/или при экономическом напряжении, к которому приводят долговременные военные расходы, превышающие организационные возможности государства по сбору доходов. По своей сути этот принцип ограничен: он говорит только об условиях возникновения волнений, но не о том, кто победит и какого рода социальные преобразования последуют (если они вообще будут). Эта модель также имеет много вариаций: когда факторы, являющиеся причиной развала государственного аппарата, действуют в централизованном государстве и совпадают с широким классовым конфликтом, вызванным изменениями отношений собственности, результатом этого оказываются коренные социальные преобразования, «революция» в полном смысле слова [59].
Особое сочетание факторов демографического роста, предложения денежной массы и инфляции может стать причиной государственного финансового кризиса [32; 33]; положение государства в мировой системе влияет на его способность отдавать приоритет доходам перед военными расходами [70, 133-147]; геополитические структуры определяют, какие государства станут чрезмерно обширными и потому неспособными защищать себя военными средствами [15; 16, 145-209]. В некоторых разновидностях военно-государственной организации (например, в большинстве досовременных империй) результатом геополитического или фискального кризиса был распад на меньшие властные единицы. Более полной теории государственных кризисов, революционных и нереволюционных, наверное, придется учесть эти соображения*. Но я полагаю, что можно с доверием принять основной принцип: военно-фискальный кризис государства ведет к дезинтеграции аппарата принудительного контроля, а это, в свою очередь, ведет к восстанию управляемых.
* Фискальный и/или военный кризис - это не только путь к расколу между элитами, ведущему к дезинтеграции аппарата принуждения. Теория военно-фискального кризиса - не полная теория всех революций и других волнений, но она оказывается верной в отношении своего предмета и справедлива в отношении многих очень важных событий. Как указал в личном общении П. ДиМаджио, эта теория связана с более абстрактным принципом объяснения, применимым во многих контекстах, - принципом дезинтеграции организационной системы.
Я остановился на этих принципах лишь с целью опровергнуть доводы, будто социология ничего не знает и потому социальная наука невозможна. Я не пытался отобрать самые важные принципы, изложить систематическую теорию или оценить общее состояние нашего знания в социологии (см. одну из таких попыток: [17]). Поэтому названные выше принципы, возможно, выглядят эклектическими и не обладают изяществом, отличающим конструкции цельного образа социального мира. Однако я наметил, как эти принципы, хотя и выбранные почти случайно из разных областей социального знания, можно связать друг с другом. Моя идея состоит в том, что такие принципы не тривиальны, они ведут к социологическим прозрениям в целом ряде важных вопросов. Существует достаточно много других принципов того же рода, особенно в теории организации, а также в иных областях социологии.
Конечно, существуют еще значительные возможности для совершенствования как в точности этих теорий, так и в понимании сферы их действия. Однако уже сейчас имеется достаточно оснований для уверенности в том, что мы близко подошли к постижению хода некоторых важных процессов. Многие обществоведы внесли свой вклад в это знание. Благодаря им мы имеем крепкий фундамент для дальнейшего строительства и дисциплину, которой можно гордиться.
Есть ли что-нибудь ценное в критических утверждениях, будто социология ничего не знает? Хотя это и неверно, но должно служить нам напоминанием, что социология сталкивается с серьезными проблемами в профессиональном самоопределении. И самим социологам нужно больше внимания уделять ясному выражению накопленных ими знаний.
Ситуационный и рефлексивный индетерминизм
Иногда утверждают, что детерминистские объяснения невозможны, поскольку в социальное действие входят ситуационные толкования, субъективность, рефлексивность и внезапное появление нового. Это старая линия критики, восходящая по меньшей мере к дильтеевскому различению между Geisteswissenschaften и Naturwissenschaften*, а в конечном счете - к бунту немецких идеалистов против Просвещения. В последние годы такая критика стала очень заметной, так что конец XX в. можно охарактеризовать как время оживления неоидеализма.
* Науками о духе [и] науками о природе. - Прим. перев.
Надо признать, что субъективистские и интерпретатив-ные школы мысли в нынешней социологии внесли позитивный вклад в социологическое знание. В методологическом плане эти подходы благоприятствовали микроисследованиям в естественных ситуациях, вживанию в процессы, чувства и мысли реальных людей, образующих общество. К таким исследованиям, в частности, относятся включенное наблюдение, практикуемое символическими интеракционистами, а также попытка И. Гофмана «картографировать» природу повседневной жизни.
Без подобных исследований нам осталось бы изучать основополагающие реальности предмета социологии лишь косвенно, в пределах действенности ее метода. За последние несколько десятилетий в микроисследованиях появились другие новшества, начиная с первопроходческих экспериментов этнометодологов и до, вероятно, наиболее «эмпирического» анализа, когда-либо осуществленного в социальных науках, использующего аудио- и видеозаписи естественных взаимодействий как основу для разработки формальных моделей при анализе разговоров <«conversational analysis»>.
Большая часть такой работы тридцать лет назад, в соответствии с канонами, была бы исключена. Чувство отчужденности от социологического «истеблишмента», которое испытывают многие социологи-интерпретативисты, - это, без сомнения, дань воспоминаниям тех, кто жил в то время. Хула на «позитивизм» отчасти есть выражение протеста интеллектуального меньшинства против своих давнишних угнетателей, после приобретения им наконец кое-какой респектабельности.
Однако, не надо предполагать, что всякая связь между субъективно-интерпретативной и научной социологией ныне разорвана и что микроисследование интерпретативными методами должно быть признано чем-то вроде «обособленного, но равноправного» анклава. Напротив, достижения микросоциологов-интерпретаторов должны расширять наши представления о приемлемых методах в социологической науке. Ясно, что научный метод в нашей области не может исключить изучение субъективного. Социологическую науку нельзя основать на чистом бихевиоризме (хотя мы не должны доходить и до противоположной крайности, игнорируя важность поведения, включая и бессознательное поведение). Науку не обязательно строить из «количественных данных» в узком смысле. Науку делает наукой способность объяснять, при каких условиях модель одного вида более пригодна, чем другая, из какой бы области они ни были взяты.
Социологическую науку нельзя также отождествлять с жесткой операционализацией всех ее понятий. На известных уровнях включение неоперациональных понятий законно не только для объясняющих теорий. Даже абсолютно «позитивистская» модель вынуждена сохранять понятия общей ориентации, в поле значимости которых находятся конкретные гипотезы и операционализированные переменные. Мы всегда нуждаемся в модели устройства мира, в умозрительной картине фундаментальных процессов и сущностей, а также их взаимосвязей [65; 76]. Конкретные гипотезы имеют смысл, только когда они основаны на базовых представлениях о мире, с которым мы имеем дело. Более узкий, традиционный позитивизм, требуя тотальной опера-ционализации всех понятий, просто принимает без доказательств неосознанную концепцию мира, в рамки которой и помещает свои явно выраженные гипотезы. Исследователи этого типа легко могут замкнуться в рамках здравого смысла или идеологии, а сосредоточенность на исследовательской технике не позволит им заметить эту ограниченность. Социологи-интерпретативисты оказывают нам услугу, акцентируя данную тему, так что мы вынуждены в явной форме осмысливать скрытые базовые модели и тем самым вводить их в теорию.
Место неформальных понятий и интуиции в теории
Идея полной и строгой формализации, операционализа-ции и измерения всего и вся в научной теории - химера. В каких-то пунктах теории всегда обнаруживаются неформальные понятия и интуитивные скачки мысли. Всегда существует некая метатеоретическая установка на то, что является первоочередным и интеллектуальном плане. Научная теория дает набросок модели изучаемого мира под определенным углом зрения. Гипотезы имеют производный от этой модели характер, и сам процесс их выведения включает интуитивные скачки. При операционализации понятий Для эмпирической проверки мы всегда совершаем еще один интуитивный скачок, принимая решение, что такие-то конкретные измерения или иные наблюдения действительно имеют отношение к данной теории. Эти интуитивные или неформальные скачки суть предмет теоретических дискуссий (по крайней мере, они должны вестись во многих случаях). Но подобные скачки вполне оправданы просто потому, что таков мир. Они не лишают нас права на науку, ибо во всех науках есть точки, где совершаются интуитивные скачки. Если естественники иногда забывают об этом и рассуждают в грубоватой позитивистский манере так, словно бы они не сообщают «ничего кроме фактов», то это потому, что в процессе накопления научных процедур они уже сделали удачные интуитивные скачки и теперь располагают рабочими моделями, которые они интуитивно, прилагают к большинству изучаемых явлений. Все существующее имеет, так сказать, свои «темные углы». Даже числа и логические отношения сохраняют некоторые области неопределенности. Мы сталкиваемся с этим, когда распространяем числовые системы на бесконечность или на исчисление бесконечно малых, а также на несходящиеся алгебраические ряды. Многие системы уравнений математически неразрешимы. Даже в весьма ограниченных формальных системах логики действует принцип неполноты К. Гё-деля. Более же сложные системы многозначной, модальной и других неклассических логик имеют гораздо более обширные области разногласия [41]. В другом месте [17, Арр. А] я выразил ту же мысль следующей формулой: математика всегда заключена в слова. Но заметьте, какой вывод отсюда следует: не тот, что математика и математическая наука невозможны, а, напротив, что успешно развивающаяся наука возможна даже при наличии в ней областей фундаментальной неопределенности, которые относятся к сфере невысказанного неформального понимания. Неявно выраженное, скрытое знание - это тоже знание, поскольку оно работает.
Какие бы виды объяснительных моделей ни выбрать, нам еще нужно позаботиться об объективности и общезначимости наших теорий. Тот факт, что мы всегда втягиваемся в толкования (и на многих уровнях), не означает, что мы можем принять каждую интерпретацию по ее, так сказать, номинальной стоимости. Как правило, мы не в состоянии решить эти вопросы простой операционализацией, измерением и однократной проверкой. Но естественные науки сталкиваются с большинством тех же проблем, и их успех во многих областях показывает, что на длинной дистанции одни исследовательские программы и теоретические модели побеждают другие, соперничающие с ними, что можно сходиться на каких-то работающих моделях, которые улавливают главное в том, каков мир, даже если очертания этих научных моделей неизбежно смутны и не-упорядоченны. Вполне возможны успешные эвристические и интуитивные находки, а неудачные ведущие в тупики могут быть отсеяны.
Следующий критерий состоит в том, что лучшая теория (с ее побочными допущениями и эвристикой) - та, которая максимизирует согласованность, т. е. сводит наиболее удачные объяснительные модели в непротиворечивую общую картину функционирования мира. Методологически эмпиризм может быть частью критерия согласованности: наиболее достоверная теория - та, которая максимально укоренена в эмпирическом мире через разнообразные объяснительные «субмодели», входящие в нее. Крайний (основанный на принципе «все или ничего») эмпиризм невозможен. Но гибкий эмпиризм, работающий, где необходимо, с неточностями и интуитивными понятиями и оставляющий много места для теоретической работы, которая связывает разные факты, - это ядро науки. Надо работать непозитивистски, чтобы преуспеть в позитивизме.
Именно таким путем интерпретативистские школы ввели в социологию содержательно важные теории. Среди них: теория «Я» символического интеракционизма, часть которой согласуется с установленным выше принципом (I); этно-методрлогическая теория повседневной рациональности, которая согласуется с принципом ограниченности познания (II); и другие существующие и потенциальные вклады в социологическое знание. Драматургия обыденной жизни, по Гофману [29], - это тоже модель, ибо отвечает на упомянутый мною выше вопрос: «Что, в сущности, представляет собой мир?». На этой основе дальше можно уже развивать конкретные объяснительные принципы. Я показал, к примеру, что можно опираться на данную модель в понимании различий между классовыми культурами, между тем, кто распоряжается властью, и теми, кто ей подчиняется [17, 203-214].
Многие социологии из лагеря интерпретативистов провозглашают, однако, будто их главное содержательное достижение - это доказательство невозможности детерминистских теорий (см. например: [7, 60]). В своих эмпирических исследованиях они прежде всего видят развитие нового, непредсказуемость, ситуационную обусловленность, человеческую способность субъективно реагировать на социальные условия и их изменение. Однако в данном случае спор идет о том, какого рода модель мы получим, а не о том, возможна ли вообще какая-нибудь модель.
Но верно ли, что главная черта социального мира - непредсказуемость, поглощающая любые детерминированные процессы? Я полагаю, что это неверно и что это представление идет от избирательного сосредоточения на ограниченном участке социального мира. Хотя содержание социологии во многом (но не во всем) состоит из проявлений человеческой субъективности, отсюда необязательно следует, что такое познание и чувствование причинно совсем не обусловлены. Не развивая дальше этот пункт применительно к теориям познания и эмоций, вспомним о Гофмане, признанном гении микроинтерпретаций в социологии. Гофман использовал «гибкие» методы, но он верил, что мир, который он изучал, имеет «жесткие» очертания. В его социальной теории языка социальная экология взаимодействия [31] оказывается основой процесса познания. Сложность и рефлексивность человеческих субъективных миров идут от многих и многих возможных «переструктурирований», на которые способны действующие [30], но структурирование для Гофмана не было «свободно парящей» деятельностью, и он отвергал предположение, что это сводит мир к разновидности «психоделической» фантазии. Преобразующие ре-интерпретации субъективной реальности соединены в упорядоченные преобразования наряду, так сказать, со смежными структурами. Для Гофмана структурой нижнего уровня, из которой вырастают все другие, является физическое взаимодействие человеческих биологических тел, некий экологический базис, который теоретически связывает Гофмана с дюркгеймовской теорией ритуальной основы солидарности и символосозидания (ее разработку см.: [17, 188- 203, 291-297, 320-334]).
Отсюда следует, что возможно структурированное понимание субъективности. В этом смысле изыскания последних нескольких десятилетий в области субъективных моментов человеческой жизни, несмотря на то, что иногда они сопровождались крайними заявлениями, много дали для разработки гораздо более тонкой теории сознания, чем та, которая была бы возможна до них.
Насколько непредсказуем социальный мир?
Давайте поставим вопрос прямо. Какая часть социального мира непредсказуема? Существует очень много вполне предсказуемых явлений. Это, например, шаблонное поведение людей, снова и снова возвращающихся на место работы к тем же занятиям, что характеризует почти всю суть формальных организаций; это повторяющиеся образцы поведения в домашних хозяйствах и семьях. Точно так же и сети взаимоотношений между друзьями и знакомыми состоят из актов поведения, процессов познания, эмоций и процессов общения, которые все протекают по известным образцам. Для существования регулярности и предсказуемости не нужны даже одни и те же лица как участники повторяющихся взаимодействий. Большинство универмагов имеет только эпизодические отношения с конкретными покупателями, но именно предсказуемость того, что определенное число людей будет ходить в магазин, позволяет вообще открывать торговое дело. Хотя микросоциология остается теоретическим бастионом индетерминизма, на этих примерах из повседневной жизни должно быть ясно, что микроуровень характеризуется высокой степенью предсказуемости.
Теория индетерминизма, видимо, опирается на два предположения. Первое - что предсказуемость данного рода банальна. Верно, что она существует, но эта истина слишком скучна для социологов, чтобы ею заниматься. Надо сосредоточить внимание на чем-то еще неизвестном каждому. Поэтому, можно сказать, естественно внутреннее тяготение к исследованию драматического и непредсказуемого. Но я поспорил бы с тем, что банальное с точки зрения участника обязательно будет банальным и для объясняющей теории. На микроуровне Гарфинкель избрал в качестве исследования банальность обыденной жизни и раскрыл познавательные механизмы, которые обеспечивают ее течение, и это позволило нам увидеть, где при вмешательстве в данные механизмы возникает напряжение. На макро- и среднем уровнях важная социологическая работа состоит в переструктурировании банальности принимаемых как данность бытовых образцов поведения и познания. Хотя конкретному человеку кажется естественным, что он или она работает и болтает с друзьями каждый день, социологи могут в этом много чего открыть: почему рабочие обязанности построены так, а не иначе; почему именно эти лица - друзья, а не Другие и т. д. Такие вопросы входят, например, в содержание теории организации, теорий обмена и сетей отношений, а также теории стратификации.
Другое предположение, увлекающее нас на путь теоретического индетерминизма, более обоснованно. Оно состоит в признании факта, что ситуации могут иногда меняться очень быстро: случаются конфликты, неожиданные соглашения, прозрения, решения, а на макроуровне - массовые движения, мятежи и революции. Все верно. Но есть разница, считаем ли мы это концом анализа или исходным пунктом, призывом развивать теории, объясняющие, когда происходят такие внезапные сдвиги. Я уже отмечал, что на макроуровне нам известны некоторые решающие признаки, которые делают революции предсказуемыми. На микроуровне индетерминизм обычно опирается на какую-то версию «теоремы У. Томаса»*. Но даже если ситуации детерминированы субъективными определениями, все же можно спросить, а что же обусловливает, какими будут эти определения ситуаций**. Что иногда придает ситуациям кажущуюся непредсказуемость и эмерджентность - так это взгляд на них с точки зрения единственного действующего, который знает только свои намерения. Но если нам достаточно известно обо всех действующих в данной ситуации и о структуре их взаимодействия, то эмерджентные события часто оказываются очень хорошо моделируемыми. Вера в индетерминизм оказывается здесь побочным продуктом редукционизма, который все сводит к индивиду. Если мы по-настоящему выходим на уровень взаимодействия, то становится возможным достаточно точно определить комбинацию элементов, составляющих ситуацию, и ее итоги. (Такие модели цепей взаимодействия предложены в: [36; 37; 14].)
* Теорема гласит: «Если люди определяют ситуации как реальные, то ситуации реальны по своим последствиям». - Прим. перев.
** Результаты этнометодологических исследований не подтверждают мнения о большом количестве и весомости неожиданных ситуативных реинтерпретаций. Например, С. Клегг [13], который с магнитофоном в руках приступил к изучению в мельчайших деталях одной строительной фирмы, скоро обнаружил, что банальная ежедневная повторяемость ситуаций была подавляющей, так что ему пришлось переключиться на конфликты в управлении, чтобы найти более драматичный материал. Этно-методологическая теория полагает, что превращение повседневной жизни в рутину - это основной социальный процесс, и что люди изо всех сил стараются сглаживать ситуации и избегать любых неурядиц.
Не приводит ли знание Социологического Закона к его рефлексивному самоопровержению?
Этот вопрос связан с еще одним аргументом против социологии: какие бы, мол, законы ни открывали социологи, они все равно будут перевернуты с ног на голову из-за возвратного влияния на действующих, которые их знают. Как только люди узнают, что такие-то законы существуют, они могут начать действовать с целью их опровергнуть. Но хотя в абстрактном виде это звучит правдоподобно, трудно вообразить много случаев, когда это правило действительно применимо. Возможно, сама теорема Томаса - пример принципа, который может быть подорван рефлексивностью. Это вызывает наибольший интерес применительно к теории предрассудка, теории самосохранения предубеждений против лиц отдельных категорий. Узнавая природу этих предубеждений, либеральная общественность в США развивала усилия, чтобы им противодействовать. Но в самом ли деле это нарушает теорему Томаса? Напротив, здесь мы, по-видимому, пытаемся избежать обстоятельств, при которых теорема начинает действовать в отрицательном направлении. Мы избегаем давать отрицательные характеристики лицам в надежде, что следствием этого будет какое-то положительное самоисполняющееся пророчество вместо отрицательного.
Обойти принципы детерминизма на макроуровне, похоже очень трудно. Например, если военное поражение или фискальный кризис, ведущие к разрушению аппарата принуждения, рождают революционный конфликт, то едва ли можно предотвратить такой ход событий просто его пониманием. Самое лучшее, что могло бы сделать правительство, - это попытаться избежать перехода данного принципа в действие, избегая ситуаций и обстоятельств, которые приводят к военному или фискальному кризису. Рефлексивность может дать людям шанс попытаться изменить распределение независимых переменных, но не отношения между независимыми и зависимыми переменными. Подобно этому, структурные принципы формальной организации дают информацию скорее о том, что люди могут обойти, но вряд ли о том, во что они могут влипнуть в любом случае. Даже на микроуровне, где, казалось бы, индивид наиболее способен рефлексивно изменять результат своих действий, по-моему, когда индивиды действительно контролируют конечные результаты, они добиваются этого, применяя микросоциологические законы, а не идя против них. К примеру, когда люди обдуманно вступают в построенную на личных отношениях группу или когда в сходной ситуации групповой динамики они в скрытой форме используют вышеупомянутый микропринцип (I), относящийся к становлению групповой солидарности, потому что хотят почерпнуть в ней эмоциональную поддержку. Их типичная ошибка при этом - переоценка продолжительности существования такой солидарности и заряда эмоциональной энергии после распада временной группы подобного рода. Знание принципа не лишает его силы*.
* Иногда говорят, что слишком большое знание о том, как работают социальные отношения, выхолащивает их. Может ли теоретик обмена или тот, кто применяет теорию ритуалов Дюркгейма и Гофмана, влюбиться? Не разрушает ли ситуацию теоретическое самосознание? Я могу заверить вас, что не разрушает. Мощные социальные процессы обладают удивительной силой, подавляющей более слабый процесс вроде кратковременной рефлексии.
Было бы безрассудством предрекать, что социологическая наука когда-нибудь сможет объяснять все. Вполне вероятно, что изрядная доля индетерминизма останется, даже если социология добьется куда больших успехов в будущем. Но мы получаем интеллектуальные стимулы, постепенно отодвигая границу владений индетерминизма. Молиться на него и ничего не делать кажется мне паразитической уловкой, поскольку это представляет интеллектуальный интерес, только если уже имеется какая-то теория, которой некто желает бросить вызов. Конструктивная установка состоит в том, чтобы создавать и совершенствовать объяснительную теорию.
Я пытался показать, что наука может работать гибко и с самыми разнообразными предметами исследования. На этом фоне я более кратко прокомментирую остальные выпады против социологической науки.
Общество как дискурс
Мы живем в мире дискурса. Общество само по себе есть не более чем род текста, который мы в разные времена читаем разными способами. Ныне это популярная тема, идущая от французского структурализма и его ответвлений. Она произвела подлинную революцию в мире литературной критики. Это можно понять и как проявление профессиональной идеологии, возвышающей собственную область деятельности литературных теоретиков утверждением, что всякая реальность есть часть литературы. Идея «дискурса» поэтому завоевала широкую популярность в сфере интеллектуального труда (включая издательское дело). Она особенно хорошо подходит к частным, описательным темам антропологии, но посягает также и на космополитическое содержание социологии (например: [10; 35]).
Но подъем социологических исследований в области культуры необязательно связан с идеей культурного релятивизма. Было продвижение и по детерминистскому пути: мы имеем очень хороших исследователей и хорошие теории относительно материальной и организационной базы создания культуры, касающиеся ее распределения как между социальными классами, так и между более специализированными культуропроизводящими институтами [9; 21; 19]. Культура не просто сама себя организует. Ее организуют социальные процессы.
М. Фуко [25], наиболее значительный из последователей французской «дискурсной» школы, документально подтвердил существование социальной базы для формирования идей в таких практических областях, как психиатрия и право. Но Фуко не пытается поставить под сомнение значимость своего собственного дискурса в качестве историка. Более того, исторические модели, которые он выдвигает на роль определяющих сферу дискурса - бюрократизация и специализация учреждений социального контроля, смещение границ между публичным и частным, переход от ритуальных наказаний к некоторому самосознанию вины, - хорошо согласуются с теориями модерна М. Вебера [71] и Дюркгейма-Мосса [12]. Лучшие из этих европейских работ продолжают главные традиции, накапливающие социологическое значение, а не отходя от них.
Популярность концепции «дискурса» как господствующего мировоззрения поддерживается также успехами социологии науки в демонстрации социальной обусловленности знания. Этот успех в самом деле впечатляет. Но не надо забывать, что социология науки - это эмпирическая исследовательская дисциплина, которая за последние 30 лет весьма продвинулась в разработке социологических моделей обусловленности знания, производимого в конкретных организационных условиях (см.: [72] - относительно недавние итоги и синтез). Подумаем, что это значит для Деклараций о разрушении научного знания. В самом сердце этого якобы индетерминизма живет детерминизм. Социология науки сама по себе становится доказательством успехов научного мышления.
Это интереснейшие проблемы рефлексивного самосознания. Некоторые социологи науки (например, представители британской школы, центральными фигурами которой являются М. Малкей, Г. Коллинз, С. Вулгар и др.; см.: [57]) заходят так далеко, что доказывают, будто наука - просто множество конкурирующих властных притязаний. Единственный демократический путь - не давать ни одному голосу никаких привилегий. Поэтому М. Малкей [48] и другие брались писать статьи и доклады в «новой литературной форме», предполагающей, что автор как бы отходит в сторону и позволяет говорить многим спорящим голосам. Результат получился занимательным, но все же непонятно, почему рефлексивность должна мешать научному знанию. Д. Блур [5; 6], который широко использует дюркгеймов-скую теорию, доказывает в своей «сильной программе», что социология науки может и должна объяснять не только претензии ложного знания, но и знание истинное.
С организационной точки зрения, властные притязания в научном дискурсе, которые выявляют и документируют Малкей и др., суть часть достаточно предсказуемых структурных конфигураций. Разные виды интеллектуального дискурса (т. е. конкретные научные дисциплины) встроены в разные организации и сами могут быть поняты как организационные формы. Следовательно, теории организации (особенно теория, объясняющая, как разнообразные случаи неопределенности задач и зависимости от ресурсов влияют на структуру организации и поведение в ней; см.: [72; 26]) показывают, что научный дискурс - это не свободно парящая конструкция, он возникает в конкретных обстоятельствах вполне предсказуемым образом. Более того, мы знаем, что организационные структуры, по меньшей мере частично, детерминированы окружающей средой, в которой они функционируют [17, 467-485]. Это значит, что объективная природа предмета науки представляет собой один из детерминантов социальной деятельности (включая дискурс), которая и составляет науку.
Аргументы, которые выпячивают исключительно роль дискурса, односторонни. Хотя в любом знании, безусловно, имеется компонент сконструированный культурой, это также и знание о чем-то. В самом деле, любой аргумент о социальной основе знания уничтожает сам себя, если он не имеет еще и некоторой внешней отсылки к истине - в противном случае почему мы должны верить, что сама эта социальная основа существует? Нам нужно выйти из круга полемически односторонних эпистемологий как субъективного, так и объективного толка. Многомерная эпистемоло-гия может учитывать наш образ жизни в культурном пространстве нашей собственной истории, но при всем том мы в состоянии накапливать объективное знание о мире.
Историзм
Историзм провозглашает, что существует только исторически конкретное и не может быть никаких общих законов, применимых повсеместно и во все времена. Этот аргумент в какой-то мере выступает в связке с другими видами антипозитивистской критики, наподобие оппозиционного объединенного фронта. Но он также имеет и свою автономную базу в современной практике исторической социологии. Историзм - это цена, которую мы платим за нечто очень хорошее. Последние двадцать лет, начиная с публикаций Б. Мура и Ч. Тилли в 60-е годы, были золотым венком исторической социологии. Мы многое узнали о макропроцессах, смотря на исторические материалы социологическим взглядом и сравнивая между собой разные общества и эпохи. Так, например, Мур [47] показал связь между формами капиталистического сельского хозяйства и различающимися политическими структурами современных государств. Но хотя речь идет о конкретных государствах (Англии XVII в., США XIX в. и т. д.), лежащие в основе этого теоретические концепции имеют более универсальное применение. Именно по этой причине семейство моделей, родственных муровской [49; 59; см. также: 61; 1], интенсивно использовалось и используется для понимания других эпох и областей.
Исторические социологи, провозглашая себя сторонниками историзма, испытывают прессинг двоякого рода. Во-первых, это давление интересов, с которыми они стремятся Установить хорошие контакты. Историзм кажется разновидностью профессиональной идеологии историков. Способ их существования - описание конкретного, частного, а возрастающая интеллектуальная конкуренция в сфере их деятельности вынуждает специализироваться и осаживать всех вторгающихся на их территорию. Отсюда склонность историков к неприятию любых положений о существовании общих процессов, и особенно тезиса, что такие процессы можно обнаружить только путем сравнения эпох и областей исследования (т. е. выходя за пределы их исследовательских специальностей). Историки часто берут на вооружение идеологию, не позволяющую сознательно развивать общую объяснительную теорию. И многие работающие в исторической социологии реагируют на критику со стороны историков, поддаваясь их идеологии.
Но историки непоследовательны. Толкуя свои конкретные случаи, они скрытно протаскивают некоторые идеи о том, что представляют собой общие структуры и как действуют обобщенные модели социальной мотивации и изменения. Анализ исторической реальности едва ли возможен в условиях tabula rasa. Историки опираются на теории - знают они об этом или нет. Великим историком, работы которого привлекают внимание широких кругов, ученого делает, как правило, делает способность создавать теорию, показывать более общую схему, скрытую под грудой рассказанных частностей. Менее значительны обычно те историки, которые оперируют наивными, принятыми как данность концепциями или старыми теориями, вошедшими в обычный дискурс. Историки в своем лучшем качестве участвовали в созидании социологической теории, хотя не всегда говорили о ней как таковой и часто вплетали в ее ткань конкретные исторические описания, иногда очень артистические и драматические по стилю.
Я не сочувствую безапелляционным заявлениям, будто историческая специфичность - это все, что нам доступно. Напротив, мы даже не сможем толком разглядеть частностей без общих понятий. Однако есть более основательная причина, почему исторические социологи склонны работать на низком уровне обобщений, используя теории, ориентирующиеся на понимание конкретной группы событий. Даже если цель - развитие общей теории, макроматериалы долговременной истории крайне сложно использовать. Хотя мы можем кое-что знать об элементарных процессах, но получить любую абстрактную картину полной комбинации условий, участвующих в историческом изменении, очень трудно. Теоретически ориентированные исследователи в области исторической социологии монополизировали метод промежуточных приближений к уровню объясняющего обобщения. Например, у М. Вебера масштабные исторические сравнения условий, требуемых для подъема рационализированного капитализма, дали множество общих аналитических выводов, которые, однако, были встроены в описание последовательностей конкретных событий мировой истории. То же сочетание обобщений и описаний можно обнаружить в современных работах, например, М. Манна [45] (об исторических источниках социальной власти) или Дж. Голдстоуна [32; 33] (о кризисе государства и социальных трансформациях). Я полагаю, что и моя собственная работа [16] над такими темами, как развитие веберовских теорий капитализма или проблема гендерной стратификации, тоже как бы погружена в описания конкретных исторических процессов. Работы такого рода бросают вызов теоретикам, которые вольны попытаться абстрагироваться от конкретности изученного материала, извлечь более фундаментальные теоретические структуры, скрытые в этих описаниях.
Нам всегда придется работать на двух уровнях: теоретическом уровне абстрактных и универсальных принципов объяснения и уровне исторических частностей. Если наши теории удачны, мы будем все лучше и лучше объяснять, как конкретные комбинации переменных в теоретических моделях порождают многообразные конструкции исторических частностей. Перед историками и историческими социологами всегда будут стоять задачи такой конкретной интерпретации. В то же время изыскания в реальной истории - это один из главных путей, каким мы продвигаемся в построении и обосновании наших общих моделей, хотя построение и подтверждение такой теории определяется ее соответствием всевозможным видам социологических исследований, как современных, так и исторических.
Неверно, что не существует принципов объяснения, имеющих силу применительно ко всей истории. Три примера, приведенных в начале статьи, вполне согласуются, насколько мне известно, с фактами, относящимися к любой исторической эпохе, а таких принципов гораздо больше. Разумеется, некоторые принципы могут оказаться неприменимыми, потому что в данной исторической ситуации отсутствует определенная независимая переменная. Так, нельзя предсказать возникновение или невозникновение революционного кризиса, если вообще нет государства. Но несомненно возможна более абстрактная формулировка принципа (III), которая будет применима к выявлению источников кризиса политической власти в безгосударственных обществах. Похоже, что макропринципы вообще сложнее микропринципов, поскольку включают комбинации многих процессов. Но мы располагаем, по меньшей мере, некими зачатками многообещающих принципов и на макроуровне. Было бы ошибкой из критики ограниченности конкретных теорий (например, когда расширяют область анализа и вместо отдельных стран делают референтом мировую систему; или ниспровергают однолинейный эволюционизм, теорию развития или функционализм) делать вывод, что общая теория невозможна. Результатом этого критического развития должно быть вовсе не отрицание какой бы то ни было теории, но усовершенствованная теория.
Метатеоретическая атака на причинность
Критики теоретической объяснительной социологии любят указывать нам, что консенсус в философии науки стал другим со времен расцвета логического позитивизма. Обще-признано, что программы, вроде карнаповской, которые пытались построить все научное знание из данных чувственного опыта, организованных в формально-логические и математические высказывания, провалились. Ныне нет согласия по какой-либо из других альтернативных эпистемоло-гий науки, хотя большинство философов признают важность предварительных теоретических концепций и программ, а также прагматического подхода как в теоретических формулировках, так и в эмпирических исследованиях [53; 22; 52]. Но, вероятно, все сошлись бы на том, что математика и формальная логика не являются самообоснованными, и на признании значительной роли неформализованных высказываний в любой области знания. Наряду с этими менее строгими и более растяжимыми стали представления о том, что образует знание: не только идеалы классической физики, но и сведения из многих других областей - биологии и наук о земле, истории и, возможно, даже некоторых альтернативных форм знания, воплощенных в искусстве [34].
Что это значит для социологии? Я полагаю, что эписте-мологически это ставит социологическую науку в более равноправное положение с устоявшимися естественными науками. Ибо и они действуют в тех же условиях познавательных неточностей. Социология никогда не станет наукой, удовлетворяющей идеалу старого логического позитивизма, но и ни одна из естественных наук тоже не будет отвечать этому идеалу. Мы не стремимся к невозможному. Будет более чем достаточно, если мы сможем достичь той же степени приблизительного и прагматического успеха, что и естественные науки. Правда, некоторые социологи могут продолжать придерживаться методологического идеала, который ближе к неразработанной модели науки вида «индукция плюс математическая формализация». Думаю, это особенно распространено в прикладных областях социологии, где непосредственно используется чисто описательная информация (скажем, об успехе программ десегрегации) и, следовательно, более вероятно осуществление прямой индукции. Но это не влияет на постановку гораздо более крупной проблемы: какие методы пригодны для построения общей и объясняющей науки?
Современная философия науки не разрушает научности социологии, поскольку не утверждает, что наука невозможна, но дает более подвижную картину того, чем является наука. Все это помогает укрепить здание науки, используя материалы, уже имеющиеся у социологии. Ряд критиков, оспаривающих научность социологии и высказывающих более специальные технические замечания, по-моему, упорно основывается на узкопозитивистском изображении позиции оппонентов, игнорируя более реалистический образ науки.
Критика понятия причинности часто ведется в этом духе. Причинные теории отвергаются на том основании, что вообще не существует такого предмета, как « причина» чего-либо. Всегда отыщется некий комплекс условий, в свою очередь имеющих предшествующие условия, которые можно проследить далеко назад и вовне в бесконечном сплетении причин. Такие причины объясняют нечто лишь при определенных особых условиях, обычно принимаемых без Доказательств, например в статистическом анализе данных опроса, когда пытаются причинно объяснить весь разброс этих данных по их специальной выборке. Некоторые атаки на причинность исходят, однако, из лагеря самих защитников научности социологии [28], которые не отказываются от поиска проверяемых обобщенных объясняющих принципов.
Некоторые аспекты этого спора носят чисто терминологический характер. «Причина» - это до известной степени метафора, стенографическая отсылка к интересующему нас конкретному фрагменту какого-то комплекса условий, включенных в производство определенных результатов. Некоторые из этих условий могут быть сопутствующими взаимоотношениями частей социальной структуры или же предшествующими условиями, которые детерминируют, какого рода результаты последуют*. Но в любом случае важно сохранить подобное понятие, будь то под названием «причинности» или каким-то иным, равноценным, ибо оно позволяет нам проводить различие между работающими и пустопорожними объяснениями. Функционалистский анализ, к примеру, оказался бы очень убогим способом объяснения, если бы его невозможно было перевести в анализ причинных механизмов [62, 80-100]. Нельзя «объяснить» что-либо, просто давая этому имя, даже если используются такие громкие названия, как «нормы», «правила» или «культура» либо, ближе к нашей теме, «problematique»** или «дискурс». Объяснения в этом не больше, чем в объяснении силы тяжести «склонностью к тяготению». «Причинность» полезна, поскольку дает нам механизм, говорящий, о каком процессе идет речь и когда можно ожидать именно этих, а не других конкретных результатов. «Причинность» спасает нас от реификаций, а также и от идеологических оправданий, замаскированных под видимость объяснений.
* См. общие дискуссии: [40; 68; 46]. Как указывает У. Уоллес [69], существует множество причинных моделей - непрерывные, эпизодические, многоуровневые и т. д.
** Проблематика (фр.) - Прим. перев.
Как мы видели выше, сердцевину объясняющей теории составляет модель, отвечающая на вопрос, «как работает такая-то часть мира», каковы ее элементы и как они сочетаются вместе. Специальные причинные суждения встроены в такую модель и являются объектом эмпирической проверки, но они зависят от основных предпосылок всей модели. Некоторые из возражений «причинным теориям» в социологии направлены против конкретных видов статистических моделей (например, в литературе, описывающей приобретение «статуса»), целиком построенных на уровне отдельных высказываний. Но хотя такие модели могут быть излишне жестко привязанными к конкретной совокупности данных определенного исторического периода и не могут выразить в явном виде структурные условия, упорядочивающие эти процессы, - это не значит, будто такие причинные связи нельзя встроить в значимую теорию более обширного социального мира (см.: [11]).
С. Тернер [67] выдвигает более специальное возражение против причинных высказываний в форме «чем больше X, тем больше Y». Он доказывает, что такие суждения буквально неверны, если только рассматриваемая корреляция не является идеальной. Но на эмпирическом уровне всегда найдутся исключения, и, следовательно, такие суждения не имеют логического обоснования. Тернер отрицает, что несовершенную корреляцию можно толковать как некоторое приближение к истинным причинным отношениям. Он придерживается взгляда, что не существует логического пути от общих суждений (которые всегда идеализированы и «совершенны») к беспорядочному миру неточных отношений. Статистика не дает никакого ответа на этот коренной вопрос. Теория всегда недостаточно подтверждена данными, и широкий и открытый плюрализм теорий есть следствие того, что вероятное и гипотетическое всегда пребудет с нами.
Доводы Тернера ведут, однако, к абсурдным крайностям. Поверит ли кто-нибудь на самом деле, что если мы имеем внушительное число весьма достоверных суждений типа «в большой доле случаев (в диапазоне значений вероятности) наблюдается, что чем больше X, тем больше У»,- то и тогда мы все еще ничего не узнали? Аргументация Тернера бьет и по социологии, и по естественным наукам. И, еще раз повторю, я был бы счастлив, если бы социология достигла такого уровня приближения к абсолютной достоверности и прагматических успехов, как другие науки, что бы там ни говорили пуристы вроде Тернера о логическом статусе такого знания*.
* Как указывает Д. Уиллер [76, 43, 220], физики обычно проводят эксперименты не с целью достичь статистической достоверности, а чтобы найти область условий, при которых сохраняет значимость некое теоретически выведенное соотношение. Уиллер комментирует: «Физики были бы удовлетворены экспериментом, если бы его результаты укладывались в область десятикратного или даже большего отклонения от теоретически предсказуемых значений переменной. Обычно учитывались экспериментальные ошибки такого рода, и никто даже не задумывался проверить результат статистически... Что же могут значить разговоры о физике как точной науке? Точность означала точное использование теории, но необязательно точное производство чистых результатов» [76, 220].
На философском уровне Тернер, видимо, допускает строго позитивистскую концепцию теории и не признает, что любая теория подразумевает скачки в своих интерпретациях и прагматические приемы, включая процессы решения, и что данные наблюдений должным образом связаны с данной теорией. Все теории не равноценны. Вопрос в том, какая из них работает в наибольшем числе контекстов, которые можно связать друг с другом.
Препятствия накоплению знания и организационная политика социологии
Я утверждаю, что когда мы ищем социологическое знание, то повсюду находим его осколки и фрагменты. Наша проблема состоит в том, чтобы узнать, чем мы располагаем, и организовать найденное наиболее наглядным образом. Почему это так трудно?
Одна из причин - фрагментация и антагонизм в нашей дисциплине. Социология разделена на большое число специальностей. Вряд ли это должно удивлять, поскольку насчитываются многие тысячи исследователей, заинтересованных в возделывании своих собственных участков. А так как социология имеет в виду весь социальный мир (включая его причины и следствия), то налицо огромный выбор эмпирических объектов для возможного исследования. Объем и разнообразие социологии дают нам практический повод не обращать внимания на то, что делается вне нашей собственной области исследований. Таково положение с разнообразием методов, когда приверженцы одних методов часто рассматривают работу, сделанную с помощью соперничающих методов, как не имеющую познавательной ценности. Кроме того, происходит дальнейшее дробление на небольшие теоретические школы, которые нередко чернят друг друга в борьбе за господство. Эти битвы ведутся особенно яростно, когда в высказываниях теоретических фракций звучат и политические обертоны или когда утверждают, будто внимания достойны только практическое знание или политически ангажированные выступления определенного сорта. Все эти обстоятельства затрудняют нам поиск тех точек, где сходятся разные теоретические объяснения. Это лишает возможности собрать обрывочные данные, поставляемые различными подходами, в стройную, согласованную модель*.
* Быть может, одно из главных преимуществ естественных наук в том, что в их теориях почти нет прямых политических импликаций. Это позволило им уходить от споров, замутивших аналитическую сторону общественных наук, и прежде всего социологии.
Возможно, еще более важным для американской социологии был раскол иного рода, а именно разрыв между описательными и теоретически ориентированными исследованиями. Вторые заняты поиском общих объясняющих принципов; первые куда более прямо переходят к исследованию вопросов, которые, по меньшей мере первоначально, полностью понятны неспециалисту. Это класс проблем такого рода: насколько велика нынешняя социальная мобильность? (останемся ли мы еще «страной открытых возможностей»? были ли мы ею когда-либо?); насколько велика расовая дискриминация и каков прогресс в ее уменьшении и т. п. Эти виды исследований могут иметь отношение к теории, но чтобы сообщить полезную информацию, в принципе необязательно иметь объяснение в категориях подлинно аналитических переменных. Сюда, естественно, относится статистическая техника без особой теории. Вероятно, именно этот практически ориентированный поиск описательной информации имеют в виду социологи-антипозитивисты, атакуя антиметодологические и антитеоретические уклоны, которые они обнаруживают в социологии.
Это разделение труда между различными видами нашей деятельности вовсе не обречено отравлять споры вокруг научной социологии. Практически-описательное исследование, без сомнения, было бы сделано лучше, если бы имело опору в более аналитической теории, но для многих целей достаточно теоретически нейтрального описания. Важно понять, что создание аналитической базы путем накопления объяснительных высказываний - это совершенно другой, особый род деятельности. Когда мы пытаемся накапливать наше общее знание, мы должны знать, что именно ищем, и уметь отобрать это из гор описательного материала, который занимает так много места в исследовательской литературе. Теоретически ориентированный и практически-описательный виды исследования могут гармонично сосуществовать, даже если они порождают проблему корректирования информации.
Более слабой выглядит позиция, распространившаяся, видимо, из сферы практической и описательной работы на все виды социологического исследования: тенденция считаться только с самыми последними данными как единственно имеющими отношение к делу. Если мы хотим знать, что такое равенство возможностей в образовании, сбор самой свежей информации, очевидно, имеет очень существенное практическое значение. Но этот сдвиг, «перекос к настоящему», своего рода журнализм в социологии есть один из главных факторов, уводящих нас в сторону от задачи сведения различных исследований в теоретически непротиворечивые модели.
Наличие данных из разных исторических периодов - это безусловное преимущество при попытке синтезировать общие принципы объяснения. Часто наблюдаемые изменения в эмпирических распределениях позволяют нам сформулировать принципы применимости для соответствующей предметной области и уточнить наши теории. К примеру, исследование из области промышленной социологии и жизни местных общин, проводившееся с 30-х до 50-х годов, и подвело к формулировке общих принципов того, как опыт командования либо подчинения порождает дивергентные классовые культуры (данные сведены в работе: [17, 211 - 214]. Это накопленное знание остается пригодным на аналитическом уровне, даже если (как, видимо, и происходит в действительности) в последние десятилетия более грубые формы власти-авторитета для большинства работающих ослабли, а вслед за этим ослабли и различия в классовых культурах. Поэтому сравнение исторических различий не просто дополняет индивидуализирующее описание, но служит также для проверки и расширения сферы применения теории. В дальнейшем область ее действия можно было бы увеличить, приняв во внимание еще более крайние случаи, которые легче всего найти, обратившись к той исторической эпохе, когда чрезвычайно жесткие и насильственные формы принудительного контроля были общепринятыми. Аналитическую теорию следует отличать от эмпирических обобщений, говорящих о тенденциях, которые действуют какое-то время. Только первая может дать нам понимание будущих социальных образований, независимо от того, наблюдается или нет радикальное изменение эмпирических тенденций в независимых переменных.
Еще одна причина наших неудач в деле систематического накопления общезначимых принципов объяснения состоит в том, что мы слишком полагаемся на новейшие достижения в статистической технике и недостаточно внимательны к перекрестным связям результатов, полученных различными методами. Как указал А. Стинчкомб [63, 55- 56] (в заголовке у него стоит: «Почему забыты обобщения?»): «Наибольшие значения коэффициентов корреляции в совокупности эмпирических материалов, как правило, будут иметь результатом и самые большие шаговые коэффициенты... Аналогично почти во всех случаях метрические коэффициенты в уравнении регрессии будут самыми большими по отношению к вариациям величины причинных сил, когда шаговый коэффициент наибольший... И, в свою очередь, отношения с большими показателями при лог-линейном анализе почти всегда оказываются теми же самыми отношениями, которые имеют большие метрические коэффициенты регрессии... Это значит, что почти все в нашем причинном знании с того времени, когда мы стали использовать коэффициенты корреляции (или даже внимательно изучать перекрестные табличные данные), и по сию пору остается нашим причинным знанием при всех новомодных переходах к шаговому анализу, к структурным уравнениям с метрическими коэффициентами, к лог-линейному анализу». Разумеется, прогресс есть в том смысле, что лог-линейный анализ или измерения ненаблюдаемых (скрытых) переменных позволяют нам увидеть определенные труднодоступные структуры, моделировать определенные сложные образования и учитывать конкретные вероятности ошибок измерения. Но все это продвижения, так сказать, на периферии теоретически содержательных парадигм, а не в их центре. Нам следовало бы опираться на более ранние результаты, а не отбрасывать их из-за того, что прежним исследованиям не хватало всех сегодняшних технических утонченностей.
Так как очередные методологические усовершенствования (см. например: [11; 42; 76]) получают признание быстро, то среди социологов нет и автоматического «методологического постоянства». Объясняющие модели всегда «недоде-терминированы» данными при любом конкретном их множестве, и в наши предложения всегда входят теоретические соображения относительно того, какие модели можно исключить с наибольшими основаниями. Если эмпирические схемы достаточно жизнеспособны, т. е. если наши теории на верном пути, мы будем выходить на эти схемы многообразными методами. Если теории плохо ухватили центральные процессы, тогда итогом всех статистических утонченностей, вероятно, будет в лучшем случае лишь знак чего-то неизвестного.
Все исследовательские методы имеют свои слабости. Мы можем преодолеть их, показав согласованность результатов, полученных различными методами. Поэтому, несмотря на слабости сравнительных исследований [42], непротиворечивость теории, опирающейся на все доступные источники данных, может быть использована для обоснования наших выводов относительно факторов, действующих в изучаемой совокупности данных. Экспериментальные свидетельства особенно хорошо помогают, когда привязаны к общей теоретической схеме. Поэтому надо искать теоретические связи с «натуралистическими» исследованиями (например, организаций или взаимодействий лицом к лицу), с историческими исследованиями динамических процессов, а по сути - с социологическими исследованиями во всем их диапазоне. Логическая согласованность, если она достаточно прочна, сможет вывести нас из любого локального методологического тупика. И это довод в пользу теоретического осмысления наших результатов везде, где возможно. С точки зрения методолога, теорию можно рассматривать как приспособление для накопления и хранения наших толкований вышеупомянутой согласованности. Поэтому игнорирование более ранних исследований - это порок, а не добродетель. Самые различия в исследовательских методах дают нам благоприятную возможность подтвердить наши результаты как бы приемом «триангуляции».
Социология занята во множестве различных предприятий. Крайнее разнообразие наших занятий, сонм мелочей порождают тучу пыли, которая скрывает то, что мы уже знаем. В каком-то смысле слишком большой объем знания оказывается для нас проблемой, особенно потому, что огромная его часть смещена в практически-описательную сторону, которая становится необозримой, если не представлена компактно в теоретических обобщениях. Мы страдаем от ограниченности наших познавательных способностей, и эта познавательная перегрузка усиливает защитные тенденции в мире интеллектуальной деятельности. В результате подобной самозащиты социологическое мировоззрение упрощается до идеологии собственной исследовательской специальности, теоретического лагеря или политической фракции и сосредоточивается исключительно на новейших исследовательских данных и технике.
Заключение
Мое последнее соображение, возможно наиболее важное, касается настроения, общей атмосферы в социологии. Речь идет о наших социальных отношениях, наших установках по отношению друг к другу в сфере нашей профессиональной интеллектуальной деятельности. Многое из того, что мы говорим сегодня о работах коллег, отличается негативизмом, враждебностью, пренебрежением. Эта фракционность ослабляет социологию, ибо мы нуждаемся в многообразии подходов, чтобы подтвердить наши результаты перекрестными сравнениями.
Чтобы продвинуться в социологии, нам нужен дух благородства, а не дух фракционного антагонизма. Это не то же самое, что лозунг, утверждающий «право каждого идти своим путем», т. е. терпеть друг друга, но никак не обращаться между собой интеллектуально. Построение социологического знания - это коллективное предприятие и в более чем одном измерении. Все виды человеческой деятельности социальны, и сама наука есть процесс организации коллективной мысли. Как и в других делах человеческих, конфликт внутренне присущ организации интеллектуального мира. Это само по себе неплохо, поскольку конфликт - главный источник интеллектуальной динамики, включая процессы, посредством которых мы выдвигаем новые теории и коллективно решаем, какие из них ведут к лучшим результатам. Но конфликт не должен доходить До крайностей. Ни в одной другой форме интеллектуальной жизни не зависим мы так сильно друг от друга, как в науке. Чтобы объединиться, как подобает ученым, нам нужно сосредоточиться на согласовании теоретических концепций поверх границ разных исследований. Личностная грань этого интеллектуального устроения - великодушие и добрая воля, доброжелательное, положительное отношение к лучшим достижениям друг друга, пока мы вместе нащупываем наш путь вперед.
ЛИТЕРАТУРА
1.Вебер М. История хозяйства. Очерки всеобщей социальной и экономической истории / Пер. с нем. Пг: Наука и школа, 1923.
2.Саймон Г. Рациональность как процесс и продукт мышления // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 16-39.
3.Asch S. Е. Effects of group pressure upon the modification and distortion of jugements //’ Groups, leadership and men / Ed. by H. Gaetzkew. Pittsburgh: Carnegie Press, 1951.
4.Berger J., Wagner D. G., Zelditch M., Jr. Expectation states theory: the status of a research programm. Stanford University: Technical Report. № 90. 1983.
5.Bloor D. Knowledge and social integrity. L.: Routlende I Kegan Paul, 1976.
6.Bloor D. Wittgenstein: a social theory of knowledge. N.Y.: Columbia University Press, 1983.
7.Blunter H. Symbolic interactionism. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Hall, 1969.
8.Bolt E. Family and social network. L.: Tavistock, 1971.
9.Bourdieu P. Distinction: a social critique of the judgement of taste. Cambridge: Harvard University Press, 1984 [1979].
10.Brown R. H. Society as text. Chicago: University of Chicago Press, 1987.
11.Campbell R. T. Status attainment research: end of the beginning or beginning of the end? // Sociology of Education. 1983. Vol. 56. P. 47-62.
12.The category of the person / Ed. by M. S. C. Carrithes, S. Lukes. Cambridge; N.Y.: Cambridge University Press, 1985.
13.Clegg S. Power, rule and domination. A critical and empirical understanding of power in sociological theory and everyday life. L.: Routledge & Kegan Paul, 1975.
14.Collins R. On the micro foundations of macro-sociology // American Journal of Sociology. 1981. Vol. 86. P. 984-1014.
15.Collins R. Long-term social change and territorial power of states // Collins R. Sociology since Mid-century: Essays in Theory Cumulation. N.Y.: Academic Press, 1981.
16.Collins R. Weberian sociological theory. Cambridge; N. Y: Cambrige University Press, 1986.
17.Collins R. Theoretical sociology. San Diego: Harcourt Brace Jova-novich, 1988.
18.Cook К. S.. Emerson R. Л/., Gillmore M. R., Yamagislii T. The distribution of power in exchange networks // American Journal of Sociology. 1983. Vol. 89. P. 275-305.
19.Coser L. A., Kaduchin C.. Powell W. W. Books: the culture and commerce publishing. N. Y.: Basic Books, 1982.
20.Crazier M. The bureaucratic phenomenon. Chicago: University of Chicago Press, 1964.
21.DiMaggio P., Useeni M. The arts in cultural reproduction // Cultural and Economic Reproduction in Education / Ed. by M. Apple. L.: Routledge & Kegan Paul, 1982.
22.DummettM. Truth and other enigmas. Cambridge: Harvard University Press, 1978.
23.Durkheim E. The elementary forms of the religious life. N. Y.: Free Press, 1954 [1912].
24.Etzioni A. A comparative analysis of complex organizations. N. Y: Free Press, 1975.
25.Foucault M. The archaeology of knowlege. N. Y: Random House, 1972 [1969].
26.Ftichs S.. Turner J. What makes a science mature? Organizational control in scientific production // Sociological Theory. 1986. Vol. 4. P. 143- 150.
27.Garfinkel H. Studies in ethnonethodology. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1967.
28.Gibbs J. Sociological theory construction. Hinsdale: Dryden Press, 1972.
29.Goffman E. The presentation of self in everyday life. N. Y: Doubleday, 1967.
30.Goffman E. Interaction ritual. N. Y: Harper and Row, 1974.
31.Goffman E. Forms of talk. Philadelphia: University of Philadelphia Press, 1981.
32.Goldstone J. State breakdown in the English revolution// American Journal of Sociology. 1986. Vol. 92. P. 257-322.
33.Goldstone J. Cultural orthodoxy, risk and innovation: the divergence of East and West in the early modern world // Sociological Theory. 1987. Vol. 5. P. 119-135.
34.Goodman N. Ways of world-making. Indianapolis: Bodds-Merrill, 1978.
35.GottdienerM. Hegemony and mass culture: a semiotic view // American Journal of Sociology. 1985. Vol. 90. P. 979-1001.
36.Heise D. Understanding events affect and the construction of social action. N.Y.: Cambridge University Press, 1979.
37.Heise D. Affect control theory: concepts and model // Journal of Mathematical Sociology. 1987. Vol. 13. P. 1-33.
38.Homans G. The human group. N.Y.: Harcourt Brace, 1950.
39.Kahneman D., Slavic P., Tversky A. Judgement under uncertainty heuristics and biases. L.: Cambridge University Press, 1982.
40.Klein D. Causation in sociology today: a revised view// Sociological Theory. 1987. Vol. 5. P. 19-26.
41.Lewis D. On the plurality of worlds. Oxford: Basil Blackwell, 1986.
42.Lieberson S. Making it count: the improvement of social research and theory Berkeley: University of California Press, 1985.
43.Naclntyre A. After virtue. Notre Dame (IN): University of Notre Dame Press, 1984.
44.March J.. Simon H. Organizations. N.Y.: Wiley, 1958.
45.Mann M. The sources of social power. Vol. 1. N.Y.: Cambridge University Press, 1986.
46.Meeker В., Hage J. Social causality. L.: Alien and Urwin, 1988.
47.Moore B. Social origins of dictatorship and democracy. Boston: Beacon Press, 1966.
48.Mulkay M. The world and the world: explorations in the form of sociological analysis. L.: Alien and Unwin, 1985.
49.Paige J. Agrarian revolution. N.Y.: Free Press, 1975.
50.Perrow C. A framework for the comparative analysis of organizations //American Sociological Review. 1967. Vol. 32. P. 194-208.
51.Perrow C. Normal accidents. NY: Basic Books, 1984.
52.Piitnam H. Realism and reason. Philosophical papers. Vol. 3. N.Y: Cambridge University Press, 1983.
53.Ouine H’. Ontological relativity and other essays. N.Y.: Columbia University Press, 1969.
54.Rosenderg A. Sociobiology and the preemption of social science. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1980.
55.RosenbergM. Conceiving the self. N.Y: Basic Books, 1979.
56.Schelling T. The strategy of conflict Cambridge: Harvard University Press, 1962.
57.Science observed. Perspectives on the social study of science / Ed. by K. Knorr-Cetina, M. Mulkay. Beverly Hills: Sage, 1983.
58.Simon H. Models of man. N.Y: Wiley, 1957.
59.Skocpol T. States and social revolutions. N.Y: Cambridge University Press, 1979.
60.Spencer M. The imperfect empiricism of the social sciences // Sociological Forum. 1987. Vol. 2. P. 331-372.
61.Stinchcombe A. Agricultural enterprise and rural class relations // American Journal of Sociology. 1961. Vol. 67. P. 165-176.
62.Stinchcombe A. Conctructing social theories, N.Y: Harcourt, Brace and World, 1968.
63.Slinchconihe A. The origins of sociology as a discipline // Acta Socio-bgica. 1984. Vol. 27. P. 51-61.
64.Tilly C. From mobilization to revolution. Reading (MA): Addison-Wesley, 1978.
65.Turner J. A theory of social interaction. Stanford: Stanford University Press, 1988.
66.Turner R. The role and the person // American Journal of Sociology. !978. Vol. 84. P. 1-23.
67.Turner S. Underdetermination and the promise of statical sociology // Sociological Theory. 1987. Vol. 5. P. 172-184.
68.Walker H. Spinning gold from straw: on cause, law and probability // Sociological Theory. 1987. Vol. 5. P. 28-33.
69.Wallace W. Causal images in sociology // Sociological Theory. 1987. Vol. 5. P. 41-46.
70.Wallerstein I. The modern world system. Vol. 1. N.Y.: Academic Press, 1974.
71.Weber M. Religious rejections of the world and their directions // From Max Weber: Essays in Sociology. N.Y.: Oxford University Press, 19^6 [1915].
72.Whitley R. The intellectual and social organization of the sciences Oxford: Clarendon Press, 1984.
73.While H. Where do markets come from? // American Journal of Sociology. 1981. Vol. 87. P. 517-547.
74.White W. Street corner society. Chicago: University of Chicago Press, 1943.
75.Wilensky H. The professionalization of everyone? // American Journal of Sociology. 1964. Vol. 70. P. 137-158.
76.Wilier D. Theory and the experimental investigation of social structures. N.Y.: Gordon and Breach, 1987.
77.Williamson O. Markets and hierarchies. A study of the economics of internal organization. N.Y.: Free Press, 1975.
Гёран Терборн
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КУЛЬТУРЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В СТРУКТУРЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: ОБЪЯСНЕНИЕ В СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ НАУКЕ*
ПОЧЕМУ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
Вероятно, в ближайшем будущем социологическое теоретизирование претерпит изменения весьма драматического свойства. Сегодня на передний план выдвинулось, говоря словами Дж. Александера [9], новое движение за теорию: предпочтение отдается эрудиции и тщательной продуманности высказываний. Однако вряд ли можно считать, что благодаря этому после бурь и потрясений конца 60-х - начала 70-х годов в социологии воцарились мир и согласие относительно ее общей парадигмы. Теоретическая социология фактически беззащитна перед лицом молчаливого неодобрения многих несоциологов, а также открытой критики в рамках самой этой дисциплины, которая, по всей вероятности, будет нередкой (нельзя исключить, что и нынешние ее лидеры предпримут радикально новые ходы).
Слабости современной социологической теории мы можем суммарно представить в виде двух положений.
* Therbom G. Cultural belonging, structural location and human action. Explanation m sociology and social science // Acta Sociological Journal of the Scandinavian Sociological Assosiation. 1991. Vol. 34. N° 3. P. 177-192. - Прим. перев.
© Scandinavian Sociological Association, 1991.
© Тезис (рус. перевод).
Первое состоит в том, что социальная теория и социальная наука фактически тождествены социологии. Этот факт нашел свое отчетливое выражение в структуре изданного Э. Гидденсом и Дж. Тернером весьма представительного сборника «Социальная теория сегодня» [44]. Дж. Алексан-дер в своей статье «Центральное место классики» [8], помимо весьма красноречивой защиты непреходящего центрального значения классиков для современного социологического теоретизирования, проводит противопоставление «социальной» и «естественной» науки, хотя в действительности, говоря о первой, он имеет ввиду только социологию.
Это означает, что за скобки выносятся экономические и другие внесоциологические теории социального взаимодействия, например теория игр. Во всех естественных и гуманитарных дисциплинах существует склонность к интеллектуальному шовинизму и близорукости. Однако интеллектуальное течение, неспособное принять прямой вызов своим постулатам и быстро ответить на него, может оказаться на обочине научной мысли. Мощное продвижение моделей рационального выбора в целом ряде областей социальных исследований, таких, как политология, экономическая история и демография, также привело к ожесточенным контратакам на них или к тщательной проверке этих моделей в попытке доказать, что нормы и институты нельзя редуцировать к индивидуальному рациональному выбору. В результате возникла парадоксальная ситуация: в социальных науках ведется яростный спор относительно основных перспектив развития классической социологии, в то время как нынешнее социологическое теоретизирование отвергает само существование таких перспектив (единственным значимым исключением является Дж. Коулмен). В этой дискуссии, имеющей фундаментальное значение, лучшими защитниками классических социологических концепций до сих пор были политологи [51; 53; 77], философы [32; 34; 35] и историки [19; 38; 45; 67]. Социологические «ставки» здесь исключительно высоки, и не замечать дискуссию уже невозможно, а мнение, будто Парсонс раз и навсегда разрешил «дилемму утилитаризма», вряд ли будет впредь основополагающим в социологической теории.
Второе положение можно сформулировать следующим образом: основная задача социологической теории состоит в концептуализации социального порядка, его возможности и/или социального действия. Приведем несколько примеров из литературы последних лет. У Гидденса читаем: «Понятия теории структурадии, подобно любой конкурирующей теоретической перспективе, для множества исследовательских целей должны считаться не чем иным, как сенсибилизирующими приспособлениями» [40, 236]. В другой его книге имеется высказывание, что «отправной точкой теоретического мышления и эмпирической работы в социальных науках должен считаться анализ повторяющейся социальной практики» [43, 252]. Для М. Арчер основной «целью является теоретизирование относительно условий культурной стабильности или изменений» [14, XVIII]. Александер формулирует свои исходные намерения так: «Я намерен рассматривать действие как движение в двух основных измерениях: интерпретации и страте-гизации. Эти два аспекта следует считать аналитическими элементами потока эмпирического сознания» [11, 300].
Более амбициозный на первый взгляд, проект «аналитического теоретизирования» Дж. Тернера [4] тоже оказывается лишь разработкой «сенсибилизирующей схемы для анализа человеческой организации».
Из приведенных высказываний ясно, что в преобладающем ныне в общей социологии типе теоретизирования совершенно отсутствует или считается второстепенным именно стремление объяснять. Весьма слаб интерес к вопросам типа: «Почему эти люди действуют таким образом? Почему данный социальный порядок изменяется именно таким образом?»
Не вдаваясь в эпистемологические споры, можно сказать, что объяснить нечто - значит дать правдоподобное обоснование того, почему в данной ситуации, в которой существовала по меньшей мере еще одна возможность, актуализировалось именно это нечто. Концептуализация - необходимая составляющая теоретизирования, и она всегда занимала значительное место в теоретической работе социологов. Тем не менее в ближайшем будущем необходимость концентрации усилий на разработке, обсуждении и сравнении концептуальных схем, весьма вероятно, будет оспорена или отпадет вовсе.
Как правило, объяснение считается более высокой на-Учной задачей, чем концептуализация, которую часто рассматривают лишь как средство для объяснения цели исследования. Теория рационального выбора, бросающая вызов всем социальным наукам, сосредоточена непосредственно на объяснении. До сих пор компромисс в господствующей социологической теории по большей части был основан на интересе к «действию» и к человеку как «действующему субъекту». В эмпирическую исследовательскую практику социологов во все возрастающей мере эксплицитно включалось каузальное моделирование в путевом анализе, регрессионных уравнениях, моделях LISREL и т. д. В такой обстановке продолжение исследований того, как следует понимать действующих и человеческое действие, возможно, скоро станет занятием неблагодарным и сомнительным.
Объяснение в социальных науках
Уровень чувствительности концептуальных схем, долгое время господствовавших в общесоциологической теории, весьма спорен, а различия в повседневной практике социологов-эмпириков крайне велики. Однако, по-моему, существует и некий основной способ социологического объяснения. Конечно, он не охватывает все виды объяснения, используемые теми, кто претендует на звание социолога. И тем не менее, достаточно отчетливо видны варианты, которые можно объединить под общим названием неоклассической социологии. Основной признак принадлежности к ней - признание работ Дюркгейма, Маркса и Вебера в качестве изначального и классического свода социологии. То же можно сказать и о объяснениях, предлагаемых ин-терпретативной микросоциологией и структурным сетевым анализом. Ниже я попытаюсь дать формулировку данного типа социологического объяснения, соотнося его с другими способами объяснения в социальных науках.
В социальных науках предпринимается попытка объяснить две группы феноменов - человеческое социальное действие и результаты человеческого социального действия. Во-первых, ученые-обществоведы выясняют, почему люди действуют именно таким образом в социальных отношениях и во взаимоотношениях с другими людьми. Во-вторых, нас интересует совокупность явлений, которые можно обозначить как «результаты» человеческого социального действия, даже если нам удобнее говорить, скажем, о распределении дохода, возрождении ислама, продолжительности брака. Сохранение или изменение институтов, социальных отношений, моделей, ресурсов, созданных человеком, также можно рассматривать или объяснять в качестве результатов человеческого социального действия, не прибегая (непременным образом) к принципу «методологического акционализма» [71].
Прежде всего представим как объясняется действие. Необходимые элементы explanandum'& таковы: совокупность действующих, совокупность ситуаций и совокупность вероятных действий, имеющих хотя бы две альтернативы. Что касается совокупности действий, то академическое разделение труда во многом поделило дисциплины и поддис-циплины социального исследования соответственно изучаемым ими типам действия. Так, экономисты занимаются действиями различного рода предпринимателей на рынке, политологи - политиков и граждан, исследователи процесса обучения - действиями учителей и учеников, а социологи занимаются всем понемножку, кроме специфически экономических, политических и т. д. типов действия. Все же и в неоклассическом синтезе в социологии, и в моделях рационального выбора, бросивших вызов социологии, считается, что прагматическое разделение дисциплин соответственно группам действий в научном отношении нерелевантно или, по крайней мере, вторично. Итак, остается два аспекта различения объяснений социального действия - это характеристика совокупности действующих и характеристика совокупности ситуаций.
При объяснении решающее значение имеет различение вариации, которую мы изучаем, и вариации, которая берется как заданное, либо предопределенное, либо случайное. Последние две характеристики отнюдь не синонимичны, но для простоты в табл. 1 такое различение не проводится. За некоторыми исключениями (о них мы упомянем ниже), в моделях рационального выбора действующие рассматриваются как данное. Предполагается, что даны их предпочтения и склонности к максимизациям, а все остальное у них случайным образом различно.
При типичном теоретико-игровом подходе и действующие (ведущие себя рационально), и ситуации рассматриваются как нечто заданное, причем ситуация задается матрицей выплат [3; 47; 15]. Объяснение фокусируется на следующих вопросах: какова оптимальная стратегия для каждого игрока в данной игровой ситуации? Есть ли у игры равновесное состояние - одно или несколько - и что из этого следует? Теорию игр также распространили и на игры на нескольких аренах, игры в игре, например институциональные или конституционные игры [71], в которых основная логика объяснения становится схожей с логикой объяснения в экономике.
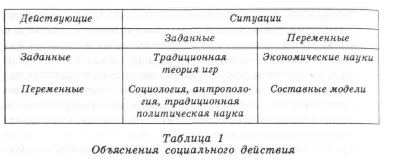
Предположения о максимизации полезности и стабильных предпочтениях не обязательно требуют наличия каких-либо исключительно эгоистических или финансовых предпочтений, не требуют также идентичности предпочтений у всех. Для конкретной совокупности действующих специфику «функции полезности» можно определять различными путями, причем для каждой совокупности иными. Но суть экономического объяснения заключается в другом. Объяснение и прогнозирование в экономике обычно опираются на основополагающий тезис, что действующие обладают определенными предпочтениями и подчиняются признанным правилам принятия решений.
Исходный же тезис социологического - и сходного с ним по сути антропологического - объяснения противоположен экономическому. Экономисты полагают, что в целях сколь-нибудь разумного научного анализа следует придерживаться мнения о стабильности предпочтений и что «о вкусах не спорят», т. е. вкусы людей примерно одинаковы [65, 76]. Социологи и антропологи, наоборот, исходят из того, что действующие делятся на разного рода категории и группы, относятся к разным историческим эпохам. На взгляд социологов и антропологов, социальные действия различаются, потому что неодинаковы сами действующие, принадлежащие к разным группам, полам, классам, обществам, культурам и т. д.
Вместе с тем обычно предполагается, что ситуации или обстоятельства действия изменчивы и случайны. В терминах понимающей социологии, ситуация задается тем, как ее определяют действующие. Возможности выбора, которыми располагает социологически понимаемый действующий, обычно изменяются в зависимости от его ценностей, принятых им норм, понимания им ситуации и от его местоположения в социальной структуре, а не от непосредственной ситуации действия. Местоположение в социальной структуре иногда считают «ситуацией», в которой оказывается действующий, однако эта «ситуация» является более или менее постоянной характеристикой действующего, и ее не следует путать с обстоятельствами совершения отдельного действия, которые надо объяснять особо. Альтернативы определяются культурой или «задаются структурным образцом» [66, 14 и ел.], так что ситуации действия отличаются от этих альтернатив несущественно. То, что Стинчкомб в блестящем анализе концепции Р. Мертона - автора, видимо, самых ясных в социологии объяснений - называет социально структурированными альтернативами [66, 12], в терминах используемого здесь различения «действующий-ситуация» оказывается альтернативами, «структурированными» принадлежностью действующего к культуре и его местоположением в структуре.
Политическая наука, как в ее бихевиористском, так и в конституциональном вариантах, традиционно строила свои объяснения на основе различий положения, ценностей и интересов действующих и практически не занималась общей теорией политического действия как таковой. В последнее время политическая наука стала все чаще приспосабливать для своих целей экономические модели.
Характерные черты экономического и социологического объяснения можно найти в клеточках 2 и 3 соответственно (см. Табл. 1). Различие между ними ярко продемонстрировал А. Этциони, недавно высказавший решительные возражения против экономического подхода. Эгци-они утверждает, что «в большинстве случаев выбор осуществляется при слабой обработке информации (о ситуации - Г. Т.) или вообще без нее и в значительной мере, или даже полностью, зависит от эффективных привязанностей или нормативных обязательств (действующих - Г. Т.)* [36, 95]. Иными словами, по Этциони, действующих не заботит ситуация, в которой они находятся, и то, как она меняется: они действуют в соответствии со своими конкретными привязанностями и обязательствами. Выбор по большей части определяется «привычками» и «инерцией» действующего, а не ценами и усилиями [36, 161].
С другой стороны, не все социологи стоят на собственно социологической точке зрения. Социальная теория Дж. Ко-улмена [28], известного чикагского социолога, явно изоморфна экономике и отличается от нее в основном анализом обменов правами на совершение действия и их последствиями. В центре микросоциологической теории «состояния ожиданий» Дж. Бергера и др. (см. общий обзор этой концепции [21]) тоже стоит вопрос, как внешние условия формируют ожидания действующего относительно поведения других.
Следует добавить, что имеются и смешанные схемы объяснения. Обычно социологическая дифференциация действующих сочетается в них с экономической точкой зрения на изменение ситуации. Примерами из экономики могут служить теории, в которых центральное место занимают различия в исходных ресурсах или «специфичность активов» действующих (или совокупности действующих) - это в теории международной торговли или в теории организаций [5; 78]. Еще один пример - марксистский классовый анализ с применением микроэкономического моделирования [58]. Некоторые течения экономической социологии (например, [76]) составляют третий подвариант. Все они занимаются вариацией поведения действующего, определяемой наличными ресурсами, т. е. системной вариацией. Несмотря на то что Коулмен [28, 132] подчеркивает важность «конституции» социальной системы, т. е. первоначального распределения среди действующих контроля над ресурсами, все же она в его теории вторична по отношению к нормам и конституциям в любой совокупности рациональных действующих.
Марч и Олсен [53] дали свой вариант смешанной модели, в центре которой - изменения в самоопределении действующих. Через «логику соответствия» они соединили следующего правилам «человека социологического» с изменчивостью ситуации: «Политически действующие люди связывают определенные действия с определенными ситуациями посредством правил соответствия. Все, что подходит конкретному человеку в конкретной ситуации, детерминировано политическими и социальными институтами и усвоено человеком через социализацию. Поиск предполагает изучение характеристик конкретной ситуации, а выбор - приведение поведения в соответствие с ней» [53, 23]. Далее ими были вычленены три типичных вопроса и один императив, ответы на которые предполагаются в «обязательном» действии в противовес «упреждающему»: «1. К какому типу принадлежит эта ситуация? 2. Кто я такой? 3. Насколько подходят для меня различные варианты действия в данной ситуации? 4. Делай то, что наиболее уместно». Односторонность этой модели очевидна.
По-моему, прогресс в развитии социологической теории и политической науки, родственной социологии, вообще невозможен без согласия в понимании того, как поступают различные люди в различных ситуациях. До сих пор мы только локализовали типично социологические объяснения в более общем контексте, имеющихся в социальных науках видов объяснений. Теперь надо попытаться более внятно и позитивно определить собственно социологический способ объяснения. Сосредоточимся при этом по преимуществу на объяснении действия, а не на том, какие оно имеет последствия.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ
Все разнообразие социологических объяснений располагается между двух полюсов. Они были зафиксированы уже в первом выдающемся неоклассическом синтезе социологии - в книге Т. Парсонса «Структура социального действия», написанной в 1937 г. [57]. Правда, Парсонс установил скорее «систему координат», нежели способ объяснения, причем сосредоточил свое внимание на одной из точек этой системы, а именно, на ценностях и нормах действующих. Другой полюс социологических объяснений - условия действия. Последними в главном русле социологического теоретизирования вплотную занимался Р. Мер-тон [55]. По мнению П. Штомпки, у Мертона речь шла о «структуре возможностей» [68, 162-163]. Впоследствии, когда марксистский классовый анализ получил социологическое «гражданство» и была радикально переосмыслена веберовская концепция власти, этот тип социологического объяснения занял достойное место.
Зрелый неоклассицизм - этот результат соединения со-циологизированного Маркса и теперь уже не идиллически трактуемого Вебера с первоначальными идеями Парсонса, обогащенный наследием Мида, феноменологией и лингвистическими теориями - не был должным образом кодифицирован, в том числе, разумеется, и в качестве объясняющей теории. У отдельных авторов, внесших в неоклассическую социологию наибольший вклад, таких как Ю. Хабермас [6; 46] и Э. Гидденс [40], объяснение не входило в число их главных научных интересов. Оба теоретика использовали свои глубокие классические исследования в основном для того, чтобы подкрепить свои собственные концептуальные схемы.
Но, как правило, всеохватывающие и всепримиряющие теоретические обзоры до сих пор сбиваются на школярский биографический подход к социологической теории. Здесь можно упомянуть книгу 1988 г. Р. Коллинза «Теоретическая социология» [29], хотя к ней это относится в несколько меньшей степени, чем к удачному в целом биографическому учебнику Тернера [72а].
При этом деятельность теоретика ограничивается тем, что дается спецификация основных переменных объяснения, характерных для социологии (достаточно общих и безличных), и все возвращается к тому же соперничеству разного рода «измов» и ранимых честолюбий.
С этой точки зрения, по-моему, объяснения социологического типа (обнаруживаемые также в антропологии, политической науке и в историографии) сводятся к объяснению поведения людей различиями их культурной принадлежности, местоположения в социальной структуре или взаимодействием того и другого. Социологи расходятся и спорят по поводу относительной значимости этих двух основных совокупностей переменных и относительной значимости основных характеристик внутри каждой совокупности. Обычно считается, что объясняющие переменные не детерминируют индивидуальное поведение. Скорее, культурная принадлежность и местоположение в структуре детерминируют вероятность того или иного выбора в популяции действующих.
КУЛЬТУРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ
Принадлежность к культуре означает включенность в универсум общего знания в самом широком смысле этих понятий. В терминах объяснения культурная принадлежность действующих - это именно то, что наделяет их над-индивидуальной, способной изменяться, движущей силой.
Отстаивая положение «о вкусах не спорят», экономисты Дж. Стиглер и Г. Беккер пишут в конце одной из своих статей: «Можно только приветствовать появление объяснений того, почему одни люди увлекаются спиртным, а другие - Моцартом» [65, 89]. С постановки именно таких вопросов начинают социологи.
Социолог предполагает, что предпочтения людей различаются постольку, поскольку они принадлежат к разным культурам, из которых они усвоили различные жизненные цели и желания, конкретные нормы правильного поведения, особые способы выражения эмоций и владения ими; каждая из этих переменных по-своему важна. Это предположение само по себе может служить объяснением человеческого действия, так как люди с разными предпочтениями или разным чувством долга действуют по-разному. Объяснение при этом есть нечто большее, чем утверждение: «А действует ради получения X, ибо он/она принадлежит к культуре, желающей X*. Такое объяснение всегда обладает значимостью, хотя бы простейшей, в силу того, что культура, помимо прочего, является совокупностью тесно связанных предпочтений и норм и в таком своем качестве присутствует во всех своих провседневных определениях и коннотациях. Поэтому культур гораздо меньше, нежели предпочтений и вкусов. Вероятность того, что североамериканский еврей, например, принадлежащий к среднему классу, будет поклонником Моцарта, гораздо выше вероятности того, что Моцартом увлечется поденщик с Явы; а вероятность того, что рабочий - ирландец или финн - будет любителем спиртного, гораздо выше вероятности, что таковым будет крестьянин-мусульманин. Социологи предполагают, что эти связки культурных стандартов обладают определенным постоянством. С социологической точки зрения, правомерно предположить, что английский джентльмен (или английская леди) будет вести себя одинако в самых разных ситуациях в любых местах Британской империи.
Кроме того, принадлежность к культуре означает усвоение определенной когнитивной и коммуникативной компетенции, определенного языка, социального горизонта, мировоззрения или совокупности верований, способа толковать и определять ситуации, справляться с неопределенностью и посылать сигналы. Принадлежность к определенной культуре означает, что действующий - часть особого универсума смысла и особого способа конструирования и передачи смысла. Объяснение, опирающееся на эту особенность культуры (конечно, в более сложном контексте она должна быть дифференцирована), обретает значимость в зависимости от того, насколько данная культура стабильна во времени и в разных ситуациях и насколько специфичны восприятие, обсуждение и реакция ее носителей на те или иные явления и события. В отличие от экономистов, социологи рассматривают разговор как форму действия, также подлежащую объяснению. И здесь, конечно, модель действия как «выбора» перестает работать, ведь речевое сообщество может установить довольно узкие пределы того, о чем позволительно говорить.
В той мере, в которой использование символов способствует укреплению власти или позволяет бросить ей вызов, объяснение действия с точки зрения культуры релевантно также и для макрополитики и соперничает, скажем, с политическими моделями общественного выбора.
Третий важнейший аспект социологического понимания принадлежности к культуре состоит в том, что она определяется по двум измерениям - общему ощущению действующим его тождественности с одними людьми и отличия от других. Это положение дополняется наличием подобного ощущения «идентичности-дифференциро-ванности» и у других участников коллективного действия. Идентифицировать себя с другими людьми значит, что некто в некотором смысле не делает различий между другими и собою и, следовательно, готов на жертвы ради этих других, идентичных с ним.
Далее, «идентичность-дифференцированость» функционирует так, что это неизбежно влечет появление общих, специфических для данной культуры позиций доверия и недоверия. Объяснительная сила этого аспекта культурной принадлежности зависит от истинности положения о том, что люди предсказуемым образом отличают тех, с кем они себя идентифицируют, от других и действуют по отношению к первым иначе, чем по отношению ко вторым.
Несмотря на весьма беглую характеристику социологических объяснений культурной принадлежности указанные измерения показывают, что вопреки утверждениям Ю. Эльстера [35, 97 и ел.], социологическую альтернативу моделям рационального выбора едва ли можно свести к объяснению через социальные нормы. Все многообразие возможных вариантов относительно когнитивных перспектив действующих и определения их идентичности, которые они привносят в действие, - также неотъемлемая часть социологии.
Кроме того, культуры всегда погружены одна в другую (иногда в очень сложных конфигурациях), в роли, ролевые комплексы, ролевые структуры, в подгруппы, труппы, этносы или «общества», «цивилизации» и/или во что-то иное. Культуры в социологических (а также политологических, антропологических) объяснениях определяются скорее через их границы, т. е. различия совокупностей действующих [18, 14 и ел.], чем через их внутреннюю сущность.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В СТРУКТУРЕ
Пытаясь выработать объяснение, следует избегать сущ-ностного определения «социальной структуры», так как это понятие используют настолько разнообразно, что оно перестало быть критерием различения соперничающих школ в социологии [63]. С точки зрения действия, влияние структуры можно рассматривать либо в качестве ресурса, либо ограничения действия (или того и другого), при этом соответствующая система координат - это совокупность действующих, а не «общество» или «группа». Масштаб соответствующей совокупности определяется ех-planandum»oM и применяемой теорией. В реально существующей социологии совокупность действующих варьируется от диады до «мировой системы». В той мере, в какой в объяснениях с точки зрения местоположения в структуре вообще уделяется внимание культуре, соответствующая совокупность является также частью культуры или субкультурой.
В этом случае местоположение действующего в структуре означает местоположение по отношению к более или менее стабильно распределяемым ресурсам и ограничениям действия в популяции действующих. Это основной момент объяснений социологического типа. Он состоит в том, что независимо от наличия универсальных, стабильных предпочтений или специфических культурных ценностей, интерпретаций и отождествлений различия действующих по отношению к ресурсам и ограничениям носят ярко выраженный и довольно постоянный характер; эти различия влияют на их действия в сходных ситуациях.
Общепризнана неопределенность культуры. Но она гораздо легче поддается обобщенному рассмотрению, чем все точные понятия социальной структуры - противоречивые, а следовательно, и произвольные. Однако, как выясняется, основные характеристики «местоположения в структуре» как социологической переменной объяснения могут быть переданы следующей трихотомией. Существуют стандарты ресурсов и ограничений действующего, институционально влияющие на его местоположение, и институционально вторичное/'неинституционализированное распределение ресурсов и ограничений. Помимо этих двух типов структурирования институционального пространства, в которое помещена данная совокупность действующих, существует еще временной порядок, дифференцирующий последовательность, в которой действующие попадают в сходные ситуации, и задающий тем самым различия между вариативными ресурсами и ограничениями действующего. Иными словами, принадлежность к культуре определяет, кто входит в структуру, а кто находится вне ее, в то время как местоположение в структуре дифференцирует действующих на стоящих вверху и внизу [69, 23 и ел.].
Регулируемые социальные установки, «игры» или институты, в рамках которых действуют люди, обычно предполагают, что имеется какой-то стандарт институциональных установок. Он может быть уравнительным, но чаще всего демонстрирует внутренне присущую распределению ресурсов и ограничениям дифференциацию. Это относится к кровным родственникам и семье на протяжении практически всей человеческой истории, к большей части способов производства, к крупным организациям и политическим системам. Экономисты, которые иногда все-таки обращают внимание на такого типа различия между действующими, могут усмотреть такую первичную структуризацию в распределении исходных ресурсов. Марксисты увидели бы имущих и неимущих, а иногда и «противоречивое классовое положение» [79]. Феминистки же особо отметили бы разделение труда и власти по половому признаку. Исследователи организаций и политики провели бы разделение действующих на тех, кто принимает, проводит в жизнь и исполняет политические решения, или даже ввели бы какие-то иные различения в соответствии с распределением ресурсов власти и накладываемыми ограничениями.
Эти виды дифференциации действующих (в той мере, в какой они действительно имеют место) носят решающий характер, поскольку относятся к социальной обстановке, определяемой или, по меньшей мере, поддающейся определению различными типами действующих. В свою очередь, это означает, что местоположение в структуре дифференцирует рациональные интересы в данной обстановке, в рамках данной культуры. Еще один способ объяснения предложил Г. Зиммель, который показал "значимость чисел в социальной жизни" [62]. П. Блау [25] выступил как последователь Зиммеля и ввел в научный оборот целый ряд предположений о том, как размер группы, гетерогенность и неравенство членов группы влияют на социальное действие. Ю. Эльстер утверждал, что теория социального выбора лучше всего работает применительно к «действиям одного агента или многих агентов, но в рамках решения умеренно сложных проблем» [34, 27].
Универсальным, хотя и не самым важным, является другой тип местоположения в структуре. Речь идет о позициях центральности или периферийноети, неопределяемых, а существующих de facto. В частности, это касается положения действующих внутри культурных потоков (информирование о культурных целях, смыслах и идентичнос-тях) и доступа к другим действующим, например находящимся вне цепочек или ролевых структур. Значение этого фактора для объяснения зависит от того, насколько действия действующего задаются стандартом типичным для его стабильного местоположения (культурной центральности или маргинальности) [56], и/или местоположением в неинституционализированных сетях [взаимодействия] действующих [75]. Этот тип местоположения в структуре играл в свое время заметную роль в описаниях. Он использовался в социометрических картах «звезд» и «маргиналов» в сетях межличностных отношений, а также в подходе к изучению отношений на производстве с точки зрения неформальных групп.
Действующие оказываются в сходных ситуациях в разной временной последовательности, в силу чего ресурсы и ограничения действующих находятся под влиянием либо увеличения ресурсов (благодаря учету прошлого опыта), либо усиления ограничений (благодаря заранее сделанному выбору). В целом эта характеристика местоположения в структуре не имела большого значения для социологической теории. Она, видимо, более известена по работам экономического историка А. Гершенкрона [39], а также по работам исследующим процесс принятия решения в организациях, устроенных по принципу «мусорного бака», т. е. на основе временной сортировки [27]. Тем не менее, временная последовательность - это характеристика sui generis, имеющая очевидную значимость в исследованиях миграции и межэтнических отношений, в теориях политических массовых организаций и в глобальном развитии современности (что касается политической современности, ср. [70]).
КУЛЬТУРА И/ИЛИ СТРУКТУРА
Две совокупности вышеуказанных детерминант, находятся между собой в сложных отношениях первичности - вторичности, конкуренции - взаимодействия. Парсонси-анская социология, или наука о политической культуре [13; 74; 77], и марксизм представляют собой два варианта утверждения о первичности: первая приписывает первичность культуре, вторая - местоположению в структуре. В концепции политической социологии А. Пшеворского [58] описывается целый ряд конкурирующих основ при формировании привязанностей у действующих (в данном случае избирателей), причем конкурируют здесь между собой различные партии или «политические предприниматели». Примером взаимодействия культуры и структуры в неоклассической социологии является объяснение Р. Мерто-ном отклоняющегося поведения: «Моя основная гипотеза состоит в том, что отклоняющееся поведение с социологической точки зрения можно рассматривать как симптом разрыва связи между предписанными культурой стремлениями и определенными социальной структурой путями осуществления этих стремлений» [55, 188].
Здесь, вероятно, уместно напомнить читателю о задаче Данной статьи, скромно-всепримиряющей и в то же время амбициозно-критической. Она заключается в утверждении, что социология и общесоциологическая теория должны заниматься объяснением. Мы также стремились дать как бы общее описание имеющихся объяснений социологического типа (как собственно социологических, так и принадлежащих родственным дисциплинам), воздерживаясь при этом от категоричных заявлений о том, что должна делать социология. Мы - что особенно важно - не станем поднимать на щит какое-либо конкретное объяснение социологического типа, выбранное из широкого и представительного спектра соперничающих течений. Но, надо признать, что трактовка культуры и структуры в публикации столь небольшого объема неизбежно будет довольно поверхностна.
Поэтому данный ключевой раздел лучше всего завершить, указав на некоторые проблемы, присущие представленному здесь типу объяснения. Одна из них, конечно же, заключается в отсутствии каких бы то ни было попыток систематичной и в то же время несектантской кодификации всего, что было сделано по меньшей мере тремя поколениями социологов (классической социологией, первой неоклассической социологией Парсонса и его учеников и последователей, а также социологией, сформировавшейся в 70-80-е годы). Подобная ситуация способствует распылению сил, а не совместной творческой работе.
Другая проблема состоит в том, что хотя культуры представляют собой совокупности целей и норм, идентичностей и когнитивных/коммуникативных компетенции и это позволяет давать весьма сжатые, экономные объяснения, но все-таки объяснения с опорой на культуру скорее всего применимы лишь для особых случаев. Недавние социологические исследования в области культурного анализа, несмотря на всю их глубину и тщательность [12; 14], едва затрагивают эту проблему. Примером еще большей «культурной скупости» может служить модель «группа-координатная сетка», построенная Мэри Дуглас [31; 77].
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЯ: ПРОСЛЕЖИВАНИЕ КАУЗАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ
Невероятно расплодившееся племя социологов интересуется последствиями человеческого действия самого различного рода. Однако социологии (а также родственным ей антропологии, политической науке и историографии), призванной заниматься систематизированным объяснением, следовало бы особое внимание уделять лишь двум группам таких последствий - принадлежности к культуре и местоположению в структуре. Только тогда можно будет замкнуть каузальную петлю между действием и его результатами.
Основная трудность для анализа собственно социологических результатов - отсутствие четких представлений о том, как достигается равновесие в отношениях, складывающихся в параметрах культуры и структуры, несмотря на весь интерес к культурному и структурному порядку. Более того, по сути нет общепризнанных концепций динамики культурных и структурных процессов. Правда, существуют изощренные теории культурных циклов [7; 48], первоначально разработанные собственно социологией [64], а ныне развивающиеся вне ее рамок. В марксизме также содержатся некоторые предсказания относительно структурной динамики, централизации капитала, концепции рабочего класса, вне возрастающего социального характера производительных сил и т. д. От Спенсера и Дюркгейма пошла другая концепция структурной динамики, акцентирующая внимание на горизонтальной дифференциации местоположения в структуре [12; 52]. Этим проблемам посвящены также масштабные эмпирические исследования (совсем недавно осуществлен крупный проект, CASMIN, координатор - Джон Голдторп). Независимо от того, насколько оправдано это положение, по-моему, правильно будет сказать, что относительно динамики культуры и структуры единого мнения пока нет.
Почему и когда люди меняют представления о своей идентичности, например, причисляют себя к этнической группе или исключают себя из нее? Почему и когда люди становятся религиозными или отдаляются от религии? Или, формулируя более абстрактно, почему люди придерживаются какой-либо определенной культуры? При каких условиях они прекращают ее придерживаться? Что касается структуры, то при каких условиях меняются институциональные образцы распределения и неинституци-онализированное местоположение в структуре? Что заставляет нормы меняться? Когда и в какой мере государственное управление и/или коллективные действия способны изменить институциональную структуру или взаимное местоположение категорий в ней? Когда станет возможным уничтожить данное институционализированное распределение ресурсов? И наконец, вопрос более общего характера: каким образом усилия индивидуальных действующих преобразуются в совместный способ действия [11]?
В целом социологи недостаточно осознают задачу, состоящую в замыкании каузальных петель, хотя несколько обратных примеров все-таки имеется. В теории референтных групп Мертона [54] разработано положение о том, что принадлежность к культуре является, хотя бы отчасти, результатом действия, равно как и его источником. В концепциях государства благосостояния хорошо обоснован тезис о том, что распределение жизненных шансов во многом является результатом политического действия, которое берет начало в коллективной организации неимущих [50; 60].
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА: КУЛЬТУРНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ СИТУАЦИИ
Рискнем теперь предложить наметки того, что нам представляется многообещающим направлением дальнейших разработок социологических и общесоциальных научных объяснений. Результаты действий можно разделить на две основные подгруппы. Они могут относиться только к тому, что происходит с культурой, к которой принадлежит действующий, или со структурой, место в которой он занимает. Однако эти результаты могут и скорее всего будут воздействовать на отношение к другим культурам и структурам. То, что относится к первой подгруппе, часто называют проблемой воспроизводства, или системными тенденциями социальной системы. Относящиеся ко второй подгруппе результаты действий ведут к историческим коллизиям, или rendez-vous manque's*, составляющим особо важную категорию ситуаций действия - ситуаций, определяемых культурой и структурой.
* Несостоявшимся встречам (фр.) - Прим. перев.
Культурно детерминированным действиям присуща сильная тенденция к воспроизведению культуры, что является источником характерного для нее чувства идентичности, ее (смыслового) мира, ценностей и норм. Правда, можно легко выделить по меньшей мере две характерные для воспроизводства культуры проблемы, которые, видимо, представляют исходный материал культурной динамики. Первая проблема - это социализация новых носителей культуры. Социализация всегда проходит сложно и может стать трудноосуществимой, если культура находилась под сильным влиянием уникального или специфического опыта предшествующего поколения. Вторая проблема заключается в том, что поддерживать стойкую приверженность какой-либо культуре в течение достаточно длительного времени довольно трудно, даже если этот период укладывается в жизненный цикл одного поколения.
До тех пор пока действующие ведут себя определенным образом в силу их местоположения в структуре ресурсов и ограничений, структурный исход этих действий является результатом игры - стратегического взаимодействия, которое может иметь (или не иметь) одно или несколько равновесных состояний. Первоначальное распределение может выравниваться, поляризоваться или оставаться прежним, несмотря на все попытки изменить его. Анализ стратегического взаимодействия был разработан в весьма стилизованных формах - рынков и простых игр, его наметки также встречаются и в историческом материализме и в теории организации еще со времен «железного закона олигархии» Р. Михельса. Тем не менее именно анализ стратегического взаимодействия следует поставить в центр исследования довольно запутанных структур, которые представляют для социологов особенный интерес.
Действия, связанные с явной или скрытой конкуренцией между культурами и структурами, в значительной степени детерминируют характеристики будущей культурной принадлежности и местоположения действующих в структуре. Подход к культурно-структурному анализу с точки зрения конкуренции до сих пор использовался социологами недостаточно систематично. Между тем этот подход кажется весьма перспективным, поскольку изменение культуры или культурной принадлежности и изменение структуры распределения означают переход к другой культуре или структуре; устойчивость же данной культуры или структуры означает невозможность установления другой культуры или структуры [69, 77 и ел.]. Суть этой идеи могут продемонстрировать три ярких примера подобных вариаций в конкуренции культур и структур.
При прочих равных условиях представляется, что степень изолированности более всего детерминирует устойчивость или изменчивость данной культуры или структуры. Чем изолированнее культура или структура, тем она стабильнее и меньше поддается попыткам что-либо изменить, если таковые предпринимаются. С точки зрения объяснения действия, большая изоляция культуры или структуры влечет за собой большую вероятность того, что они будут детерминировать своих носителей. Относительная изолированность коммунистическо-социалистической культуры на Балканах, должно быть, явилась одной из причин того, что во время волнений 1989 г. и выборов 1990 г. она оказалась более способной противостоять воздействию антиком-мунистических-антисоциалистических выступлений в Албании, Сербии, Болгарии, Румынии, чем в Словении, Хорватии, Чехословакии, Восточной Германии, Венгрии и Польше. Изолированность структуры означает, что в рамках данного распределения ресурсов доступ действующих к другим группам ресурсов в известной мере ограничен. Например, люди без собственности и без контроля над организацией оказываются лишенными ресурсов коллективной власти (посредством мобилизации личных ресурсов или доступа к несогласной части правящей элиты). И поскольку здесь понятие «структура» относится к модели распределения, то именно асимметричная изолированность от совокупности ресурсов или асимметричный доступ к ней имеют решающее значение. Если в данной структуре имущие могут противопоставить коллективной мобилизации неимущих свои ресурсы, например военную силу, то первоначальная структура скорее всего, при прочих равных условиях, останется стабильной. В Восточной Европе изолированность власть имущих от военных ресурсов Советского Союза стала решающим компонентом структурной ситуации осенью 1989 г.
Взаимоотношение неизолированных культур зависит от относительного структурного местоположения принадлежащих к этим культурам индивидов, которое определяется извне. В первую очередь речь идет о способностях к принуждению, а также об уровне относительного благосостояния. Точно также взаимоотношение неизолированных структур определяется относительной культурной позицией и степенью уверенности в себе привилегированных и непривилегированных носителей культуры. Здесь общую ситуационную переменную можно обозначить как относительное культурно-структурное сцепление.
При условии открытости влиянию чужой культуры, чем больше относительное благосостояние или власть носителей данной культуры, тем она становится стабильнее и привлекательнее для носителей других культур. Изолированность и относительную власть надо рассматривать в качестве мультиплицирующих переменных. Например, уменьшение изолированности и увеличение разрыва в уровне благосостояния сделали социалистические культуры Восточной Европы весьма уязвимыми и непривлекательными в период 80-х годов. Механизм сцепления культуры и структуры можно рассмотреть и с точки зрения структуры. Так, в Восточной Европе (как и в Западной Германии) сразу после второй мировой войны капиталистическая структура экономики была сильно дискредитирована тем, что ассоциировалась с экономической отсталостью, депрессией и потерпевшим крах нацистским режимом. Идея повального обобществления пользовалась широкой поддержкой. Однако позже (а в Западной Германии очень скоро) исключительные права собственности и значительная дифференциация доходов стали уже рассматриваться в качестве необходимых опор свободы и демократии, поскольку первые стали уже ассоциироваться с послевоенным бумом демократии на Западе.
На шансы данной культуры или структуры подвергнуться влиянию другой культуры или структуры, видимо, должна влиять и степень сродства двух и более культур и структур, находящихся в контакте друг с другом. Продолжим пример с Восточной Европой. Здесь это положение можно проиллюстрировать тем, что наиболее раннее и сильное проникновение западного либерализма и либерального консерватизма произошло в регионах распространения западных религий - католицизма и протестантизма. При контакте данной культуры или структуры с другими культурами или структурами элементы последних, наиболее близкие первым, с большей вероятностью будут приняты носителями исходной культуры или исходного структурного местоположения.
Ни одна из вышеупомянутых ситуационных переменных ни в коем случае не оригинальна. Однако их появление в этом контексте подразумевает, что не существует пропасти между объяснением с точки зрения структурных характеристик действующих и объяснением с точки зрения их ситуационного выбора. Более того, оба объяснения могут прекрасно дополнять друг друга.
Делать прогноз последствий для всех вышеуказанных культурных и структурных ситуаций легче, исходя из выбора действующего. Уменьшение изолированности означает расширение спектра выбора и появление вероятности того, что хотя бы некоторые действующие будут совершать выбор из альтернатив, от которых они раньше были отрезаны. Вероятнее всего следует ожидать, что больше людей будет оказывать предпочтение культуре, носители которой обладают властью и богатством, нежели культуре, для которой характерны беспомощность и бедность; они будут скорее предпочитать культуру, предоставляющую больше шансов достичь власти и благосостояния, нежели культуру, предоставляющую меньше таких шансов. (О причинах выбора в пользу национализма см. [61]). Что касается структуры, то нет ничего удивительного, если люди станут поддерживать модель распределения, ассоциирующуюся скорее с высоким, нежели низким культурным престижем. Наконец, можно ожидать, что люди будут проявлять большую готовность принять или сохранять культуру и структуру, родственные чему-то положительному и знакомому; или, принадлежа к двум сосуществующим культурам или структурам, они скорее будут адаптировать их таким образом, чтобы сделать их еще более родственными.
Однако не стоит забывать, что принадлежность к культуре конститутивна для действующих, а не является предметом их выбора. Хотя сознательный выбор и может, конечно, быть существенной частью процессов восприятия или отвержения культуры, все же действующий едва ли может выбирать самые важные (в силу оказываемого на него влияния) элементы культуры только исходя из имеющихся возможностей, независимо от своей предшествующей культурной принадлежности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концептуализация - важное и правомерное теоретическое занятие. Одна из основных задач социальной науки заключается в придании смысла событиям, например краху режимов Восточной Европы в 1989 г. Придание социального смысла событиям и явлениям, во-первых, состоит в том, чтобы отличить нечто в социальном пространстве от других явлений и, во-вторых, определить место события или явления в потоке времени. В данном контексте это означает ответить на следующие вопросы: «Каков тип этой революции? Каков ее исторический смысл?»
Тем не менее при всем том, что уже было сказано, сверхзадача социальной науки состоит в объяснении иных вопросов: «Почему люди действуют именно таким образом? Почему их действия имеют именно такие следствия (или не имеют их)?»
Объяснения, предлагаемые социальными науками, можно дифференцировать в зависимости от того, считаются ли в них объясняющей переменной сами действующие или ситуации, в которых действующие находятся. В моделях рационального выбора действующие считаются заданными величинами, а ситуации - переменными. Люди действуют именно таким образом, потому что такова ситуация, и они действуют иначе, когда изменяется ситуация, в которой они оказываются. В социологии и родственных ей теоретических построениях - в политической науке,' антропологии, демографии, педагогике и социологически ориентированной историографии - наоборот, принадлежность к культуре и/или местоположение действующих в структуре считают основной объясняющей переменной. Люди действуют вполне определенным образом, потому что принадлежат к определенной культуре и/или потому, что обладают определенными ресурсами для этого. И действия людей различны в той мере, в какой различаются культуры, носителями которых они являются, и/или в какой различаются их местоположения в структуре.
Здесь важнее и плодотворнее выявить то, что является общим для большинства социологов, и соотнести это общее с другими видами объяснения в социальной науке, а не сводить дело к размежеванию конкурирующих теоретиков и соперничающих парадигм. Этот социологический «основной поток» требует всеобъемлющей кодификации как основы для признания достижений и определения лакун, а, следовательно, и для дальнейших построений. Однако многообещающим может быть и соединение социологического видения дифференцированных действующих с близкими по духу интеллектуальными усилиями по развитию методов структурного анализа. Надо посмотреть, как различается поведение действующих, принадлежащих к разным культурам и имеющих разное местоположение в структуре, в различных культурных и структурных ситуациях.
В свете этой последней задачи подход с точки зрения рационального выбора представляется плодотворным для понимания того, как происходит изменение или сохранение действующими их культурной принадлежности и местоположения в структуре в результате их выбора и поступков. Освобожденная от допущения о стабильности универсальных предпочтений интерпретация человеческого действия как проявления рационального выбора при наличии ограничений является центральным звеном того, что М. Вебер называл «понимающей» социологией. Целерацио-нальное поведение, или «поведение, доступное рациональному толкованию», очень часто позволяет конструировать наиболее подходящий «идеальный тип», считал Вебер [2, 496]. Теория рационального выбора занимает законное место в социологии, и противоборство с хорошо разработанными моделями первой может способствовать развитию последней. Однако недавняя междисциплинарная дискуссия вновь укрепила старое социологическое убеждение в том, что нормы, верования и представления об идентичности несводимы к целерарациональности. Разрядить напряженность между этими двумя соперничающими выводами - вот, на мой взгляд, самый верный путь.
ЛИТЕРАТУРА
1.Беккер Г. С. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 24 P. 1-21.
2.Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии [1922] // М. Вебер. Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.
3.Льюс Р. Д., Райфа Г. Игры и решения. Пер. с англ. // Иностранная литература, 1961.
4.ТернерДж. Аналитическое теоретизирование// THESIS. 1994. Т. 2. Вып. 1. С. 119-157.
5.Уильямсон О. И. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 39-49.
6.Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 123- 136.
7.Шлезингер А. М. Циклы американской истории. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992.
8.Alexander J. The centrality of the classics. // Social theory today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987.
9.Alexander J. Action and its improvements. N.Y.: Columbia University Press, 1988.
10.Alexander J. On the Autonomy of culture. Introduction // Culture and Society: Contemporary Debates/ Ed. by J. Alexander and S. Siedman. Cam-brige: Cambridge University Press, 1990.
11.Alexander J. el al. (eds.). The micro-macro link. Berkeley: University of California Press, 1987.
12.Alexander J., Colony P. (eds.). Differentiation theory and social change. N. Y: Columbia University Press, 1990.
13.Almond G., Verba S. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.
14.Archer M. Culture and agency. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
15.Axelrod R. The evolution of cooperation. N.Y: Basic Books, 1984.
16.Axelrod R. Evolutionary approach to norms //American Political Science Review. 1986. Vol. 86. № 4. P. 1095-1111.
17.Ball-Rokeach S. J. Media Linkages of the Social Fabric // The social fabric / Ed. by J. Short. Beverly Hills: Sage, 1986. P. 305-318.
18.Barth F. (ed.). Ethnic groups and boundaries. Boston: Little Brown, 1969.
19.Basu K. et al. The growth and decay of custom: the new institutional economics in economic history // Explorations in Economic History. 1987. №24. P. 1-21.
20.Becker G. The economic approach to human behavior. Chicago: Chicago University Press, 1976.
21.BergerJ., Wagner D. and Zelditch Jr. M. Theoretical and metatheo-retical themes in expectation states theory // H. J. Helle and S. N. Eisenstadt (eds.). Microsociological Theory. L.: Sage, 1985.
22.Berkowitz S. D. Markets and market areas: some preliminary formulations // Social structures: a network approach / Ed. by B. Wellman and S. D. Berkowitz. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 261-303.
23.Black D. (ed.). Toward a general theory of social control. Orlando (FL): Academic Press, 1984.
24.Blalock H. Basic dilemmas in the social sciences. Beverly Hills: Sage, 1984.
25.Blau P. Inequality and heterogeneity. N.Y.: The Free Press, 1977.
26.Blau P. Contrasting theoretical perspectives // The micro-macro link /Ed. by J. Alexander et al. Berkeley, University of California Press, 1987. P. 71-85.
27.Cohen M., March J. K., Olsen J. A garbage can model of organizational choice // Administrative Science Quarterly. 1972. № 17. P. 1-25.
28.Coleman J. Foundations of social theory. Cambridge (Mass.): The Belknap Press, 1990.
29.Collins R. Theoretical sociology. San Diego: Harcourt Brace Jova-novich, 1988.
30.Douglas M. How institutions think. Syracuse (NY): Syracuse University Press, 1986.
31.Douglas M., Wildavsky A. Risk and culture. Berkeley: University of California Press, 1982.
32.Elster J. Sour grapes. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
33.Elster J. (ed.). Rational choice. Oxford: Blackwell, 1986.
34.Elster J. Solomonic judgements. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
35.Elster J. The cement of society. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
36.Etzioni A. The moral dimension. N.Y.: The Free Press, 1988.
37.Field A. J. The problem with neoclassical institutional economics: a critique worth special reference to the North-Thomas model of Pre-1500 Europe // Exploration in Economic History. 1981. № 18. P. 174-198.
38.Field A. J. Microeconomics, norms, and rationality // Economic Development and Cultural Change. 1984. № 32. P. 683-711.
39.Gerschenkron A. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge (MA): Belknap Press, 1962.
40.GiddensA. The constitution of society. Cambridge: Polity Press, 1984.
41.Giddens A. Sociology. Houndmills Basingstoke: Macmillan, 1986.
42.Giddens A. Social theory and modern sociology. Cambridge: Polity Press, 1987.
43.Giddens A. A reply to my critics // Social theory of modern society. Ed. by D. Held and J. Thompson. Anthony Giddens and his critics. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
44.Giddens A., Turner J. (eds.). Social theory today. Cambridge: Polity Press, 1987.
45.Granovetter M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness // American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91 P. 481-510.
46.HabermasJ. Theorie des kommunikativen Handelns. 2 vols. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1982.
47.Harsanyi’ J. Papers in game theory. Dordreicht: D. Reidel, 1982.
48.Hirschman A. Shifting involvements. Oxford: Basil Blackwell, 1982.
49.Jervis R. Realism, game theory, and cooperation // World Politics. 1988. Vol. 40, P. 317-349.
50.Korpi W. The democratic class strugle. L.: Routledge, 1983.
51.Krasner S. Sovereignty: an institutional perspective // Comparative Political Studies. 1988. Vol. 21. P. 66-94.
52.Luhman N. (ed.). Soziale Differenzierung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985.
53.March J., OlsenJ Rediscovering institutions. N. Y: Free Press, 1989.
54.Merlon R. Social theory and social structure. Glencoe (П.): The Free Press, 1957.
55.Merlon R. Social theory and social structure. 2d ed. N.Y.: The Free Press, 1968.
56.Park R. Human migration and marginal man // R. Park. Race and Culture. Glencoe: Free Press, 1964. P. 346-356.
57.Parsons T. The structure of social action. N. Y: McGraw Hill, 1937.
58.Przeworsky A. Capitalism and social democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
59.Przeworsky A. Le defi de la methodologie individualiste a 1’analyse marxiste // Sur 1’individualisme /Ed. by P. Birnbaum and J. Le9a. P.: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1986. P. 77-106.
60.Ringen A. The possibility of politics. Oxford: Clarendon Press, 1987.
61.Rogowsky R. Causes and varieties of nationalism // New Nationalisms of the Developed West /Ed by E. Tiriyakin and R. Rogowsky. Boston: Houghton Mifflin, 1985.
62.Simmel G. Quantitative aspects of the group [1928] // The Sociology of Georg Simmel /Ed. by K. Wollf. N. Y: The Free Press, 1964. P. 87-177.
63.Smelser N. Social structure // Handbook of Sociology/ Ed. by N. Smel-ser. Beverly Hills: Sage, 1988. P. 103-129.
64.Sorokin P. Social and cultural dynamics. 4 vols. N. Y: American Book Company, 1937-1941.
65.Stigler G., Becker G. De gustibus non est disputandum // American Economic Review. 1977. Vol. 67. P. 76-90.
66.Stinchcombe A. Merton’s theory of social structure // The idea of social structure. Papers in honor of Robert K. Merton/ Ed. by L. Coser. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.
67.SwedbergR. (ed.). Economics and sociology. Princeton: Princeton University Press, 1990.
68.Sztompka P. R. K. Merton. An intellectual profile. Houndmills, Ba-singstoke: Macmillan, 1986.
69.Therborn G. The ideology of power and the power of ideology. L.: Verso, 1980.
70.Therborn G. The right to vote and the four world routes to/through modernity // The State in Theory and History/ Ed. by R. Torsendahl. L.: Sage, 1991.
71.Tsebelis G. Nested games. Berkeley: University of California Press, 1990.
72.Turner J. Theory of social interaction. Cambridge: Polity Press, 1988. 72a. Turner J. The structure of sociological theory. Chicago: Illinois the Dorsly Press, 1986.
73.Van Parijs Ph. Evolutionary explanation in the social sciences: an emerging paradigm. Totowa (N. J.): Rowman and Littlefield, 1981.
74.Verba S. et al. Elites and the idea of equality. Cambrige (MA): Harvard University Press, 1987.
75.Wellman B. Structural analysis: from method and metaphors to theory and substance // Social structures: a network approach / Ed. by B. Wellman and S. D. Berkowitz. Cambridge (MA): Cambridge University Press, 1988. P. 19-61.
76.White H. Varieties of markets // Social structures: a network approach / Ed. by B. Wellman and S. D. Berkowitz. Cambridge (MA): Cambridge Univer-sity Press, 1988, P. 221-260.
77.Wildavsky A. Choosing preferences by constructing institutions: a cultural theory of preference formation // American Political Science Review. 1987. Vol. 81. P. 3-21.
78.Williamson O. The economic institutions of capitalism. N.Y.: The Free Press, 1985.
79.Wright E. O. Classes. L.: Verso, 1985.
Джонатан Тернер АНАЛИТИЧЕСКОЕ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ*
Термин «аналитическое», признаю, расплывчат, и все-таки я использую его здесь для описания ряда теоретических подходов, которые допускают следующее: мир вне нас существует независимо от его концептуализации; этот мир обнаруживает определенные вневременные, универсальные и инвариантные свойства; цель социологической теории в том, чтобы выделить эти всеобщие свойства и понять их действие. Боюсь, эти утверждения вызовут лавину критических нападок и сразу же сделают теоретическую деятельность предметом философского спора, неразрешимого по своей природе. В самом деле, обществоведы-теоретики и так потратили слишком много времени на защиту либо на подрыв этих позиций «аналитического теоретизирования» и в результате оставили в небрежении главную задачу всякой теории: понять, как работает социальный мир. Я не хочу превратиться во второго братца Кролика, увязшего в этой философской трясине, но позвольте мне все же поставить в общем виде некоторые философские проблемы.
* Jonathan H. Turner. Analytical Theorizing. In: A. Giddens and J. Turner (eds.). Social Theory Today. Stanford: Polity Press, 1987, p. 156-194. © Polity Press, 1987.
ФИЛОСОФСКИЕ СПОРЫ
Аналитическая теория предполагает, что, говоря словами А. Р. Радклифф-Брауна, «естественная наука об обществе» возможна [56]. Это убеждение очень сильно выражено У титулованного основателя социологии Огюста Конта, который доказывал, что социология может быть «позитивной наукой». Поэтому аналитическая теория и позитивизм тесно связаны, но природа этой связи затемнена тем, что позитивизм изображают очень по-разному. В отличие от некоторых современных представлений, ассоциирующих позитивизм с «грубым эмпиризмом», Конт настаивал, что «никакое истинное наблюдение явлений любого рода невозможно, кроме как в случае, когда его сначала направляет, а в конце концов и интерпретирует некая теория» [18, t. 1, 242; 2]. Фактически Конт считал «серьезной помехой» научному прогрессу «эмпиризм, внедренный [в позитивизм] теми, кто, во имя беспристрастности, хотел бы вообще запретить пользование какой-либо теорией» [18, t. 1, 242]. Таким образом, позитивизм означает использование теории для интерпретации эмпирических событий и, наоборот, опору на данные наблюдений для оценки правдоподобия теории. Но какова природа теории в позитивизме Конта? Начальные страницы его «Позитивной философии» говорят нам об этом: «Основной характер позитивной философии выражается в признании всех явлений подчиненными неизменным, естественным законам, открытие и сведение числа которых до минимума и составляет цель всех наших усилий, причем мы считаем, безусловно, тщетными разыскания так называемых причин - как первичных, так и конечных. Спекулятивными размышлениями о причинах мы не смогли бы решить ни одного трудного вопроса о происхождении и цели чего бы то ни было. Наша подлинная задача состоит в том, чтобы тщательно анализировать условия, в которых происходят явления, и связать их друг с другом естественными отношениями последовательности и подобия. Наилучший пример подобного объяснения - учение о всемирном тяготении» [18, t. 1, 5-6; см. также: 3; 8].
В этих высказываниях содержится ряд важных положений. Во-первых, социологическая теория включает поиски абстрактных естественных законов, которых должно быть относительно немного. А главная цель теоретической деятельности - по возможности уменьшить число законов настолько, чтобы предметом теоретического анализа остались инвариантные, базисные, опорные свойства данного универсума.
Во-вторых, причинный и функциональный анализ непригодны. Здесь Конт, видимо, принимает выводы Д. Юма, согласно которым определить причины явлений невозможно, но добавляет сходное предостережение и против анализа в категориях намерений, конечных целей или потребностей, которым эти явления служат. Печально, что социология проигнорировала предостережения Конта. Эмиль Дюркгейм поистине должен был «поставить Конта с ног на голову», чтобы защищать и причинный, и функциональный анализ в своих «Правилах социологического метода» 1895 г. [2]. Я думаю, что было бы гораздо мудрее в рамках нашей теоретической дисциплины следовать контовским «старым правилам социологического метода», а не предложениям Дюркгейма и, как я покажу вскоре, определенно не рекомендациям Гидденса и других относительно «Новых Правил» социологического метода [27]. К сожалению, социологическая теория больше следовала советам Дюркгейма, нежели Конта, а ближе к нашему времени склонна была доверять множеству антипозитивистских трактатов. Общий итог этого - отвлечение на второстепенное и размывание строгости теоретизирования в социологии.
В-третьих, социологические законы, согласно Конту, следовало моделировать по образцу физики его времени, но форма этих законов осталась очень неясной. Термины вроде «естественных отношений последовательности и подобия» неточны, особенно после того, как проблема поиска причин была элиминирована. Борясь с этой неясностью, более современные трактовки позитивизма в философии не совсем верно истолковали контовскую программу и выдвинули строгие критерии для формулировки «естественных отношений» между явлениями (см., напр.: [14; 34]). Этот новый позитивизм часто предваряется определением «логический» и принимает следующую форму: абстрактные законы выражают существование неких регулярностей в универсуме; такие законы «объясняют» события, когда предсказывают, что будет в конкретном эмпирическом случае; движущая сила этого объяснения - «логические де-Дукции» от закона (explanans) к некоторой группе эмпирических явлений (explicandum) [37]. Эти «логические дедукции» принимают форму использования законов в качестве посылки, позволяющей ввести в оборот высказывания, которые «связывают» или «сближают» закон с некоторым общим классом эмпирических явлений, и затем сделать прогноз о том, чего следует ожидать для одного конкретного эмпирического случая внутри этого общего класса явлений. Если прогноз не подтверждается данным эмпирическим случаем, теорию подвергают переоценке, хотя здесь существует разногласие, считать ли теорию с этого момента «фальсифицированной» [7; 55], или же неудача в ее «подтверждении» просто требует серьезного пересмотра теории [42].
Такая форма позитивизма «заполняет» неясные места у Конта чрезмерно строгими критериями, которым большинство аналитических теоретиков не в состоянии следовать и не следует. Правда, они часто отдают этим критериям словесную дань в своих философско-методологических размышлениях, но в реальной работе мало руководствуются ими. Для этой неспособности оставаться в смирительной рубашке логического позитивизма есть веские причины, и они очень важны для понимания аналитического теоретизирования. Остановимся на них подробнее.
Во-первых, критерий предсказания нереалистичен. Когда ученые вынуждены работать в естественных эмпирических системах, прогноз всегда затруднен, поскольку невозможно контролировать влияние посторонних переменных. Эти посторонние силы могут быть неизвестными или неподдающимися измерению с помощью существующих методик, и даже если они известны или измеримы, могут возникнуть моральные и политические соображения, удерживающие нас от контроля. В этой ситуации оказываются не только обществоведы, но и естественники. Признавая трудности предсказания, я, однако, не предлагаю, чтобы социология прекратила попытки стать естественной наукой, подобно тому, как геология и биология не пересматривают свое научное значение всякий раз, когда не могут предсказать соответственно землетрясений или видообразования.
Во-вторых, отрицание причинности - это очень слабое место в некоторых формах позитивизма, будь то версия Конта или более современных философов. Такое отрицание приемлемо, когда логические дедукции от посылок к заключению могут считаться мерилом объяснения, но аналитическая теория должна также заниматься действующими процессами, способными связывать явления. Т. е. нам важно знать, почему, как и какими путями производят определенный результат инвариантные свойства данного универсума. Ответы на такие вопросы потребуют анализа основополагающих социальных процессов и, безусловно, причинности. В зависимости от позиции теоретика, причинность может быть или не быть формальной частью законов, но ее нельзя игнорировать [37].
В-третьих, логический позитивизм допускает, что исчисления, по которым осуществляются «дедукции» от посылок к заключениям, или от explanans к explicandum, недвусмысленны и ясны. В действительности это не так. Многое из того, что составляет «дедуктивную систему» во всякой научной теории, оказывается «фольклорными» и весьма непоследовательными рассуждениями. Например, синтетическая теория эволюции непоследовательна, хотя некоторые ее части (как генетика) могут достичь известной точности. Но когда эту теорию используют для объяснения каких-то событий, то руководствуются не принципами строгого следования некоторому логическому исчислению, а скорее согласования с тем, что «кажется разумным» сообществу ученых. Но утверждая это, я отнюдь не оправдываю бегство к какой-нибудь новомодной версии герменевтики или релятивизма.
Все эти соображения требуют от социологической теории смягчить требования логического позитивизма. Мы должны видеть свою цель в выделении и понимании инвариантных и основополагающих черт социального универсума, но не быть интеллектуальными деспотами. Кроме того, аналитическую теорию должны интересовать не регулярности per se, а вопросы «почему» и «как» применительно к инвариантным регулярностям. Поэтому мое видение теории, разделяемое большинством аналитических теоретиков, таково: мы способны раскрыть абстрактные законы инвариантных свойств универсума, но такие законы будут нуждаться в дополнении сценариями (моделями, описаниями, аналогиями) процессов, лежащих в основе этих свойств. Чаще всего в объяснение не удается даже включить точные предсказания и дедукции, главным образом потому, что при проверке большинства теорий невозможен экспериментальный контроль. Вместо этого объяснение будет представлять собой более дискурсивное применение абстрактных суждений и моделей, позволяющих понять конкретные события. Дедукция будет нестрогой и даже метафорической, став, конечно, предметом аргументации и обсуждения. Но социология здесь вовсе не уникальна - большинство наук идет тем Же путем. Хотя анализ науки Томасом Куном далек от совершенства, он привлек внимание к социально-политическим характеристикам любых теорий [4]. И потому социологам надо отказываться от поисков инвариантных свойств ничуть не больше, чем физикам после признания, что многое в их науке сформулировано, по меньшей мере первоначально, весьма неточно и что на них самих влияют «политические переговоры» внутри научного сообщества.
Заключим этот раздел о философских спорах кратким комментарием к критике позитивизма и очень вольным очерком ее догматов. Один из критических доводов таков, что теоретические высказывания суть не столько описания или анализ независимой, внешней реальности, сколько построения и продукты творчества ученого. Теория говорит не о действительности вне нас, но скорее об эстетическом чутье ученых или об их интересах. Есть и такой вариант критики: теории не проверяемы «твердо установленными фактами» внешнего мира, потому что сами «факты» тоже связаны с интересами ученых и с такими «исследовательскими протоколами», которые политически приемлемы для научного сообщества. Вдобавок факты будут интерпретированы или проигнорированы в свете этих интересов ученых. Общий итог, доказывают критики, таков, что предполагаемая самокоррекция в процессе научной проверки теории и гипотез из нее - иллюзия.
По моему ощущению, в этой критике что-то есть, но все же ее скорее драматически преувеличивают. В известном смысле все понятия тяготеют к реификации, все «факты» искажены нашими методами и до некоторой степени подвергнуты интерпретации. Но несмотря на это, накапливается знание о мире. Оно не может быть целиком субъективным или искаженным: иначе ядерные бомбы не взорвались бы, термометры не работали, самолеты не взлетали и т. д. Если мы подойдем к построению теории в социологии серьезно, знание о социальном мире будет накапливаться, хотя бы таким же извилистым путем, как в «точных науках». Очень постепенно внешний мир навязывает себя в виде поправок к теоретическому знанию.
Вторая общая линия критики аналитического подхода, защищаемого мною, более специфична для социальных наук и затрагивает содержательную природу социального универсума. Существуют многочисленные варианты этой аргументации, но главное в ней - идея, что сама природа этого универсума непрочна и очень пластична вследствие способности человеческих существ к мышлению, саморефлексии и действию. Законы, относящиеся к неизменному миру, в обществоведении непригодны или по меньшей мере действуют временно, так как социальный универсум постоянно переструктурируется благодаря рефлексивным актам людей. Более того, люди могут воспользоваться теориями социальной науки для переструктурирования его таким образом, чтобы устранить условия, при которых действуют подобные законы [29]. Поэтому законы и прочие теоретические инструменты вроде моделирования в лучшем случае преходящи и годятся для определенного исторического периода, а в худшем - они не приносят пользы, поскольку сущность, базовые черты социального универсума постоянно меняются.
Многие из тех, кто давал такие рекомендации (от Маркса до Гидденса), нарушали их в своих собственных работах. К примеру, было бы совершенно незачем корпеть над Марксом, как вошло в привычку у современных теоретиков, если бы мы не чуяли, что он открыл нечто фундаментальное, общее и инвариантное в динамике власти. Или зачем Гид-денсу [28, 29] заботиться о развитии «теории структура-ции», которая постулирует известные отношения между инвариантными свойствами социума, если бы он не считал, что тем самым проникает под поверхность исторических изменений к самой сердцевине человеческого действия, взаимодействия и организации?
Многие такие критики аналитического теоретизирования путают закон и эмпирическое обобщение. Разумеется, реальные социальные системы изменяются, как изменяются солнечная, биологическая, геологические и химические системы в эмпирическом мире. Но эти изменения не меняют соответственно законов тяготения, видообразования, энтропии, распространения силы или периодической таблицы элементов. Фактически изменения происходят в согласии с этими законами. Люди всегда действовали, взаимодействовали, дифференцировали и координировали свои социальные отношения; и это уже дает некоторые из инвариантных свойств человеческих организаций и тот материал, к которому следует применять наши чрезвычайно абстрактные законы. Капитализм, нуклеарные семьи, кастовые системы, урбанизация и другие исторические явления - это, Конечно, переменные, но они - не предмет теории, как Убеждают многие. Таким образом, хотя структура социального универсума постоянно изменяется, главные движущие силы, лежащие в ее основе, не меняются.
Третье направление критики аналитического теоретизирования представляют сторонники так называемой «критической теории» (см., напр., [32]). Они доказывают, что позитивизм рассматривает существующие условия как определяющие то, каким должен быть социальный мир. В результате позитивизм не может предложить никаких альтернатив существующему положению вещей. Занимаясь закономерностями, относящимися к тому, как структурирован социум в настоящее время, позитивисты идеологически поддерживают существующие условия господства человека над человеком. «Свободная от ценностей» наука становится, таким образом, инструментом поддержки интересов тех, кому наиболее благоприятствуют существующие социальные порядки.
Эта критика не лишена некоторых достоинств, но как альтернатива позитивизму «критическая теория» склонна порождать формулировки, часто не имеющие опоры в реальных действующих силах универсума. Многое в «критической теории» представляет собой либо пессимистическую критику, либо безнадежно утопические построения, либо то и другое (см., напр., [33]).
Более того, я думаю, что эта критика основана на ущербном видении позитивизма. Теория должна не просто описывать существующие структуры, но раскрывать глубинную динамику этих структур. Вместо теорий капитализма, бюрократии, урбанизации и других комплексов эмпирических событий нам нужны соответственно теории производства, целевой организации, разрушения экологического пространства и других общих процессов. Исторические случаи и эмпирические проявления - это не содержание законов, а оселок для проверки их правдоподобия. Например, описания регулярных процессов в капиталистических экономиках суть данные (не теория) для проверки выводов из абстрактных законов производства.
Можно, конечно, доказывать, что такие «законы производства» некритически принимают status quo, но я предпочитаю думать, что формы человеческой организации требуют непрестанного поддержания производства и, следовательно, представляют родовое ее свойство, а не слепое одобрение существующего положения дел. Многим «критическим теориям» недостает понимания, что существуют инвариантные свойства, которые теоретики не могут «убрать по желанию» своими утопиями. Карл Маркс сделал подобную ошибку в 1848 г., предположив, что централизованная власть «отомрет» в сложных, дифференцированных системах [5]; не так давно Юрген Хабермас [31; 33] выдвинул утопическую концепцию «коммуникативного действия», которая недооценивает степень искажения всякого взаимодействия в сложных системах.
Я хочу подчеркнуть два аспекта. Во-вторых, поиск инвариантных свойств даже уменьшает вероятность появления утверждений в поддержку status quo. Во-вторых, допущение, что вообще нет никаких инвариантных свойств, провоцирует появление теорий, все менее способных понять, что мир нелегко, а иногда и вовсе невозможно подчинить идеологическим прихотям и фантазиям теоретика.
Было бы неумно и дальше углубляться в эти философские вопросы. Позиция аналитического теоретизирования по ним ясна. Реальный спор внутри этого направления ведется о выборе лучшей стратегии для разработки системы теоретических высказываний об основных свойствах социального мира.
РАЗЛИЧНЫЕ СТРАТЕГИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ
По моему мнению, имеется четыре основных подхода к построению социологической теории: метатеоретические схемы, аналитические схемы, пропозициональные схемы и моделирующие схемы (более детальное описание см. [63; 8]). Но внутри этих основных подходов имеются противоречивые варианты, так что на практике видов схем встречается значительно больше четырех.
Метатеоретизирование
Многие в социологии доказывают, что для продуктивности теории важно заранее наметить основные «предпосылки», которые руководили бы теоретической деятельностью. Т. е. еще до этапа теоретизирования необходимо поставить вопросы типа: Какова природа человеческой деятельности, взаимодействия, организации? Каков наиболее подходящий набор процедур для развития теории и какой род теории возможен? Каковы центральные темы или критические проблемы, на которых должна сосредоточиться социологическая теория? И так далее. Такие вопросы и весьма пространные трактаты, ими вдохновляемые (см., напр., [9]), втягивают теорию в старые и неразрешимые философские споры: идеализм против материализма, индукция против дедукции, субъективизм против объективизма и т. п.
Что делает эти трактаты «мета» (т. е., как говорит словарь, «приходящими после» или «следующими за»), так это то, что названные философские темы поднимаются в контексте очередных пересмотров наследия «великих теоретиков» (излюбленными фигурами оказываются здесь Карл Маркс, Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм и, ближе к нам, Толкотт Парсонс). Хотя эти трактаты всегда учены, переполнены длинными примечаниями и подходящими цитатами, у меня остается впечатление, что они часто подменяют настоящую теоретическую деятельность. Они вовлекают теорию в круг неразрешимых философских проблем и легко превращаются в схоластические трактаты, теряющие из виду цель всякой теории: объяснять, как работает социальный мир. Поэтому метатеоретизирование бывает интересной философией и временами захватывающей историей идей, но это не теория и его принципы нелегко использовать в аналитическом теоретизировании.
Аналитические схемы
Существенную часть теоретической деятельности в социологии составляет построение абстрактных систем из категорий, которые предположительно обозначают ключевые свойства универсума и важнейшие отношения между этими свойствами. По сути, подобные схемы представляют собой типологии, отображающие основные движущие силы универсума. Абстрактные понятия расчленяют основные его свойства и затем упорядочивают их таким образом, чтобы предположительно проникнуть в его структуру и движущие силы. Конкретные события считаются объясненными, если схему можно использовать при истолковании какого-то конкретного эмпирического процесса. Такие истолкования бывают двух основных родов: во-первых, когда найдено место или ниша эмпирического события в системе категорий (см., напр., [49; 50; 52; 53; 54]); во-вторых, если схему можно использовать для создания описательного сценария того, почему и как происходили события в некоторой эмпирической ситуации (примеры см., [13; 29]).
Эти несколько различающиеся взгляды на объяснение с помощью аналитических схем отражают два противоречивых подхода: один выдвигает «натуралистические аналитические схемы», другой - «сенсибилизирующие аналитические схемы». Первый допускает, что упорядоченность понятий в схеме представляет «аналитическое преувеличение» упорядоченности мира [49]; вследствие этого изоморфизма в объяснение обычно включают и раскрытие места эмпирического события в данной схеме. Второй подход чаще всего отвергает позитивизм (как и натурализм) и доказывает, что система понятий должна быть лишь временной и чувствительной к непрерывным изменениям [13; 29]. Поскольку универсум будет изменяться, понятийные схемы тоже должны изменяться, и в лучшем случае они могут дать полезный способ истолкования эмпирических событий в некий конкретный момент времени.
Те, кто следует натуралистическому варианту, подобно метатеоретикам, часто стремятся доказать, что аналитическая схема есть необходимая предпосылка для других видов теоретической деятельности (см., напр., [48]), ибо, пока мы не имеем схемы, которая обозначает и упорядочивает на аналитическом уровне свойства универсума, нам трудно узнать, о чем теоретизировать. Поэтому для некоторых натуралистические аналитические схемы - это необходимый этап, предшествующий пропозициональному и моделирующему подходам к развитию социологической теории. Напротив, те, кто применяет «сенсибилизирующие аналитические схемы», обычно отвергают поиски универсальных законов как бесплодные, поскольку эти законы теряют силу, когда изменяется характер нашего мира [27; 29].
Пропозициональные схемы
Пропозициональные схемы имеют дело с суждениями, которые связывают переменные друг с другом. Т. е. эти суждения фиксируют определенную форму отношения между двумя или более переменными свойствами социального универсума. Пропозициональные схемы очень разнообразны, но могут быть сгруппированы в три общих типа: «аксиоматические схемы», формальные схемы и «эмпирические схемы».
Аксиоматическое теоретизирование подразумевает де-ДУкции (в виде точного исчисления) от абстрактных аксиом, содержащих точно определенные понятия, к эмпирическому событию. Объяснение состоит в установлении того, что эмпирическое событие «охватывается» одной или более аксиомами. В действительности, однако, аксиоматическая теория редко возможна в тех науках, которые не в состоянии осуществлять лабораторный контроль, определять понятия через указание «точных классов» и использовать формальное исчисление, логическое или математическое [24]. Хотя социологи [22; 36] часто употребляют словарь аксиоматической теории - аксиомы, теоремы, королла-рии, - они очень редко имеют возможность удовлетворить необходимым требованиям настоящей аксиоматической теории. Вместо нее они занимаются формальным теоретизированием [24].
Формальное теоретизирование - это «разбавленное» аксиоматическое. Абстрактные законы четко формулируют и часто очень приблизительно и непоследовательно «дедуцируют» из них эмпирические события. Объяснить - значит представить эмпирическое событие как случай или проявление более абстрактного закона. Следовательно, цель теоретизирования - развивать элементарные законы или принципы применительно к основным свойствам универсума.
Третий тип пропозициональных схем - эмпирические - в действительности вообще не теория. Но многие теоретики и исследователи думают иначе, и потому я вынужден упомянуть этот род деятельности. Часть критиков аналитического теоретизирования использует примеры эмпирических пропозициональных схем для вынесения приговора позитивизму. В этой связи я уже упоминал тенденцию критиков позитивизма смешивать абстрактный закон, относящийся к некоему общему явлению, и обобщение, касающееся некоторого множества эмпирических событий. Утверждение, что эмпирические обобщения суть законы, обычно используют для опровержения позитивизма: вневременных законов не существует, ибо эмпирические события всегда изменяются. Такое заключение основано на неспособности критиков понять разницу между эмпирическим обобщением и абстрактным законом. Но даже среди симпатизирующих позитивизму наблюдается тенденция смешивать объясняемое - то, что следует объяснить (эмпирическое обобщение), с объясняющим - тем, что должно объяснять (абстрактный закон). Это смешение встречается в нескольких формах.
В одном случае простое эмпирическое обобщение возводится в ранг «закона» (таков, например, «закон Голдена», который попросту содержит информацию, что индустриализация и грамотность коррелируются положительно). Другая идет по пути Роберта Мертона с его знаменитой защитой «теорий среднего уровня», где главная цель - развить ряд обобщений для какой-то содержательной области, скажем, урбанизации, организованного контроля, отклоняющегося поведения, социализации или других содержательных тем [47]. В действительности такие «теории» - всего лишь эмпирические обобщения, в которых установленные регулярные явления требуют для своего объяснения более абстрактной формулировки. Однако изрядное число социологов убеждено, что эти суждения «среднего уровня» - настоящие теории, несмотря на их эмпирический характер.
Итак, многое в «пропозициональной» схематизации бесполезно для построения теорий. Условия, необходимые для аксиоматической теории, редко встретишь на практике, а эмпирические суждения по самой их природе недостаточно абстрактны, чтобы стать теоретическими. По моему мнению, из всего многообразия пропозициональных подходов наиболее полезно для развития аналитической теории формальное теоретизирование.
Моделирующие схемы
Термин «модель» в общественных науках употребляется очень неопределенно. В более развитых науках модель - это способ наглядного представления некоторого явления таким образом, чтобы показать его основные свойства и их взаимосвязи. В социальной теории моделирование включает разнообразные виды деятельности: от составления формальных уравнений и имитационного моделирования на компьютерах до графического представления отношений между явлениями. Я буду применять этот термин ограниченно, только к теоретизированию, в котором понятия и их отношения дают обозримую картину свойств социального мира и их взаимоотношений.
Итак, модель есть схематическое представление некоторых событий, которое включает: понятия, обозначающие и высвечивающие определенные черты универсума; расположение этих понятий в наглядной форме, отражающей упорядочение событий в мире; символы, характеризующие природу связей между понятиями. В социологической теории обычно строят два типа моделей: «абстрактно-аналитические» и «эмпирико-каузальные».
Абстрактно-аналитические модели разрабатывают свободные от контекста понятия (например, понятия, относящиеся к производству, централизации власти, дифференциации и т. д.) и затем представляют их отношения в наглядной форме. Такие отношения обычно выражены в категориях причинности, но эти причинные связи - сложные, подразумевают изменения в характере связи (типа цепей обратной связи, циклов, взаимных влияний и прочих нелинейных представлений о соединениях элементов).
Напротив, эмпирико-каузальные модели обычно представляют собой высказывания о корреляциях между измеренными переменными, упорядоченными в линейную и временную последовательность. Цель - «объяснить изменчивость» зависимой переменной на основе ряда независимых и промежуточных переменных [11; 21]. Такие упражнения в действительности всего лишь эмпирические описания, потому что понятия в модели данного типа - это измеренные переменные для частного эмпирического случая. И все же, несмотря на недостаточность абстракции, подобные понятия часто считают «теоретическими». Следовательно, как и в случае с эмпирическими пропозициональными схемами, эти более эмпирические модели будут гораздо менее полезными при построении теории, чем аналитические. Подобно своим пропозициональным аналогам, каузальные модели описывают регулярность в совокупности данных, что требует для настоящего объяснения более абстрактной теории.
Мой обзор различных стратегий построения социологической теории подошел к концу. Из сказанного ясно, что пригодными для аналитического теоретизирования и теоретизирования вообще я признаю лишь некоторые из указанных стратегий. Завершим обзор более отчетливой оценкой их относительных достоинств.
Относительные достоинства разных теоретических стратегий
С аналитической точки зрения теория, во-первых, должна быть абстрактной и не привязанной к частным особенностям исторического эмпирического случая. Отсюда следует, что эмпирическое моделирование и эмпирические пропозициональные схемы - это не теория, но констатация регулярностей в массиве данных, которые требуют теории, объясняющей их. Они своего рода explicandum в поисках какого-то explanans. Во-вторых, аналитическое теоретизирование предполагает необходимость проверки теории на фактах, и потому метатеоретические и детально разработанные аналитические схемы тоже не теория в подлинном смысле слова. В то время как метатеория высоко-философична и не поддается проверке, сенсибилизирующие аналитические схемы можно использовать в качестве отправных пунктов для построения проверяемой теории. Если игнорировать антипозитивистские догматы их авторов, то такие схемы могут дать хорошую базу, чтобы начать концептуализацию основных классов переменных, могущих быть встроенными в проверяемые суждения и модели. Это возможно и с натуралистическими аналитическими схемами, но достигается труднее, так как они имеют тенденцию уделять чрезмерное внимание величию собственной архитектоники. Наконец, вопреки некоторым аналитическим теоретикам, я полагаю, что теория должна содержать нечто большее, чем абстрактные высказывания о регулярных явлениях: она должна обратиться к проблеме причинности, не ограничиваясь простой причинностью эмпирических моделей. По моему мнению, аналитические модели существенно дополняют абстрактные суждения, выясняя сложные причинные взаимосвязи (прямые и косвенные влияния, петли обратной связи, взаимные влияния и т. д.) между понятиями в этих суждениях. Без таких моделей трудно узнать, какие процессы и механизмы задействованы в отношениях, которые отражены в некотором абстрактном суждении.
Следовательно, аналитическая теория должна быть абстрактной. Она должна отображать общие свойства универсума, быть проверяемой или способной порождать проверяемые суждения. Такая теория не может пренебрегать причинностью, действующими процессами и механизмами. И потому наилучший подход к построению теории в социологии - это сочетание сенсибилизирующих аналитических схем, абстрактных формальных суждений и аналитических моделей [8; 63а]. Вместе они обеспечивают наибольшую творческую синергию. И хотя разные аналитические теоретики склонны возносить один вид схем над другим, именно одновременное использование всех трех подходов обеспечивает наивысший потенциал для развития «естественной науки об обществе». В несколько идеализированной форме мои выводы наглядно представлены на рис. 1 [более подробное пояснение элементов на рис. 1 см. 63; 8].
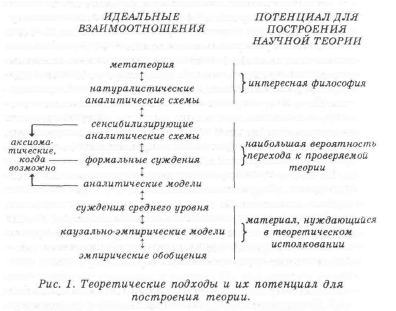
Напротив, натуралистические аналитические схемы и метатеоретизирование имеют тенденцию к излишней философичности и оторванности от практической работы в реальном мире. Они перерождаются в чрезмерно реифициро-ванные конструкции и либо сосредоточены на совершенстве своей архитектоники, либо одержимы схоластической страстью «разрешать» философские проблемы. И все-таки я считаю эти конструкции не совсем бесплодными, но скорее обретающими полезность только после того, как мы уже разработали законы и модели, в которых уверены. После этого дополнительная философская дискуссия полезна и может стимулировать пересмотр законов и суждений. Но без этих законов и суждений аналитические схемы и метатеории превращаются в самодовлеющие философские трактаты. Связующим звеном между отдельными суждениями и моделями и более формальными аналитическими схемами и метатеориями служат сенсибилизирующие аналитические схемы. Если использовать эти схемы, чтобы стимулировать формулировку суждений, и пересмотреть их в свете проверки суждений опытом, они смогут создать обогащенные эмпирической информацией предпосылки для более сложных натуралистических схем и метатеорий. В свою очередь, метатеория и натуралистические схемы, когда они отталкиваются от некоторой «пропозициональной» базы, могут стать источником важных догадок, стимулирующих оценку существующих суждений и моделей. Однако без привязки к проверяемой теории аналитические схемы и метатеория погружаются в реифицированный мир утонченных философских спекуляций и споров.
На более эмпирическом уровне построения теории, суждения среднего ранга, т. е. в сущности, эмпирические обобщения, применяемые к целой содержательной области, могут оказаться полезными как один из путей проверки более абстрактных теорий. Такие «теории» среднего уровня упорядочивают результаты исследований целых классов эмпирических явлений и, следовательно, обеспечивают сводный массив данных, который может пролить свет на некоторый теоретический закон или модель. Эмпирические каузальные модели могут выявить действующие во времени процессы, чтобы соединить соответствующие переменные в теории среднего уровня или простом эмпирическом обобщении. В качестве таковых они могут помочь оценить степень правдоподобия аналитических моделей и абстрактных суждений. Но без абстрактных законов и моделей эти эмпирические подходы не помогут выстроить теорию. Ибо не направляемые абстрактными законами и формальными моделями, теории среднего уровня, причинные модели и эмпирические обобщения создаются ad hoc, без заботы о том, способствуют ли они прояснению глубинной динамики универсума. Лишь иногда удается через индукцию выйти за рамки этих эмпирических форм и создать настоящую теорию, ибо в действительности построение теории идет иначе: сперва - теория, затем - проверка данными. Конечно, такие упорядоченные, направленные данные способствуют оценке теорий. Но когда начинают с частностей, то редко поднимаются над ними.
Такова моя позиция и позиция большинства аналитических теоретиков. Начинай с сенсибилизирующих схем, суждений и моделей и только потом берись за формальный сбор данных или метатеоретизирование и масштабное схе-мосозидание. Хотя большинство аналитических теоретиков и согласилось бы с такого рода стратегией, но существуют заметные разногласия по содержанию аналитического теоретизирования.
СПОР О СОДЕРЖАНИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ
Содержательные споры в стане аналитических теоретиков ведутся о том, чем должна заниматься теория. Каковы наиболее важные свойства универсума? Какие из них более «фундаментальны», какие следует изучать в первую очередь? Как примирить микропроцессы действия и взаимодействия с макродинамическими процессами дифференциации и интеграции больших людских совокупностей? Все это разновидности вопросов, занимающих аналитическую теорию, и, хотя они без сомнения важны, теоретики социологии потратили на их обсуждение слишком много времени. К счастью, при этом встречались и более плодотворные усилия, направленные на то, чтобы понять некоторое важное свойство социального мира, развивать сенсибилизирующую аналитическую схему для рассмотрения важных вопросов, разработать абстрактные понятия и суждения и строить абстрактные модели действующих механизмов и процессов, внутренне связанных с этим свойством.
Я не могу дать обзор всех таких попыток построения теории. Вместо этого я намерен изложить мои собственные воззрения на основные свойства социума и образцы того типа аналитического теоретизирования, который кажется мне наиболее продуктивным. При этом я поневоле буду суммировать большую часть того, что сделано в аналитических теориях, поскольку мой подход очень эклектичен и многое заимствует от других. Но я должен предупредить читателя относительно нескольких моментов. Во-первых, я заимствую избирательно и, следовательно, не вполне справедлив к тем концепциям, откуда беру идеи. Во-вторых, я весьма охотно заимствую и у тех, кто не относит себя к аналитическим теоретикам; вполне возможно, что они окажутся враждебно настроенными по отношению к тому роду теоретизирования, который защищаю я. С учетом этих оговорок приступим к делу.
Сенсибилизирующая схема анализа человеческой организации
Как упоминалось ранее, большинство натуралистических аналитических схем слишком сложны. Вдобавок они имеют тенденцию все более разрастаться, по мере того как новые измерения действительности отражаются в постоянно развивающейся системе категорий, а новые элементы в схеме согласуются со старыми. Сенсибилизирующие аналитические схемы также страдают этой склонностью к разбуханию путем добавления новых понятий и нахождения новых аналитических связей. Но я думаю, что, чем сложнее становятся аналитические схемы, тем меньше их полезность. На мой взгляд, со сложностью надо управляться на уровне суждений и моделей, а не сводной направляющей системы понятий <conceptual frame\vork>. Так, аналитическая схема должна просто обозначить общие классы переменных, предоставив детали конкретным суждениям и моделям. Поэтому сенсибилизирующая схема н&рис. 2 гораздо проще многих существующих, хотя она несомненно становится сложнее, когда каждый из ее элементов анализируют в деталях.
Одна из причин сложности существующих схем в том, что они пытаются сделать слишком много. Для них типично искать объяснения «всего и разом» [66]. Однако на ранних этапах своего развития науки не слишком продвигались вперед, пытаясь достигнуть преждевременно и. всесторонности. Отражением этого настойчивого стремления построить всеобъемлющую схему стало нынешнее возрождение интереса к проблеме «связи» микро- и макроуровня, или, как это часто называют, разрыва между ними [10; 39; 61]. Теперь теоретики хотят объяснить - микро- и макропроявления - все сразу, несмотря на то что ни микропроцессы взаимодействия между индивидами в определенных ситуациях, ни макродинамики больших скоплений людей не были адекватно концептуализированы. На мой взгляд, вся эта возня с пониманием микроосновы макропроцессов и, наоборот, [макроосновы микропроцессов] преждевременна. Рис. 1 предполагает сохранить разделение на макро- и микросоциологию, по крайней мере, на некоторое время. Поэтому «разрыв» между микро- и макропроцессами остается и, кроме как метафорически, я не предлагаю его заполнять.
Применительно к микропроцессам я вижу три группы движущих сил, имеющих решающее значение в аналитическом теоретизировании: процессы «энергизирующие» или побуждающие индивидов взаимодействовать (заметим, что я не говорю «действовать», ибо этот термин получил слишком большую понятийную нагрузку в социологии) [62]; процессы, действующие на индивидов в ходе взаимного приспособления их поведения друг к другу, и процессы, структурирующие цепи взаимодействия во времени и пространстве. Как показывают стрелки на Рис. 2, эти микропроцессы взаимосвязаны, каждый класс действует как некоторый параметр для других. Для макропроцессов я вижу в аналитическом теоретизировании три центральных типа динамики: процессы количественного собирания <assemb-lingprocesses>, определяющие число действующих (будь то индивиды или коллективы) и их распределение во времени и пространстве; процессы дифференциации действующих во времени и пространстве и процессы интеграции, координирующие взаимодействия действующих во времени и пространстве.
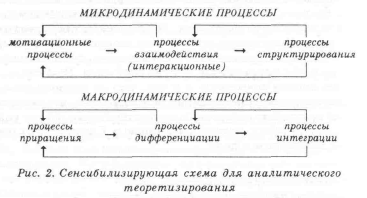
Как уже сказано, аналитическая сложность должна быть добавлена на уровне моделирования, а иногда и на уровне суждений, потому что только здесь теоретические идеи имеют шанс быть проверенными на фактах (причем все проблемы, о которых заявляют критики позитивизма, надлежащим образом учитываются и отвергаются, по меньшей мере, в их крайней и изнуряющей разум форме). Таким образом, задача микроанализа - поточнее определить в абстрактных моделях и суждениях движущие силы трех классов переменных: мотивационных, интеракционных и структурирующих. Начнем с мотивационных процессов.
Процессы мотивации. Концептуализация «мотивов» в теоретической социологии так и не вышла пока из состояния неопределенности. Трудности связаны с анализом и измерением того, «что движет людьми» и «заставляет их действовать». Социологи до сих пор говорят о поведении, действии и взаимодействии так, что это мешает увидеть: фактически речь в немалой степени идет о проблеме мотивации. Тем самым они затемняют анализ и мотивации, и взаимодействия. Гораздо полезнее аналитически разделить эти явления, представив простую модель того, что «толкает», «побуждает», направляет и сообщает энергию людям, заставляя их взаимодействовать определенным образом. Возможно, эти термины нечетки, но тем не менее они передают мои общие устремления.
Во всех ситуациях взаимодействия можно найти четыре вида мотивационных процессов: процессы, поддерживающие «онтологическую безопасность» [29] или удовлетворяющие скрытую потребность в уменьшении безотчетной тревоги и в достижении чувства взаимного доверия; процессы, сосредоточенные на поддержании того, что некоторые ин-теракционисты именуют «центральной концепцией Я», т. е. на подтверждение некоего центрального и основного определения человеком своего особенного типа бытия; процессы, относящиеся к тому, что экономисты-утилитаристы и бихевиористские теоретики обмена рассматривают как усилия индивидов, направленные на «получение выгоды» или увеличение своих материальных, символических, политических или психических ресурсов в ситуациях [36]; наконец, процессы, учитывающие то, что этнометодологи иногда называют «фактичностью», основанные на предположении, что мир имеет косный, объективно-фактуальный характер и соответствующий порядок [26]. Эти четыре вида процессов соотносятся с разными концепциями мотивации в психоаналитической [23], символико-интеракциони-стской [40], бихевиористско-утилитаристской [36] и этно-методологической [26] традициях. Обычно их рассматривали как антагонистические подходы, хотя существуют достойные внимания исключения (см., напр., [16; 29; 59]. На Рис. 3 представлена аналитическая модель основных взаимоотношений между названными четырьмя видами процессов.
Правая сторона Рис. 3 показывает, что всякое взаимодействие мотивировано соображениями обмена. Люди хотят почувствовать, что они повысили свой ресурсный уровень в обмен на трату энергии и вложение части ресурсов. Естественно, характер ресурсов может меняться, но аналитические теории обмена обычно рассматривают как наиболее общие из них - власть, престиж, людское одобрение и иногда материальное благосостояние. Поэтому с точки зрения самых современных «обменных» подходов индивиды «побуждаемы» искать выгоду именно на основе этого рода ресурсов. Большое место в человеческом взаимодействии занимают переговоры относительно власти, престижа и одобрения (и изредка материальных выгод). Я не буду здесь останавливаться на доводах теории обмена, поскольку они хорошо известны, но думаю, что ее основные принципы хорошо резюмируют один из мотивационных процессов.
Другой мотивационный процесс - тоже часть межличностных обменов: это разговор и беседа. Я думаю, что Коллинз [17] прав, усматривая в них главный ресурс взаимодействия, а не просто средство передачи или посредника. Т. е. люди «тратятся» в разговоре и беседе, надеясь получить не только власть (уступку), престиж или одобрение, но и вознаграждение в разговоре per se. Действительно, люди обговаривают ресурсы, скрытые в беседе, так же активно, как и другие ресурсы. Из таких бесед они извлекают «смысл» и «чувство удовлетворения» или то, что Коллинз называет «эмоцией». Иными словами, люди тратят и умножают свой «эмоциональный капитал» при обменах в ходе бесед. Таким образом, разговор - не только средство передачи власти, престижа, одобрения от человека к человеку, но и самостоятельный «ресурс».
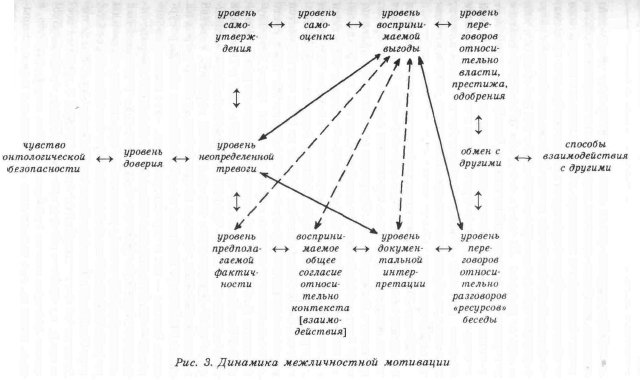
Вернемся к верхней части Рис. 3, где еще одну мотивирующую силу во взаимодействии составляют усилия при всех обстоятельствах сохранить представление о себе как личности определенного рода. Это реализуется в первую очередь через обменные отношения, организованные вокруг власти, престижа, одобрения, а также приобретения эмоционального капитала в беседах. Следовательно, если люди почувствуют, что получают некую «психологическую выгоду» в своих обменах, они подтвердят и свою самооценку, которую я рассматриваю как главный передаточный механизм посредничества между их «центральным Я» [41] и результатами обменов. Как указывают пунктирные стрелки, вторичный процесс в подтверждении «выгоды» - это динамика, приводящая к «ощущению фактичности». В той мере, в какой достижение фактичности проблематично, индивиды не будут чувствовать, что имеют «выгоду» от взаимодействия, и потому у них будут трудности с подтверждением самооценки и концепции Я в такой ситуации. Будь то от этого вторичного источника, либо просто от неспособности увеличить эмоциональный капитал или вырвать уступку, одобрение и престиж, неудача в самоутверждении порождает тревогу, которая, в свою очередь, разъедает веру [в себя] <trust>, столь существенную для онтологической безопасности.
Здесь не стоит вдаваться в подробности этой модели, но важно заметить, что она представляет собой попытку свести разные аналитические традиции в более синтетическую картину мотивационной динамики. В конце этого подраздела я бы хотел проиллюстрировать свою общую теоретическую стратегию, применив данную модель для разработки нескольких абстрактных «законов мотивации».
I. Уровень мотивационной энергии индивидов в ситуации взаимодействия есть обратная функция степени, в какой индивидам не удается: (а) достичь ощущения онтологической безопасности, (б) развить предпосылку фактичности, (в) утвердить свое центральное «Я» и (г) достичь ощущения приумножения своих ресурсов.
II. Форма, направление и интенсивность взаимодействия в некоторой ситуации будет положительной функцией относительной значимости вышеуказанных (а),(б), (в) и (г), равно как и абсолютных уровней (а), (б), (в) и (г).
Эти два принципа устанавливают на абстрактном уровне общее направление «энергетической подзарядки» людей для осуществления взаимодействия. Очевидно, что данные суждения не конкретизируют процессы мотивации, как это сделано в модели на Рис. 3.
По-моему, эта аналитическая модель сообщает необходимые подробности о механизмах «насыщения энергией» (о тревожности, самооценивании, извлечении выгоды, общем согласии относительно контекста взаимодействия, документальной интерпретации и переговорном процессе). Разумеется, я хотел бы встроить эти детали в абстрактные суждения, но тогда «законы» потеряют простоту и краткость, которые желательны для самых разных целей (напр., при использовании в дедуктивном исчислении). Поэтому, как я указывал выше, происходит творческое взаимодействие между абстрактными законами и аналитическими моделями. Одно без другого не вполне удовлетворительно: модель слишком сложна, чтобы быть проверяемой в целом (поэтому важно ее преобразование в простые законы), но простые законы не описывают сложных причинных процессов и механизмов, которые скрываются под отношениями, уточненными в законе (отсюда необходимость дополнить законы абстрактными аналитическими моделями).
Процессы взаимодействия. Следующий элемент «сенсибилизирующей схемы» на Рис. 2 - процесс взаимодействия как таковой. Ключевой вопрос здесь такой: что именно происходит, когда люди взаимно сигнализируют друг другу и истолковывают жесты друг друга? На Рис. 4 представлены важнейшие процессы: использование фондов имплицитного знания [58], или в моей терминологии, «фон-дообразование» <stock-making>, включающее ряд сигнальных процессов, а именно сценическую постановку взаимодействия <stage-making> - [30], постановку ролей <role-ma-king) - [64], выдвижение притязаний <claim-making> - [33] и придание значения ситуации <account-making> - [26] и другое использование фондов знания или овладение фондами <stock-taking>, охватывающее ряд процессов истолкования, в частности принятие ситуации в расчет <account-ta-king> - [26], принятие притязаний <claim-taking> - [33], принятие [на себя] роли <role-taking> - [46] и типизацию, принятие типа <type-taking> - [58]. Я не могу детально рассмотреть здесь эти процессы, особенно потому, что модель на Рис. 4 черпает из очень разных теоретических традиций, но все же кратко остановлюсь на каждом из них.
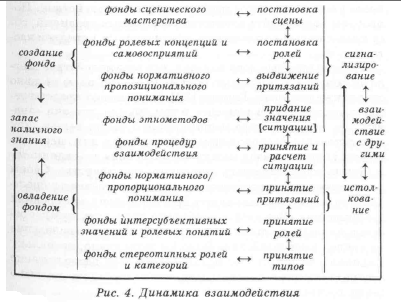
В средней части модели на Рис. 4 сделана попытка примирить ранние интуиции Мида и Шюца с тем, что иногда рассматривают как антагонистические традиции. Но эти традиции на деле не антагонистичны, ибо каждая что-то вносит в синтетическое изображение взаимодействия. Попробуем подтвердить совместимость разных традиций, обсуждая каждый из элементов, обозначенных в средней части Рис. 4.
Гофман впервые ясно показал, что взаимодействие всегда включает «сценическую постановку». Эту идею недавно стал также развивать Гидденс [29]. Люди имеют представление о «сценическом ремесле» в том смысле, что они «знают», по меньшей мере имплицитно, о таких вещах, как относительное расположение действующих лиц, передвижения вперед и назад между «авансценой» и «задником» и другие аспекты демографического пространства. Своим расположением в пространстве или передвижением в пространстве люди сигнализируют другим о своих намерениях и ожиданиях. Без этой способности извлекать нужное из фондов знания и «ставить» для самих себя свое «появление -на сцене» взаимодействие было бы затруднено, поскольку индивиды не смогли бы использовать свое расположение и передвижение в пространстве, чтобы сообщить другим о своих соответствующих действиях.
Много из этих манипуляций с пространственным расположением предназначено облегчить то, что Ральф Тернер назвал «постановкой роли», или оркестровкой жестов, чтобы сигнализировать, какую роль некто собирается играть в ситуации. В таких «постановках ролей» люди не полагаются исключительно на сценическое умение. Они располагают фондами «ролевых концепций», которые обозначают характерные совокупности жестов и последовательности поступков, связанные с определенной линией поведения. Эти ролевые понятия можно очень тонко настроить так, например, что мы сможем различить, как исполняется не только «роль студента» вообще, но и разновидности этой роли (учебная, научная, спортивная, общественная и т. д.). Таким образом, люди располагают обширным репертуаром ролевых понятий, и из этого репертуара они пытаются создать роли для самих себя, организуя подачу своих жестов. Конечно, роли, которые они готовят для себя, ограничены не только существующей социальной структурой (например, студенты не могут быть профессорами), но также их фондами самовосприятий и самоопределений. Поэтому люди выбирают из своего репертуара ролей те, которые согласуются с названными фондами. Некоторые из этих самовосприятий вытекают из центральной концепции Я, которая мотивирует взаимодействие. Но люди располагают также фондами более периферийных и ситуационных образов самих себя. Например, некто может признать без большого ущерба для самооценки и без понижения морального уровня «центрального Я», что он не в ладах со спортом, и, как следствие, это лицо разработает для себя роль, которая соответствует его «образу Я», не имеющего сноровки в «игровых ситуациях». Без этой способности ставить роли взаимодействие было бы чрезмерно нервозным и требовало бы больших затрат времени, поскольку индивиды не смогли бы заранее предполагать, что их «оркестровка» жестов сигнализирует другим о конкретной линии поведения. Но поскольку есть общепринятые представления о различных типах ролей, индивиды могут сигнализировать о своих намерениях и быть уверенными, что другие будут понимать их и впредь, без необходимости все время сигнализировать' о предлагаемой линии поведения.
Хотя в «критическом проекте» Юргена Хабермаса многое мне кажется излишне идеологизированным, идеализированным и местами социологически наивным, тем не менее его обсуждение «идеального речевого акта» и «коммуникативного действия» [33] открывает одну из основных движущих сил в человеческом взаимодействии: процесс выдвижения «притязаний на значимость». В процессе взаимодействия индивиды выдвигают «притязания на значимость», которые другие могут принимать или оспаривать. Такие притязания подразумевают утверждения (как правило, имплицитные, но иногда и явные) о подлинности и искренности жестов как проявлений субъективного опыта; о действенности и эффективности жестов как показателей выбора средств для известной цели; и о правильности действий с точки зрения соответствующих норм. Я не разделяю идеологической точки зрения Хабермаса, согласно которой выдвижение притязаний (и возражения, и дискурс, могущие затем последовать) якобы выражает самую суть человеческого освобождения от форм господства. Однако я полагаю, что взаимодействие действительно включает тонкий и обычно имплицитный процесс, посредством которого каждая участвующая сторона «заверяет» в своей искренности, эффективности и подчинении правилам. Такие притязания связаны с «постановкой ролей», но опираются также и на общие фонды знания о нормах, на совместные представления о честном поведении и на обусловленное культурой согласие относительно взаимосвязи целей и средств.
Наконец, последний сигнальный процесс связан с выдвижением притязаний, а более непосредственно - с фондами «этнометодов», таких как «принцип etcetera», порядок следования бесед, нормальные формы и другие «народные» практические приемы [15; 35], при помощи которых индивиды имеют обыкновение создавать у себя ощущение социального порядка. Поэтому сигнализирование всегда включает процесс придания значения ситуации, в ходе которого индивиды используют обыденно-народные методы или процедуры для убеждения других в том, что они разделяют с ними общий мир фактов. «Провоцирующие эксперименты» Гарфинкеля [25; 26] и другие использования бесед [35] указывают, что такие процедуры имеют решающее значение для гладкого взаимодействия; когда эти «этнометоды» не используются либо когда их не понимают или не принимают, взаимодействие становится проблематичным. Таким образом, многое из того, о чем индивиды сигнализируют другим, есть попытка придать [чему-либо] в данной ситуации значение реальности и фактичности.
Одновременно с этими четырьмя сигнальными процессами: постановкой сцены, постановкой ролей, выдвижением притязаний и приданием значения - идут ответные процессы истолкования сигналов, подаваемых другими. Более того, до известной степени люди толкуют и свои собственные сигналы, и потому взаимодействие требует рефлексивного отслеживания как своих, так и чужих жестов.
«Придание значения» идет бок о бок с «принятием в расчет», в ходе которого сигналы других, а также и собственные, особенно принадлежащие к фондам истолковывающего понимания, используются для образования набора неявных предположений об основных чертах обстановки взаимодействия. Т. е. действующие толкуют определенные классы сигналов (это и есть «народные» методы), чтобы «заполнить пробелы», «придать смысл» тому, что делают другие, а также чтобы почувствовать себя (возможно, в какой-то мере иллюзорно) в одном социальном пространстве с другими.
С таким «этнометодизированием» (если позволительно изобретать еще одно слово в области, и так переполненной лингвистическими нововведениями) связана другая сторона выдвижения притязаний, по Хабермасу: «понимание притязаний». «Притязания» других (и самого исходного действователя) на искренность, нормативную правильность и эффективность отношения средств к целям истолковываются в свете накопленных запасов нормативных представлений, культурно одобряемой формулы «средства-цели» и стиля удостоверения притязаний. Такое истолковыва-ние может вести к принятию притязаний или повлечь «возражения» какому-то одному или всем трем типам притязаний. Если случается последнее, тогда подается сигнал о контрпритязаниях и взаимодействие будет циркулировать вокруг процессов выдвижения и принятия притязаний до тех пор, пока притязания на значимость всех участников не будут одобрены (или же пока некий набор притязаний не будет просто навязан другим благодаря способности принуждать или возможности контролировать ре-сурсы).
Третий процесс истолкования Мид впервые концепту-влизировал как «принятие [насебя] роли» и «принятия [на себя] роли» другого, а Шюц назвал «взаимностью перспектив». Жесты или сигналы других людей используются, чтобы поставить себя в положение другого или усвоить себе его особенную точку зрения. Такое «принятие роли» имеет несколько уровней. Первый - это нечто противоположное «постановке роли»; запасы ролевых концепций используются, чтобы определить, какую роль играют другие. Второй, более глубокий уровень - это использование фондов согласованных представлений о том, как обычно действуют люди в разного вида ситуациях, когда пытаются реконструировать глубинные характеристики, необходимые для понимания того, почему данное лицо ведет себя определенным образом. Вместе оба названных уровня «понимания роли» индивидами могут обеспечить правильный взгляд на вероятные способы и направления поведения других людей.
Иногда взаимодействие включает то, что Шюц называл «типизацией», или взаимодействием в категориях «идеальных типов». Ибо многие взаимодействия подразумевают сперва представление других в стереотипных категориях и затем обращение с ними как с нелицами или чем-то идеальным. Тем самым «принятие роли» может незаметно перейти в «принятие типа», когда ситуация не требует особо чувствительных и тонко настроенных истолкований мотивов, эмоций и установок других. Если «принятие типа» - реальный процесс, то другие истолковательные процессы (принятие роли, принятие притязаний и принятие в расчет ситуации) сходят на нет, ибо они в сущности уже «запрограммированы» в фондах стереотипных ролей и категорий, используемых для типизации.
Итак, я рассматриваю взаимодействие как двойственный процесс одновременного сигнализирования и истолкования, питаемый запасами знания, приобретенного индивидами. В различных теоретических подходах выделялись разные аспекты этого основного процесса, но ни один не описывает динамики взаимодействия с достаточной полнотой. В модели на рис. 4 сделана попытка объединить упомянутые подходы в один, рассматривающий процессы сигнализирования и истолкования как взаимосвязанные. Чтобы завершить этот синтез разных подходов к процессу взаимодействия в аналитической теории, переформулируем ключевые элементы нашей модели в несколько «законов взаимодействия».
III. Степень взаимодействия между индивидами в некоторой ситуации есть совместная и положительная функция их соответствующих уровней (а) сигнализирования я (б) истолкования.
(а) Уровень сигнализирования есть совместная и положительная функция уровня сценической постановки, постановки ролей, выдвижения притязаний и придания значения.
б) Уровень истолкования есть совместная и положительная функция степени принятия в расчет, принятия притязаний, принятия ролей и принятие типа.
IV. Степень взаимного приспособления и сотрудничества между индивидами в ситуации взаимодействия есть положительная функция степени, в какой они владеют общими фондами знания и пользуются ими в своем сигнализировании и истолковании.
Процессы структурирования. Большая часть любого взаимодействия протекает в рамках существующей структуры, созданной и поддерживаемой предыдущими взаимодействиями. Такие структуры лучше всего рассматривать как ограничивающие параметры [12а], поскольку они обозначают пределы «сценической деятельности» индивидов, помещая их в реальное физическое пространство; ограничивают виды возможных процессов утверждения значимости притязаний и возражений; обеспечивают контекстуальную основу для учета всех видов деятельности, которые позволяют людям развивать чувство реальности; диктуют возможные виды постановки ролей; дают наметки для понимания ролей; организуют людей и виды их деятельности в направлениях, которые поощряют (или тормозят) взаимную типизацию.
И все же, так как индивиды проявляют отчетливое моти-вационное своеобразие и так как существующие структуры задают лишь некоторые параметры для процессов инсценирования, утверждения значимости взаимных притязаний, постановки ролей и типизации, то всегда остается известный потенциал для перестройки, переструктурирования ситуаций. Но основные процессы, участвующие в такой перестройке, - те же, что служат поддержанию существующей структуры, и потому мы можем пользоваться одинаковыми моделями и суждениями, чтобы понять как структурирование, так и переструктурирование. На Рис. 5 я представляю мои взгляды на динамику этих процессов.
Сначала я обрисую свое понимание того, что такое «структура». Во-первых, это процесс, а не вещь. Если воспользоваться модными теперь терминами, структура «производится» и «воспроизводится» индивидами во взаимодействии. Во-вторых, структура указывает на упорядочение взаимодействий во времени и пространстве [16; 28; 29]. Временное измерение может обозначить процессы, которые упорядочивают взаимодействия для некоторого конкретного множества индивидов, но гораздо важнее организация взаимодействий для последовательных множеств <sucsessive sets> индивидов, которые, проходя сквозь существующие структурные параметры, воспроизводят эти параметры. В-третьих, такое воспроизводство структуры обусловлено, как это акцентировано понятиями на правой стороне Рис. 5, способностью индивидов во взаимодействии «регионализиро-вать», «рутинизировать», «нормативизировать», «ритуали-зировать» и «категоризировать» свои совместные действия. Проанализируем теперь эти пять процессов более подробно.
Когда индивиды занимаются «сценической постановкой» (см. Рис. 4), они обговаривают использование пространства. Они решают такие вопросы: какую территорию кто занимает; кто, куда и как часто может передвигаться; кто может входить в данное пространство и оставаться в нем, и тому подобные проблемы демографии и экологии взаимодействия. Если действователи смогут достичь согласия по таким вопросам, они «регионализируют» свое взаимодействие в том смысле, что их пространственное расположение и мобильность начинают следовать определенному образцу. «Переговоры» по использованию пространства, безусловно, облегчаются, когда имеются вещественные опоры в виде улиц, коридоров, строений, кабинетов и служебных зданий, что сразу сужает круг переговоров. Равно важны, однако, и нормативные соглашения относительно того, что «значат» для индивидов эти опоры, а также другие межличностные сигналы. Т. е. регионализация подразумевает правила, соглашения и представления о том, кто какое пространство может занимать, кто может удерживать «желаемое» пространство и кто может передвигаться в пространстве (вот почему на Рис. 5 стрелка идет от «нормати-визации» к «регионализации»). Другая важная сила, которая связана с нормативизацией, но является также независимым и самостоятельным фактором, - это рутинизация. Регионализация деятельности во многом облегчается, когда совместные действия рутинизированы: индивиды делают приблизительно одно и то же (движения, жесты, разговоры и т. д.) в одно время и в одном пространстве. И наоборот, рутинизации и нормативизации способствует регио-нализация. Следовательно, между этими процессами имеется взаимная обратная связь. Установившиеся регулярные процедуры облегчают упорядочение пространства, но раз упорядочение произошло, эти рутинные практики становится нетрудно поддерживать (разумеется, если пространственный порядок рушится, то же происходит и с рутинными процессами).

Привычные, регулярные и неизменные процедуры («рутины») также составляют важную часть в процессе структурирования. Если какие-то множества действователей участвуют в более или менее одинаковых последовательностях поведенческих актов во времени и пространстве, тогда организация взаимодействия сильно облегчена. И наоборот, на рутинные процессы влияют другие структурирующие процессы - регионализации, нормативизации, ритуализации и категоризации. Когда разные виды деятельности упорядочены в пространстве, легче устанавливать рутинную практику. Если существуют соглашения по нормам, тогда ускоряется формирование рутинных процессов. Если к тому же взаимодействие может быть ритуализовано, так что контакты между людьми включают стереотипные последовательности жестов, тогда рутинные процессы можно поддерживать без большой «межличной работы» (т. е. без активного и осознанного сигнализирования и истолкования). А когда действователи имеют возможность успешно «категоризи-ровать» друг друга в качестве безличных объектов и тем самым взаимодействовать без больших усилий при сигнализировании и истолковании, тогда легче закреплять и поддерживать рутинные процессы.
Еще один существенный элемент в структурировании - ритуалы. Ибо если действователи могут начинать, поддерживать и заканчивать взаимодействие в разных ситуациях стереотипными разговорами и жестикуляцией, взаимодействие будет протекать глаже и упорядочиваться быстрее. Какие именно ритуалы исполнять, как их исполнять и когда - все это нормативно определено. Но ритуалы - также и результат рутинизации и категоризации. Если действователи способны представить друг друга в простых категориях, тогда их взаимодействие будет ритуализовано (включая предсказуемое начало и прекращение жестов) в некоей типичной форме беседы и жестикуляции между началом и окончанием ритуальных действий. Аналогично рутинные виды деятельности способствуют формированию ритуалов, ибо, стремясь подкрепить свои установившиеся рутинные практики, индивиды пытаются ритуализировать взаимодействие, чтобы удержать его от вторжения (путем навязывания сознательной «межличной работы») в свою привычную рутину. Но, возможно, наиболее важно то, что ритуалы связаны с расстановкой ролей, когда индивиды торгуются за соответствующие роли для себя, и, если они смогут договориться о взаимодополняющих ролях, тогда они смогут многое ритуализовать в их взаимодействии. Это особенно вероятно в случае, когда соотносящиеся роли неравны с точки зрения власти [16].
Последний из рассматриваемых основных структурирующих процессов - категоризация, плод переговоров людей о том, как взаимно типизировать друг друга и свои отношения. Этому процессу категоризации друг друга и любого отношения помогают успешная постановка ролей и рути-низация, а также и ритуализация данного отношения. Категоризация помогает индивидам трактовать друг друга как безличные объекты и экономить время и энергию, потребные при тонко настроенных и избирательных процессах сигнализации и интеграции. Таким образом, их взаимодействие сможет гладко протекать во времени (при повторных контактах) и в пространстве (без повторных переговоров о том, кто где должен быть).
Я не могу углубляться здесь во все тонкости этих пяти процессов, но стрелки на Рис. 5 показывают, в каком направлении я развил бы более подробный анализ. Поскольку люди взаимно подают сигналы и создают интерпретации, они вовлекаются в процессы инсценирования, утверждения значимости, учитывания, принятия роли, постановки роли и типизации, которые, соответственно, подразумевают переговоры касательно пространства, притязаний на значимость, процедур истолкования, взаимности перспектив, соответствующих ролей и взаимных типизации. Из этих процессов вырастают структурирующие процессы регионализа-ции, рутинизации, нормативизации, ритуализации и категоризации, которые организуют взаимодействие во времени и пространстве. В свою очередь, эти структурирующие процессы служат структурными параметрами, которые удерживают в определенных пределах интерактивные процессы инсценирования, утверждения значимости, учитывания, принятия роли, постановки роли и типизации. Таково в общих чертах видение процесса структурирования, который охватывает значительную часть аналитико-теоретиче-ской работы по истолкованию «социальной структуры» на уровне микровзаимодействий. Завершим этот обзор формулировкой нескольких «законов структурирования».
V. Степень структурирования взаимодействий есть положительная и аддитивная функция степени, в какой это взаимодействие может быть (а) регионализировано, (б) рутинизировано, (в) нормативизировано, (г) ритуа-лизировано и (д) катетеризировано.
(а) Степень регионализации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды способны успешно договориться об использовании пространства и рутинизировать, а также нормативизировать свою совместную деятельность.
(б) Степень рутинизации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды способны нормативизировать, регионализи-ровать, ритуализовать и категоризировать свою совместную деятельность.
(в) Степень нормативизации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды могут успешно договариваться о притязаниях на значимость, процедурах истолкования и взаимности перспектив, а также регионализиро-вать, рутинизировать и ритуализировать свою совместную деятельность.
(г) Степень ритуализации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды могут успешно договариваться о взаимности перспектив, равно как и о взаимодополнительности ролей, и нормативизировать, рутинизировать и категоризировать свою совме-стную деятельность.
(д) Степень категоризации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды могут успешно договариваться о взаимных типизациях и взаимодополнительности ролей, а также ритуализировать и рутинизировать свою совместную деятельность.
Этим завершается мой обзор разработок по микродина-Мике в аналитической теории. Очевидно, что я заимствовал идеи у ученых, которые возражали бы против зачисления в стан аналитических теоретиков, но в той степени, в какой аналитическая теория обращается к проблеме микропроцессов (Рис. 3,4 и 5), она схватывает устремления этого теоретизирования. То же справедливо и в отношении суждений I-V. За некоторым заметным исключениям (см., напр.: [16; 17; 29; 65]) - представители аналитического теоретизирования сосредоточились на макродинамике, предпочитая рассматривать взаимодействие как некую данность, как случайные процессы (см., напр.: [45]) или как расчет [12]. Перейдем теперь к этому макроподходу.
Макродинамика
В социологическом теоретизировании нет ясности по поводу того, что конституирует «макрореальность». Некоторые макросоциологи сводят все к анализу структурных свойств, независимых от процессов, идущих среди индивидов (см., напр.: [12; 44]). Другие смотрят на макросоциологию как на анализ различных способов соединения микроединиц, ведущего к возникновению крупных организационных и социетальных [т. е. проходящих в масштабах всего общества] процессов (см., напр., [16; 17]). Критики обычно воспринимают весь макроанализ как реификацию или ги-постазирование [39]. И все-таки, несмотря на разные виды критики и явную понятийную неразбериху по вопросу о микробазисе социальной структуры, трудно отрицать простой факт общественной жизни: человеческие популяции растут, образуют большие по численности объединения и сложные социальные формы, которые распространяются на обширные географические регионы и существуют длительные исторические периоды. Утверждать, как делают многие, что такие формы можно анализировать исключительно на основе составляющих их действий и взаимодействий индивидов, было бы ошибкой. Такие редукционист-ские подходы порождают концептуальную анархию, поскольку так никогда не увидишь «леса за деревьями» или даже деревьев за отдельными ветками.
Конечно, нет сомнений, что макропроцессы включают взаимодействия среди индивидов, но зачастую разумнее вывести эту посылку за пределы анализа. Ибо точно так же, как для решения большинства аналитических задач при изучении многочисленных свойств взаимодействия полезно игнорировать физиологию дыхания и кровобращения, во многих случаях разумно пренебречь индивидами, индивидуальными актами и индивидуальными взаимодействиями. Естественно, конкретное знание того, что делают люди при регионализации, рутинизации, нормативизации, ритуализации и категоризации своих взаимодействий (см. Рис. 5), может послужить полезным дополнением к макроанализу. Но такое изыскание не может заменить чистый макроанализ, занимающийся процессами, благодаря которым все больше действующих собираются вместе, дифференцируются и интегрируются (см. Рис. 2). Такова моя позиция и позиция большинства аналитических теоретиков (см. [61]).
Рис. 6 дает представление о моих взглядах на основополагающие макродинамические процессы человеческой организации. Я разбил их, согласно Рис. 2, на три группы: процессы скопления <assemblage>, или приращения индивидов и их производительных способностей в пространстве; процессы дифференциации, или увеличения числа различных подъединиц и культурных символов среди возросшего населения и процессы интеграции, или увеличения степени координации отношений между подъединицами некоторой возросшей человеческой популяции. Но в отличие от моего анализа микропроцессов я не даю трех отдельных моделей этих макропроцессов. Я создал одну составную модель, которую можно разбить на части и развить более детально. Я планирую предпринять такой анализ в ближайшем будущем, но для целей этой статьи модель представлена в упрощенной форме.
а) Процессы приращения. Прежние теоретики социологии, особенно Герберт Спенсер [60] и Эмиль Дюркгейм [1], хорошо понимали эту динамику. Они сознавали, что рост населения (популяции), его концентрации в ограниченном пространстве и способы его производства взаимозависимы. Характер этой взаимозависимости показан направлением стрелок на Рис. 6: рост размеров популяции и производство взаимно усиливают друг друга с каждым циклом обратной связи и с каждым увеличением показателей другого фактора, особенно когда показатели наличия материальных, организационных и технологических ресурсов высоки; концентрация связана с ростом размеров популяции и Уровнями производства, и, хотя между этими силами имеется некоторая обратная связь, она вторична и не указана в данной упрощенной версии нашей модели.
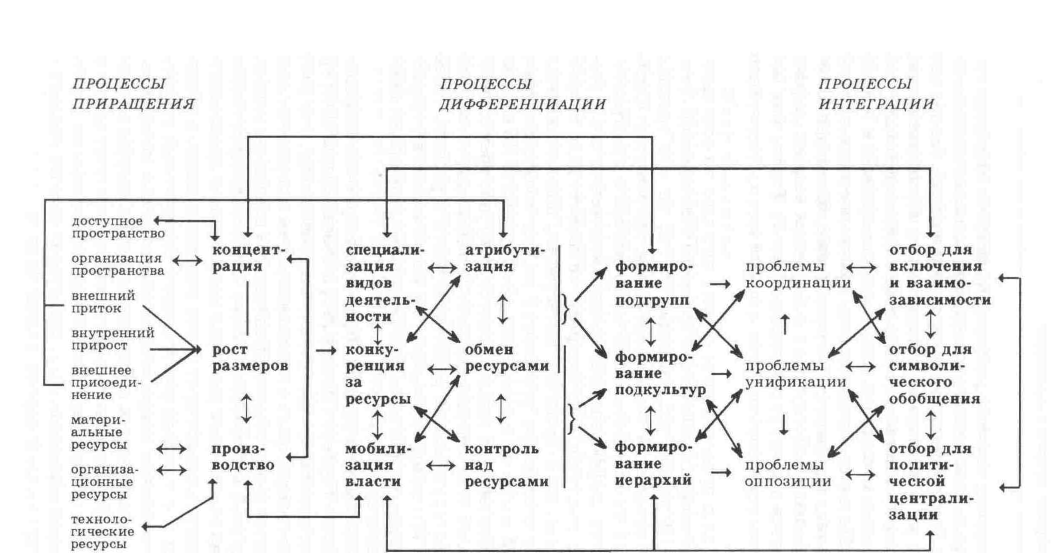
VI. Уровень приращения для популяции есть мультипликативная функция ее (а ) размера и скорости роста, (б) степени экологической концентрации и (в) уровня производства (явная тавтология, устраняемая ниже).
(а) Размер и скорость роста популяции есть аддитивная и положительная функция внешнего притока [ресурсов], внутреннего прироста, внешнего присоединения и уровня производства.
(б) Степень концентрации популяции есть положительная и аддитивная функция ее размера и скоростироста, уровня производства, способности организовать пространство, количества и разнообразия ее подгрупп и одновременно - обратная функция размеров доступного для нее пространства.
(в) Уровень производства для популяции есть положительная мультипликативная функция ее размера и скорости роста, уровня материальных, организационных и технологических ресурсов, а также способности мобилизовывать власть.
б) Процессы дифференциации. Увеличение концентрации, скорости роста размеров популяции и производства поднимают уровень конкуренции за ресурсы среди социальных подразделений. Такая конкуренция, как подчеркивали Спенсер и Дюркгейм, стимулирует процесс дифференциации среди индивидов и организационных подразделений в данной человеческой популяции. Эта дифференциация - результат двух взаимоусиливающих друг друга циклов: один сводится к процессам конкуренции, специализации, обмена и развития отличительных качеств <attributes> или тому, что я называю «атрибутизацией», а другой- к процессам конкуренции, обмена, власти и контроля над ресурсами. В свою очередь эти два цикла порождают три взаимосвязанных формы дифференциации: подгруппы или разнородность (гетерогенность), подкультуры или символическое разнообразие; иерархии или неравенства [12а]. Но прежде чем анализировать эти основные формы дифференциации, вернемся к взаимоусиливающим циклам, порождающим их.
Конкуренция и обмен взаимосвязаны. Конкуренция будет все время порождать обменные отношения среди дифференцированных действователей, и, наоборот, обменные отношения будут, по крайней мере на первых порах, увеличивать уровень конкуренции [12]. И обмен, и конкуренция порождают специализацию видов деятельности [1; 60], поскольку некоторые участники могут «переиграть» других и тем ускорить дифференциацию видов деятельности и поскольку обменные отношения побуждают действователей специализироваться в снабжении друг друга разными ресурсами [22]. Конкуренция, обмен и специализация - все действует в направлении формирования отличительных атрибутов (ресурсных потенциалов, видов деятельности, символов и других параметров) среди действующих [12а]. Более того, процессы накопления [ресурсов] внешнего присоединения также могут работать на увеличение отличий среди действующих субъектов, поскольку новые члены популяции могут приходить из очень разных систем (см. стрелку наверху Рис. 6). В свою очередь, эти различия способствуют обмену различными ресурсами, конкуренции и специализации.
Взаимоусиливающие результаты конкуренции, обмена, мобилизации власти и контроля над ресурсами закрепляют и интенсифицируют этот цикл. Конкуренция и обмен всегда влекут за собой попытки мобилизовать власть [12]. Такая мобилизация увеличивает, по меньшей мере на время, конкуренцию и обмен. Опираясь на эту систему положительной обратной связи, некоторые действователи имеют возможность использовать власть, чтобы контролировать те ресурсы (символические, материальные, организационные и т. д.), которые будут увеличивать их власть, их способность вступать в обмен и их конкурентоспособность. И существующие формы политической централизации работают, как показывает стрелка внизу (Рис. 6), на увеличение как мобилизации власти, так и контроля над ресурсами. В свою очередь эти процессы мобилизации и контроля поднимают уровень специализации и развивают отличительные атрибуты, ибо они ускоряют (до известной степени) конкуренцию и поощряют обмен.
Многие из этих взаимных причинных эффектов в наших двух циклах представляют собой либо нелинейные, либо ступенчатые логические s-функции. То есть они до какого-то момента увеличивают свои значения, а затем увеличение прекращается или наступает спад. Такая модель отношений отчасти объясняется тем, что процессы, присущие этим циклам, самопреобразуются. Например, обмен увеличивает конкуренцию, но раз была мобилизована власть и установлен соответствующий контроль над ресурсами, обмен, скорее всего, станет «институционализированным» [12] и сбалансированным [22], тем самым уменьшая конкуренцию. Другой пример: конкуренция увеличивает мобилизацию власти и в результате - контроль над ресурсами, но раз уж они возросли, эта власть и контроль могут быть использованы, чтобы подавить конкуренцию, по меньшей мере, на время. Эти примеры показывают, что существует множество подпроцессов, кроме тех, что изображены на Рис. 6. Их тоже можно включить в модель при более тонком анализе, но для моих целей здесь достаточно лишь упомянуть о них.
Эти два цикла определяют три основных вида дифференциации: формирование подгруппе высокой внутренней солидарностью и с плотной (относительно других подгрупп) сетевой структурой; формирование различающихся субкультур, у которых фонды знания и репертуары символов различны, а отличительность есть и причина, и следствие формирования подгрупп; формирование иерархий, различающихся по соответствующим долям материальных, политических и культурных ресурсов, которыми владеют разные действователи, и по пределам, в каких «совпадают» [19; 20], «коррелируют» [43] или «консолидируются» [12а] взаимозависимости при распределении ресурсов. Поэтому степень дифференциации популяции определяется исходя из количества подгрупп, субкультур и иерархий, и чем больше дифференциация, тем сложнее проблемы координации или интеграции для такой популяции. Прежде чем перейти к третьей группе макропроцессов, подытожим эти рассуждения в виде нескольких «законов дифференциации».
VII. Уровень дифференциации в некоторой человеческой совокупности есть положительная и мультипликативная функция количества (а) подгрупп, (б) субкультур и (в) иерархий, различимых в этой совокупности (опять явная тавтология, которая устраняется ниже).
(а ) Количество подгрупп в популяции есть нелинейная и мультипликативная функция уровня обмена, конкуренции, специализации и атрибутизации среди членов этой популяции и одновременно положительная функция числа субкультур в ней и скорости внешнего притока и встраивания в нее.
(б) Количество субкультур в популяции есть некоторая аддитивная и s-образная функция уровня конкуренции, обмена, специализации, атрибутизации, мобилизации власти и контроля над ресурсами и одновременно положительная функция формирования подгрупп и иерархий.
(в) Количество иерархий в популяции есть обратная функция мобилизации власти и контроля над ресурсами и положительная функция конкуренции, обмена и формирования субкультур, причем степень консолидации иерархий является положительной функцией мобилизации власти и контроля над ресурсами и отрицательной функцией конкуренции и обмена.
в) Процессы интеграции. Понятие «интеграции» в общем-то туманное, если не оценочное (в смысле, интеграция - это «хорошо», а неудовлетворительная интеграция - «плохо»), но все же оно полезно как этикетка для нескольких взаимосвязанных процессов. Для меня интеграция - это понятие, которое включает три отдельных измерения: степень координации социальных единиц; степень их символической унификации и степень противостояния и конфликта между ними.
С этой точки зрения ключевой теоретический вопрос таков: какие условия обеспечивают или тормозят координацию, символическую унификацию и противостояние-конфликт? В общих чертах ясно, конечно, что существование подгрупп, субкультур и иерархий само по себе увеличивает проблемы соответственно структурной координации, символической унификации и конфликтного противостояния. Следовательно, проблемы интеграции разнообразно дифференцированных единиц имманентны процессу дифференциации. Существование таких проблем вызывает к жизни разные силы «избирательного давления», но, как документально показывает история любого общества, организации, местной общины или иной социальной «макроединицы», наличие такого давления не гарантирует отбора подлинно интегрирующих процессов. В самом деле, при достаточно длительной работе все формы организации дезинтегрируются. Тем не менее в большинстве макроаналитических теорий главная ставка сделана на отбор структурных и культурных форм, которые решают в разной степени проблемы структурной координации, символической унификации и конфликтного противостояния.
Справа на Рис. 6 я изобразил ключевые процессы интеграции. Формирование подгрупп и субкультур порождает проблемы координации, которые, в свою очередь, способствуют включению в структуру (подъединиц внутрь все более обширных единиц) (подробнее см. [67]) и структурной взаимозависимости (совмещенному членству в разных подгруппах и функциональным зависимостям). Формирование субкультур и подгрупп ставит также проблему [1] унификации популяции с помощью «общего» и «коллективного сознания», или, более универсально, «общих символов» (язык, верования, нормы, фонды знания и т. д.). Создание иерархий обостряет эти проблемы. И, наоборот, проблемы унификации могут также повышать избирательное давление в пользу формирования структур, решающих проблемы координации и противостояния, которые связаны с существованием иерархий и подгрупп.
Чистый итог этих проблем символической унификации сводится к возникновению избирательно направленного давления в пользу символического обобщения или развития абстрактных и высокообобщенных систем символов (ценностей, верований, лингвистических кодов, запасов знания), которые способны пополнить символическое разнообразие подгрупп, подкультур и иерархий. Дюркгейм считал этот процесс «ослаблением коллективного сознания» и беспокоился об анемических последствиях высокоабстрактных культурных кодов и правил поведения, тогда как Парсонс [6; 51] называл это «ценностным обобщением» и рассматривал его как «интегрирующий» процесс, открывающий путь для дальнейшей социальной дифференциации. Оба они правы в определенном смысле: если обобщенные культурные коды не совместимы, не имеют определенных очертаний, оторваны или не согласуемы с особенными культурными кодами классов, подкультур или подгрупп, тогда они только отягощают проблемы унификации, но если они совместимы и способны выполнять руководящую роль по отношению к частным кодам, тогда они продвигают интеграцию подгрупп, классов и подкультур. Следовательно, как и показывают встречно направленные стрелки на Рис. 6, символическое обобщение может оказаться обоюдоострым оружием: оно важно для интеграции дифференцированных систем, но часто неадекватно этой задаче и временами отягощает не только проблемы унификации, но также и проблемы координации и конфликтного противостояния.
Как подчеркивают все версии теории конфликта, иерархии среди социальных единиц, особенно консолидированные, взаимозависимые или наложенные друг на друга, порождают проблемы противостояния. Такое противостояние может усилиться, когда почти нет обобщенных символов, но иерархии также порождают тягу к политической централизации в любом из двух направлений. Во-первых, когда существующие элиты стремятся к политической централизации, чтобы контролировать оппозицию. Во-вторых, если они не добиваются успеха и терпят поражение в конфликте, то новая элита будет централизовать власть, чтобы утвердить свое положение и подавить остатки старой иерархии. Как правило, новая элита апеллирует к обобщенным символам (т. е. идеологиям, ценностям, верованиям), чтобы леги-тимизировать эти усилия, и, если удается, она облегчает себе централизацию власти, создавая легитимный авторитет. Но, как указывает длинная стрелка обратной связи внизу Рис. 6, эти процессы приводят в движение те самые силы, которые порождают противостояние. И, как показывают стрелки справа на Рис. 6, централизованная власть не только подавляет на некоторое время оппозицию, она также важна для включения в структуру и становления взаимозависимости, поскольку эти процессы требуют регуляции и контроля в категориях власти и/или авторитета [57]. В самом деле, существование включенности и взаимозависимости, так же как и обобщенных символов, способствует политической централизации. Как проясняет стрелка обратной связи наверху (Рис. 6), политически регулируемые включение и взаимозависимость облегчают дальнейшую специализацию видов деятельности. Этот рост специализации запускает динамические процессы, ведущие к эскалации проблем символической унификации и координации, которые ведут к большей политической централизации. А она в конечном счете породит оппозицию (это демонстрирует стрелка обратной связи внизу на Рис. 6) (подробнее см. [38]).
Итак, динамике интеграции внутренне присущи силы, которые увеличивают дифференциацию и трудности интеграции. Во всех системах в какой-то момент их истории эти проблемы обострялись настолько, что социальный порядок рушился - и воссоздавался уже в другой форме. Таковы, я полагаю, главные выводы из причинно-следственных связей, циклов и петель обратной связи, изображенных на Рис. 6. Завершим этот беглый обзор формулировкой нескольких «законов интеграции».
VIII. Чем больше степень дифференциации популяции на подгруппы, субкультуры и консолидированные иерархии, тем сложнее проблемы структурной координации и конфликтного противостояния в этой популяции.
IX. Чем сложнее проблемы координации, унификации и противостояния в популяции, тем сильнее избирательные давления в пользу структурного включения и взаимозависимости, символического обобщения и политической централизации в этой популяции.
X. Чем больше интегрирована популяция благодаря политической централизации, обобщенным символам и установившимся образцам взаимозависимости-включения, тем более вероятно, что популяция должна увеличить степень своей дифференциации и, следовательно, обострить проблемы координации, унификации и противостояния.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Главная проблема аналитического теоретизирования заключается в том, что оно существует во враждебном интеллектуальном окружении. Большинство социальных теоретиков не приняло бы моих посылок с первой же страницы этой статьи. Большинство этих теоретиков не согласилось бы, что существуют общие, вневременные и универсальные свойства социальной организации; и опять же большинство не признало бы целью теории выделение этих свойств и развитие абстрактных законов и моделей их действия. В социологической теории, на мой взгляд, слишком много скептицизма, историцизма, релятивизма и солипсизма, вследствие чего теория, как правило, занимается обсуждением разных тем и персоналий, а не проблемами оперативной динамики социального мира.
В этом очерке я предлагаю вернуться к первоначальному представлению Огюста Конта о социологии как науке. Защищая данный тезис, я наметил общую стратегию: строить гибкие, сенсибилизирующие аналитические схемы, абстрактные законы и абстрактные аналитические модели, использовать каждую их этих трех аналитических стратегий как корректировку к двум другим; затем испытывать абстрактные суждения на их правдоподобие. Я проиллюстрировал эту стратегию, представив мои собственные взгляды на процессы микровзаимодействий и на макроструктурные процессы. Эти идеи носят лишь предварительный и временный характер. Они изложены бегло и в общих чертах. Даже при этом условии мой подход эклектичен и соединяет очень разные научные разработки, и, следовательно, модели и суждения в этой статье представляют на момент ее написания схематический итог аналитического теоретизирования в современной социологии. Наилучшие перспективы для социологии заключаются, по-моему, в дальнейшем развитии такого рода аналитической теории.
ЛИТЕРАТУРА
1.Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. Пер. с фр. М.: Наука, 1991.
2.Дюркгейм Э. Метод социологии //Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.
3.Конт О. Курс положительной философии. СПб.: Посредник, 1899- 1900, т. 1.
4.Кун Т. Структура научных революций. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1975.
5.Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. М., 1955. Т. 4. С. 419-^159.
6.Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1997.
7.Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. Пер. с анг. М.: Прогресс, 1983.
8.Тернер Дж. Структура социологической теории. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1984.
9.Alexander J. С. Theoretical Logic in Sociology. 4 vols. Berkeley; Los-Angeles: University of California Press, 1982-1983.
10.Alexander J. C. et al. The Micro-Macro Link. Berkeley; Los-Angeles: University of California Press, 1986.
11.Blalock H. M. Causal Inferences in Nonexperimental Research. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1964.
12.Blau P. M. Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley, 1966.
1.12a. Blau P. M. Inequality and Heterogenety: A Primitive Theory of Social Structure. N.Y. The Free Press, 1977.
13.Blumer H. Symbolic Interaction: Perspective and Method. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Holl, 1969.
14.Carnap R. Philosophical Foundations of Physics. New York: Basic Books, 1966.
15.Cicourel А. К Cognitive Socioligy. London: Macmillan, 1973.
16.Collins R. Conflict Sociology. New York: Academic Press, 1975.
17.Collins R. Interaction Ritual Chains, Power and Property. In: Alexander et al. The Micro-Macro Link. Berkeley; Los-Angeles: University of California Press, 1986.
18.Conte A. Systeme de philosophic positive. Paris: Bachelier, 1830- 1842.
19.DahrendorfR. Toward a Theory of Social Conflict // Journal of Conflict Resolution, 1958, v. 7, p. 170-183.
20.DahrendorfR. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford (CA): Stanford University Press, 1959.
21.Duncan O. D. Path Analysis: Sociological Examples // American Sociological Review, 1966, v. 72, p. 1-10.
22.Emerson R. Exchange Theory: Part 2. In: J. Berger, M. Zelditch, B. Anderson (eds.). Sociological Theories in Progress, v. 2. Boston: Houghton Mifflin, 1972.
23.Erikson E. Childhood and Society. New York: Norton, 1950.
24.Freese L. Formal Theorising // Annual Review of Sociology, 1980, v. 6, p. 187-212.
25.Garfinkel H. A Conception of, and Experiments with, «Trust» as a Condition of Stable Concerted Actions. In: O. J. Harvey (ed.). Motivation and Social Interaction. New York: Ronald Press, 1963.
26.Garfinkel H. Studies in Ethnometodology. Cambridge: Polity Press, 1984.
27.Giddens A. New Rules of the Sociological Method. New York: Basic Books, 1977.
28.Giddens A. Central Problems in Social Theory. London: Macmillan, 1981.
29.Giddens A. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press, 1984.
30.Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday, 1959.
31.Habermas J. On Systematically-Distorted Comunication // Inquiry, 1970, v. 13, p. 205-218.
32.Habermas J. Knowledge and Human Interests. Cambridge: Polity Press, 1972.
33.Habermas J. Theory of Communicative Action. 2 vols. v. 1: Reason and the Rationalisation of Society. London: Heinemann, 1981.
34.Hempel C. G. Aspects of Scientific Explanation. New York: Free Press, 1965.
35.Heritage J. Garfinkel and Ethnometodology. Cambridge: Polity Press, 1984.
36.Homans G. C. Social Behavior: Its Elementary Forms. New York: Harcourt, Brace, 1974.
37.KeatR. and UrryJ. Social Theory as Science. London: Routledge and Kegan Paul, 1975.
38.Kelley J. and Klein H. S. Revolution and the Rebirth of Inequality // American Journal of Sociology, 1977, v. 83, p. 78-99.
39.Knorr-Cetina K. D. and Cicourel A. V. (eds.). Advances in Social Theory and Methodology: Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies. London: Routledge and Kegan Paul, 1981.
40.Kuhn M. H. and McPartland T. S. An Empirical Investigation of Self-Attitudes // American Sociological Review, 1954, v. 19, p. 68-96.
41.Kuhn M. H. and Hickman C. A. Individuals, Groups, and Economic Behavior. New York: Dryden Press, 1956.
42.Lacatos I. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In: I. Lacatos and H. Musgrave (eds.). Criticism and the Growth of Scientific Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
43.Lenski G. Power and Privilege. New York: McGraw-Hill, 1966.
44.Mayhew B. H. Structuralism versus Individualism // Social Forces, 1981, v. 59, p. 627-648.
45.Mayhew В. H., Levinger R. Size and Density of Interaction in Human Aggregatives // American Journal of Sociology, 19”*6, v. 82, p. 86-110.
46.Mead G. H. Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
47.Merlon R. K. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968.
48.Munch R. Theory of Action: Reconstructing the Contributions of Tol-cott Parsons, Emile Durkheim and Max Weber. 2 vols. Frankfurt a. M.: Suhr-kamp, 1982.
49.Parsons T. The Structure of Social Action. New York: McGraw-Hill, 1937.
50.Parsons T. An Outline of the Social System. In: T. Parsons et al. (eds.). Theories of Society. New York: Free Press, 1961.
51.Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1966.
52.Parsons T. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1971.
53.Parsons T. Some Problems in General Theory. In: J, C. McKinney, E. C. Tiryakian (eds.). Theoretical Sociology: Perspectives and Developments. New York: Free Press, 1971.
54.Parsons T. Action Theory and the Human Condition. New York: The Free Press, 1978.
55.Popper K. R. Conjectures and Refutations. London: Routledge and Kegan Paul, 1969.
56.Raddiff-Brown A. R. A Natural Science of Society. Glencoe (IL): Free Press, 1948.
57.Rueschemeyer D. Structural Differentiation, Efficiency and Power // American Journal of Sociology, 1977, v. 83, p. 1-25.
58.Schiitz A. The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern University Press, 1967.
59.Shibutani T. A Cybernetic Approach to Motivation. In: W. Buckley (ed.). Modern Systems Research for the Behavioral Scientist: A Sourcebook. Chicago: Aldine, 1968.
60.Spenser H. Principles of Sociology. New York: Appleton, 1905.
61.Turner J. H. Theoretical Strategies for Linking Micro and Macro Processes: An Evaluation of Seven Approaches // Western Sociological Review, 1983, v. 14, p. 4-15.
62.Turner J. H. Societal Stratification: A Theoretical Analysis. In: G. Seebass and R. Tuomela (eds.). Social Action. Dordreht: D. Riedel, 1985a, p. 61-87.
63.Turner J. H. In Defence of Positivism // Sociological Theory, 1985b, v. 4.
63а. Turner J. H. The Structure of Sociological Theory. 4th end. Home-wood, 111.: The Dorsey Press, 1986.
64.Turner R. H. Role-Taking: Process versus Conformity. In: A. M. Rose (ed.). Human Behaviour and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin, 1962.
65.Turner R. H. A Strategy for Developing an Integrated Role Theory // Humboldt Journal of Social Relations, 1980, v. 76 p. 128-139.
66.Turner ch. 1, 1984.
67.Wallace W. L. Principles of Scientific Sociology. New York: Aldine, 1983.
Маргарет Арчер РЕАЛИЗМ И МОРФОГЕНЕЗ
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Публикуемая работа представляет собой одну из глав книги: Арчер М. «Реалистская социальная теория: морфогенетический подход»1. Эта книга продолжает и развивает некоторые идеи, высказанные в предыдущем теоретическом труде М. Арчер «Культура и деятельность: место культуры в социальной теории»2. Некоторые принципиальные положения автора таковы.
Социолог, полагает Арчер, должен аналитически различать с одной стороны, структуру (или культуру), а с другой - деятельность. Это два аспекта социальной жизни. Стремление представить их в неразличенном единстве она называет конфляционизмом. Слово «conflation» означает «соединение», «сплав», а также сведение двух текстов в один (в публикуемом тексте оно для удобочитаемости переводится как «сращение»). Иногда Арчер использует весьма специфический термин "elision" («элизия»). Имеется в виду особенность некоторых языков, например, французского: при следовании двух слов друг за другом отпадает конечный гласный перед начальным гласным (вместо «la opinion» - «1'opinion»), так что образуется как бы иное слово. Конфляционисты-элизионисты, говорит Арчер, утверждают, что любая деятельность структурирована, а структуры не могли бы существовать, если бы не реализовались через деятельность. Здесь есть три логических возможности. Одни авторы считают, что деятельность - это эпифеномен структуры. Другие - что структура есть эпифеномен деятельности. В первом случае сращивание происходит «сверху вниз», т. е. деятельность лишается автономии по отношению к структуре; во втором случае - «снизу вверх», т. е. структура3 лишается автономии относительно деятельности. Наконец, есть третья возможность: и структура, и деятельность лишаются автономии, сращение, элизия происходит посередине.
1 Archer Margaret S. Realist social theory : the morphogenetic approach. Cambridge; New York : Cambridge University Press, 1995.
2 Archer M. S. Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1988.
3 Арчер часто использует дихотомию «parts and people»; первое можно было бы перевести как «роли», что, собственно, в известном смысле тоже структура, второе - просто «люди», действующие человеческие существа.
Именно с концепцией «сращения в центре» Арчер полемизирует особенно подробно. Тем самым становится очевидным, на что в первую очередь нацелена критика: это концепция двойственности структуры, теория структурации Э. Гид-денса. Помимо Гидденса, упоминается ряд весьма известных авторов: 3. Бауман, М. Дуглас и др.
Конфляционисты, пишет Арчер, забывают о временном измерении социальной жизни. Ведь структуры по времени предшествуют структурируемой деятельности. А если в результате деятельности возникает структура, то ею определяется уже последующая деятельность. В «Культуре и деятельности» основное внимание уделено аналитическому различению (основанному на различении «социальной интеграции» и «системной интеграции» у Д. Локвуда) «ролей и людей» в области культуры. С одной стороны, культура, мир идей как таковой требует логической последовательности. В чисто смысловом аспекте взаимосвязь идей неслучайна. С другой стороны, эти идеи, компоненты культуры так или иначе навязываются людям, благодаря чему возникает каузальное (т. е. причиненное, а не просто следующее логике смысла) согласие. Аналитическое различение этих двух моментов позволяет развить идеи Локвуда. На основе принципа противоречия, логической последовательности происходит интеграция культурной системы (КС); на основе каузального принуждения - взаимоотношений между агентами культуры - со-циокультурная интеграция (СК). Различение «КС/СК» выступает затем у Арчер как основной исследовательский принцип.
В этой же работе Арчер вводит и понятия морфогенеза и морфостазиса, т. е. становления и существования социальных форм. Она выделяет трехчленные циклы как применительно к социальной структуре, так и к культуре: структура создает условия для взаимодействия действующих; это взаимодействие происходит согласно своим внутренним особенностям; в результате возникает новая или видоизменяется старая структура.
Такого рода исследования приводят теоретика к необходимости выстроить здание своих положений на более прочном основании. Новая книга М. Арчер посвящена фундаментальным вопросам социальной онтологии, а философской базой для нее служит современный английский реализм, в первую очередь, концепция Р. Бхаскара. Важнейший ее элемент (он присутствует и в данной статье) - различение транзитивных и нетранзитивных объектов, т. е., с одной стороны, моделей и понятий, а с другой - реальных «сущностей». Отечественный читатель уже имел возможность ознакомиться с работами реалистов. В первом выпуске альманаха «Социо-Логос» были напечатаны отрывки из работ Р. Бхаскара и У. Аутвейта4. К этому же направлению относит себя и М. Арчер.
4 Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Социо-Логос. М.: Прогресс, 1991. С. 141 -158; Аутвейт У. Действие, структура и философия реализма // Там же. С. 159-169; Бхаскар Р. Общества // Там же. С. 219-240.
Социальная теория должна быть полезной и применимой: сама по себе она не самоцель. Общество как досадный факт приходится постигать и в теории, и для практики. Нельзя отделять одну из этих задач от другой, ибо если бы практическая полезность была нашим единственным критерием, мы обрекли бы себя на инструментализм, двигаясь наощупь без какого-либо теоретического осмысления. И напротив, чисто теоретическое приручение досаждающей нам твари может лишь распалить ученого, глубоко убежденного в онтологической правильности своих суждений, но вряд ли согреет практиков социального анализа, которым нужны удобные, изготовленные в расчете на пользователя инструменты. Правда, вряд ли удастся придать им карманный формат и снабдить простым руководством, но потребитель имеет все основания выражать недовольство, получая взамен громоздкую махину без каких-либо инструкций о том, что же он сможет для себя прояснить при более или менее правильном ее применении.
Но, поскольку социальные теоретики робеют перед «эмерджентностью», у нас, действительно, не так-то много конкретных примеров того, как подходят к досадному факту общества, основываясь на его «эмерджентных» свойствах. Напротив, очень заметно отсутствие последовательных социальных теорий, которые бы безоговорочно признавали эмерджентность своим центральным принципом. Исключение составляет плодотворная, хотя и не увенчавшаяся полным успехом, попытка Д. Локвуда проторить дорогу в этом направлении [14]. Другим удавалось продвинуться еще немного дальше, но затем они теряли присутствие духа и спешили укрыться: одни - в стане индивидуализма, другие - холизма. Примером первого может служить У. Бакли, который вначале выдвинул концепцию морфогенетиче-ских/морфостатических процессов структурного развития, а затем лишил их онтологических оснований, истолковав эмерджентные свойства как эвристический инструмент. «Структура, - писал он, - это абстрактный конструкт, не что-то отличное от непрерывного процесса взаимодействия, но скорее временное удобное его отображение в какой-то один момент» [8].
Напротив, П. Блау [7] сначала кропотливо трудился над выведением свойств сложных социальных явлений из простейших форм обмена, а затем, по-видимому, увлекся рассмотрением обратного влияния этих сложных явлений на процесс обмена, в ущерб исследованиям их взаимодействия, и фактически оказался в плену холистского подхода. Трудно обнаружить полнокровную эмерджентистскую теорию: ведь никому еще не удавалось пройти между Сциллой индивидуализма и Харибдой холизма.
Именно из-за предостережений, что «редукционизм» и «реификация» - это дорожные указатели на пути в ад, вымощенном дурной концептуализацией, все больше теоретиков будут, несомненно, обнаруживать склонность к срединному сращению (конфляции) уровней структуры и деятельности. Такая позиция обещает онтологическую безопасность*, однако эта самоудовлетворенность носит слишком фарисейский характер. Они радуются, что их нельзя обвинить ни в атомизме, ни в неправедном предпочтении индивида или общества, ни в заигрывании с социальными фактами. Они гордятся своей теоретической воздержанностью, кормясь одним только аредукционизмом и малой долей синкретизма, взятого ради укрепления их позиций. Им выгодно сравнивать себя с теми из нас, кто открыто высказывает неудовлетворение нынешним бедственным положением теории (мы можем указать лишь на несколько ценных теоретических замыслов), и вместе с тем верит, что единственный выход из него - видеть ситуацию такой, какова она есть, пытаться исправить ее и надеяться, что наши усилия принесут свои плоды.
* Это явный намек на А. Гидденса, в концепции которого «ontological security» («онтологическая безопасность») занимает центральное место.
С этой точки зрения, представляют значительный интерес работы Р. Бхаскара, поскольку его онтологический реализм, эксплицитно опирающийся на эмерджентность, нацелен на разработку такой социальной теории, которая помогла бы вырулить между опасными крайностями индивидуализма и холизма. Реалистская метатеория «очевидным образом совместима с широким спектром теоретических подходов» [15, 366], а философский реализм Бхаскара выступает как общая платформа, на которой могут базироваться различные социальные теории (в число которых, однако, не входят никакие формы конфляционизма - все равно, ориентирован ли он сверху вниз или снизу вверх - поскольку их эпифеноменализм сводит к нулю слоистую природу социальной реальности). Однако бхаскарова трансформационная модель социального действия (ТМСД) может претендовать и на статус самостоятельной теории. Разумеется, она пока не завершена (философская проработка основ - еще полдела для нас, социологов), но именно эта незавершенность позволяет поставить вопрос, можно ли ее завершить или хотя бы дополнить морфогенетическим/ морфостатическим подходом (М/М).
Хотя ответ будет утвердительным, здесь требуются некоторые модификации и оговорки - в этом и состоит задача теоретика: нам приходится вскарабкиваться на плечи коллег. Более того, в некоторых решающих вопросах нужно внести полную ясность и добиться размежевания. В частности, нельзя отрицать, что многие комментаторы (а иногда, предупреждая их, и сам Бхаскар) отмечали сродство между ТМСД и теорией структурации Э. Гидденса, представляющей собой одну из версий срединного сращения. Поэтому прежде чем рассматривать совершенно правомерный вопрос о совместимости ТМСД с М/М-подходом (ибо обе эти конструкции базируются на реализме), следует показать, что модель Бхаскара содержит такие базовые допущения, которые делают невозможным отнести его к лагерю сторонников срединного сращения. В особенности это касается основополагающих для реализма и принципиально неприемлемых для срединного сращения положений о самой эмерджентно-сти. Безусловно в теоретических построениях Бхаскара был такой момент, когда призывные песни сирен, поющих о взаимном конституировании структуры и деятельности слышались весьма отчетливо. Есть даже пассажи, где Бхаскар заигрывает с сиренами конфляционизма, однако эмер-джентистские основания ТМСД всегда оказывались сильнее. Наш Одиссей ускользнул от опасностей, и он, наверное, вообще бы не медлил, если бы в тот момент его манили к себе какие-то иные социологические гавани. Кроме того, если бы не существовало некоторого сходства в позициях эмерджентистов и элизионистов, основанного на непризнании существа спора между холистами и индивидуалистами, никто бы не стал думать, что враги врагов должны быть друзьями.
Отсюда вытекает необходимость в уточнении исходных посылок всех трех упомянутых социальных теорий. (Бхаскара, Гидденса и моей), в равной мере не признающих продуктивность спора в терминах индивидуализма и холизма, чтобы установить, в чем заключаются позитивное сродство между ними.
Морфогенез, структурация и трансформационная модель социального действия
Прежде всего отметим, что по замыслу и по общим установкам ТМСД и М/М-подход действительно кажутся очень близкими. В книге «Возможность натурализма» Бхаскар дает набросок того, что можно назвать шестью пунктами Хартии, воплотившейся в его ТМСД.
(1) «Я утверждаю, что общество несводимо к индивидам и... даю общие контуры модели взаимосвязи между индивидами и обществом...
(2) ...что социальные формы составляют необходимое условие для всякого интенционального акта,
(3) ...что на пред существовании социальных форм основана их автономность как возможных объектов исследования...
(4) ...что их реальность основана на их причиняющей силе...
(5) Лредсуществование социальных форм будет рассматриваться как отправная точка для выведения трансформационной модели социального действия...
(6) ...причиняющая сила социальных форм опосредуется человеческой деятельностью». (Выделение и курсив мои - М.А)[4, 25-26].
Пункт (1), где говорится о модели, связывающей структуру и деятельность, очень созвучен с М/М-подходом, нацеленным скорее на рассмотрение взаимосвязи этих двух уровней, чем на выявление различий между ними. Тем не менее сходство это не имеет решающего характера. В конце концов, теория структурации* тоже не утверждает, что общество сводимо к индивидам.
* То есть концепция Э. Гидденса. Гидденсу же принадлежит и упоминаемое ниже понятие «дуальность (т. е. двойственность) структуры».
Она признает реальность структурных свойств, даже если их существование невозможно без непосредственного сиюминутного человеческого действия*, и именно для учета взаимосвязей между структурой и деятельностью разрабатывает концепцию «модальностей». Итак счет в поединке между аналитическим дуализмом и двойственностью структуры - 15 : 15. В пункте 2 идея структурации развивается несколько дальше, ибо структурные свойства оказываются настоящей средой социального действия. Однако М/М-теория, в свою очередь, с большой осторожностью относится к положению о том, что социальные формы составляют необходимые условия для любого интенционального акта, усматривая в нем слишком решительный разрыв с природой, и утверждает, что естественное взаимодействие может [само по себе] обеспечить необходимые и достаточные условия для целенаправ-ленности.<...> Счет в игре стал 30 : 15 в пользу структурации.
Пункт 3, говорящий о пред существовании и автономности социальных форм (и то, и другое носит принципиальный характер) склоняет чашу весов в другую сторону. Темпоральность - неотъемлемый компонент М/М-подхода, что закреплено в его первой аксиоме: «структура предшествует действию (или действиям), которое (которые) ее трансформируют». Отсюда следует, что в любом социологическом исследовании есть начальная фаза, где «постулируется, что некоторые свойства социальной структуры и культуры являются стратегически важными и длящимися во времени и что они задают те пределы, внутри которых могут иметь место конкретные социальные ситуации. Основываясь на этой посылке, деятельностный подход может помочь в изучении природы этих ситуаций, а также того, как они воздействуют на поведение. Он не объясняет социальную структуру и культуру как таковые, если только не считать изучения процесса в развитии, когда следует начинать с некоторого предшествующего момента, в который элементы структуры и культуры берутся как данность» [9, 93]. Итак, автономность имеет временной (и временный) характер. Это означает, что подразумеваемые здесь структурные свойства не являются изобретением ныне действующих деятелей, но их нельзя и онтологически свести к «материально-сущему» (необработанным ресурсам) и поставить в зависимость от совершаемых действий непосредственного человеческого осуществления (направляемого правилами) и их прямых последствий.
* Арчер использует понятие «instantiation», что должно подчеркивать моментальный характер происходящего.
Именно эти последние производят «зримый образец» - те хорошо известные, поддающиеся обнаружению регулярности человеческого взаимодействия, которые никогда не были предметом «социальной гидравлики» в М/М подходе. Это уже очень сильно отличается от утверждения Гидденса о том, «что социальные системы существуют только благодаря непрерывному их структурированию в течение времени» [11, 217]. Лредсуществование и автономность означают прерывания в процессе структурирования/реструктурирования, который можно понять только путем аналитического различения между «до» (фаза 1), «во время» (фаза 2) и «после» (фаза 3), что отнюдь не должно отрицать непрерывности человеческой деятельности, необходимой для длительного существования всего социального.
Бхаскар также бескомпромиссно высказывается в пользу необходимости изучения фазы «до», когда пишет, что «общество существует до индивида» [8, 77]. Мы ходим в церковь, в общении мы используем язык; эти верования и язык уже существовали в момент нашего рождения. Таким образом, «люди не создают общество, ибо оно всегда существовало до них... Социальная структура всегда уже готова». Бхаскар сам отмечал, что, по сравнению с Гидден-сом, «склонен придавать структурам, имеющим трансфактическую действенность*, более сильное онтологическое обоснование и акцентировать яредсуществование социальных форм» [6, 85]. Поскольку «отношения, в которые вступают люди, существуют до вступающих в отношения людей, чья деятельность воспроизводит и трансформирует отношения, то сами эти отношения суть структуры» [5, 4]. Они являются структурами в силу своих эмерджентных свойств, которые несводимы к действиям современников, а ведут свое происхождение от прошлых действий, породивших их и, таким образом, создавших контекст нынешней деятельности. Счет снова становится ничейным - 30 : 30.
* То есть не просто обнаруживающим свое воздействие на социальную жизнь в данный конкретный момент, но заставляющим признать свое более продолжительное и независимое существование.
Но если это так, то для Бхаскара отсюда следует, что теоретическая модель, которую я называю срединным сращением, «должна быть кардинально скорректирована» [5, 76], а остальные варианты конфляционизма отвергнуты. Критика всех трех моделей конфляционизма (сращение снизу вверх, сверху вниз и в центре) у Бхаскара идентична: «в первой модели есть действие, но нет условий; во второй - есть условия, но нет действия; третья модель не делает различий между ними» [5, 77]. Это различение необходимо не только из-за гаредсуществования и автономности социальных форм, но и потому, что реляционные свойства обладают причиняющей силой (см. пункт 4), хотя их причинность отличается от причинности в природе (о чем см. ниже, ибо именно здесь-то М/М-подход может кое-что добавить). Если предшествующие эмерджентные свойства действительно обусловливают последующую интеракцию, им нельзя отказывать в реальности и сводить их, как это делает Гидденс, «к следам в памяти», тем самым скатываясь к свойственной индивидуализму стратегии «персонализации» и являя собой один из примеров отчаянной попытки втиснуть неуловимое социальное в якобы более осязаемые рамки индивидуального. Как ядовито заметил Э. Геллнер [10, 262], раз выпуклость внутри Альджи, то и Альджи выпукл, и выпуклость - это Альджи*.
* По-английски - непереводимая игра слов: «The bulge is inside Algy, Algy is buldgy and the buldge is Algy».
Как неудобно получается: раз теперь оба элемента взаимно конституированы, то и речи не может идти о том, чтобы рассмотреть их взаимодействие и выявить их независимые причиняющие силы. Условия и действия нужно рассматривать порознь, чтобы можно было говорить об обусловленном действии. <...> Теперь морфогенез выходит вперед со счетом 40:30.
Делая это временное различение, Бхаскар использует образ скульптора, который извлекает форму из существующих уже материалов с помощью имеющихся в распоряжении иструментов. Подходя с точки зрения М/М, следовало бы просто добавить, что некоторые материалы менее податливы, чем другие, что для работы с ними существуют специальные инструменты, и что социологи должны учитывать эту разницу. Иными словами, приступая к изучению какого-либо социального процесса, необходимо прежде всего четко различать, чем является этот процесс по преимуществу: трансформацией или воспроизводством.
Морфогенез и морфостазис в действительности очень близки к понятиям трансформации и воспроизводства: все четыре термина обозначают процессы, во время которых нечто, что существовало «до», обретает свое «после». Поэтому о социальной структуре «больше уже нельзя говорить, что ее создают люди как агенты. Скорее мы должны сказать, что они воспроизводят или трансформируют ее. Иными словами, если общество уже сотворено, то любая конкретная человеческая практика... может только трансформировать его; вся целокупность действий людей может либо поддерживать существующее общество, либо изменять его» [4, 33-34]. Снова Бхаскара тянет в компанию к Гидденсу, ибо тот тоже не позволяет себе выходить за рамки настоящего времени. Как говорит Бхаскар, «именно потому, что (в перспективе преднамеренной человеческой деятельности) социальная структура всегда дана, я предпочитаю говорить не о структурации, как Гидденс, а о воспроизводстве и трансформации (хотя и признаю, что эти понятия очень близки). По-моему, термин «структурация» отдает волюнтаризмом. Социальная практика - это всегда, так сказать, реструктурирование» [6, 85]. В моей терминологии, морфогенез - это всегда трансформация морфоста-зиса. Таким образом пункт 5 модели Бхаскара, а именно, что «гаредсуществование социальных форм будет рассматриваться как отправная точка для выведения трансформационной модели социального действия» оказывается ключевым для всей игры. ТМСД содержит фазы: «до» (предсуще-ствование социальных форм), «во время» (сам процесс трансформации) и «после» (трансформированное, так как социальные структуры имют только относительно продолжительное существование). То же самое относится и к морфогенезу, происходит взаимозацепление, ибо и ТМСД должна рассматривать свою последнюю фазу как начало нового цикла. Как отмечает Бхаскар, «эмерджентное возникновение предполагает реконструкцию того, как исторические процессы формируются из «более простых» составляющих» [5, 80]. Логическим образом отсюда вытекает, что мы можем также теоретизировать относительно совершающегося ныне эмерджентного возникновения более сложных вещей, если, конечно, мы рассматриваем это возникновение как нечто протяженное во времени, четко различаем предшествующее и следующее в этой последовательности, но, прежде всего, сохраняем демаркационную линию между /гредсуществующими условиями и актуальными действиями.
Ядовитое жало находится здесь в хвосте, в самой последней фразе. М/М-подход настаивает на необходимости поддерживать аналитическое различение структуры и деятельности, чтобы трансформационная модель могла доказать свою работоспособность, т. е. выполнять ту работу, в которой нуждаются практики социального анализа. Все же морфогенез еще не выиграл ни гейма, ни сета; здесь скорее речь идет о долгом скучнейшем матче, так как Бхаскар не решается сделать окончательный выбор в пользу аналитического дуализма, от которого зависит, заработает ли ТМСД. Ввиду досадной уникальности социальных объектов многое в подходах к ним Гидденса оказывается исключительно соблазнительным. Заманчив путь срединного сращения, но это уже сигнализирует о начале следующего гейма.
Сирены призывают не делать разделений
Характерная особенность социального состоит в зависимости от деятельности. Без человеческой деятельности ничто в обществе не может возникнуть, постоянно существовать и изменяться. В этом мы все можем согласиться: в отличие от природной, социальная реальность несамодостаточна. В этом ее онтологическая причудливость, вот почему она представляет собой досадный факт. Задача упростится, если мы попытаемся последовательно ответить на вопрос, чья именно деятельность за что и когда ответственна? Нам кажется, что путаница в ответах на эти вопросы происходит из-за слишком резкого и совершенно ненужного логического перехода от банального положения «нет людей - нет общества» к в высшей степени сомнительному утверждению «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди». Этот переход очень хочется сделать, когда мы в самом общем виде мысленно охватываем историческую панораму «социетального»*.
* Т. е. относящегося ко всему обществу (от англ, «society» - общество»).
Ведь непонятно, как может общество переходить от одной эпохи к другой без постоянно поддерживающей его деятельности сменяющих друг друга поколений действующих, и как можно вычленить совершающееся в данную конкретную эпоху из контекста мириадов смыслов и практик, без переплетения которых нет социальной ткани? Между тем, само это желание во многом диктуется впечатляющим образом «цельнотканого полотна», бесконечного рулона, развертывающегося во времени. В этой ткани нет ни прорех, ни разрезов, в любой момент обозреть ее можно только целиком, просто потому что в ней нет отдельных кусков. Каждый кусок вплетается в единое целое своим собственным, постоянно меняющимся узором и при этом - не отделим от уже готовой материи.
Впечатляющие образы редко отступают под напором контраргументов. Рациональные доводы не лечат слепоту, поэтому нам придется прибегнуть к гомеопатии и попытаться сконструировать свой собственный образ теми же средствами. Представим общество как платье, которое передавалось по наследству внутри большой человеческой семьи и сохранило на себе следы пережитого. Все в заплатах, оно местами то застрачивалось, то распарывалось для различных надобностей, многократно перелицовывалось, так что сегодня в этом платье осталось совсем немного материи, из которой оно было первоначально сшито. Совершенно изменился и покрой. От старины осталось кое-что, вроде бабушкиных кружев на подвенечном наряде у внучки. Зачем нам этот образ платья? Затем, что в нем есть швы, а значит, и возможность изучать отдельные части, спрашивать себя, когда и какие делались изменения, кем они делались и как к ним относились наследники. Именно так я намерена трактовать социальные структуры, отношения между ними и человеческой деятельностью. Гидденс зачарован образом полотна, да и Бхаскар все-таки остается под его впечатлением. Ошибочность заключена в теоретических следствиях.
Для начала мы подтвердим очевидное: нет людей - нет общества. Более того, и Гидденс, и Бхаскар, и я, пожалуй, согласимся с тем, что «между обществом и людьми пролегает онтологическая пропасть» [4, 37], ибо свойства общества могут существенно отличаться от свойств людей, причем первые зависят от деятельности последних. Можно было бы согласиться даже с утверждением Бхаскара о том, что «люди и общество... не состоят в диалектической взаимосвязи. Они конституируют не два момента одного процесса, но, скорее, означают нечто радикально отличное друг от друга» [5, 76]. Однако именно отсюда Гидденс перескакивает к утверждению: «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди». Структурные свойства общества обретают реальность (в противоположность виртуальному материальному существованию) только тогда, когда они непосредственно осуществляются действующими. Их непосредственное осуществление, таким образом, ставится в зависимость от теперешней деятельности, которая, в свою очередь, обусловлена возможностью для действующих в данное время агентов познавать, что они делают. Бхаскар испытывает искушение сделать тот же самый скачок, что и Гидденс, и по той же самой причине, а именно по причине несамодостаточности общества как социальной реальности. Подробно рассматривая эту проблему, он формулирует тезисы об отличительных особенностях самодостаточной реальности. Будь эти положения правильными, Бхаскар оказался бы в стане конфляционистов. Первые два тезиса, которые утверждают, что социальные структуры зависят от деятельности и от того, как действующие ее понимают, очень близки к положению Гидденса о том, что общество конституируется в деятельности, осознаваемой действующими, на что уже указывал Аутвейт [11, 70]. Я хочу показать, что оба эти тезиса не верны, что это признает сам Бхаскар и что его третье положение (эффект существования социальных структур проявляется только через человеческую деятельность) фактически означает отказ делать указанный выше необоснованный переход.
Первый тезис Бхаскара заключается в том, что социальные структуры «в отличие от природных механизмов... существуют только благодаря деятельности, которой они управляют, и не могут быть охарактеризованы независимо от нее» [5, 78]. Бентон убедительно показал, что, если ключевым словом считать слово «управляют», то с этой теоремой никак нельзя согласиться [3, 17]. По собственному утверждению Бхаскара, власть, например, может существовать безотносительно к ее применению, таким образом, в отдельно взятый момент времени она может ничем не править. Однако Бентон оставляет лазейку для зависимости °т деятельности и признает ее необходимость для сохранения потенциала управления. Например, государство может не использовать свою способность к принуждению в полной мере, однако такие действия, как повышение налогов и Увеличение армии могут быть совершенно необходимы для поддержания властного потенциала. Бхаскар принимает этот довод и спешит им воспользоваться. Он пишет, что «структура власти может воспроизводиться без применения власти, а власть может применяться в отсутствие какого бы то ни было наблюдаемого конфликта... находя поддержку в человеческой практике, которая ее воспроизводит или потенциально трансформирует. Понимаемый таким образом тезис о зависимости социальной структуры от деятельности должен быть принят. Социальные структуры существуют материально, но переносятся из одного пространственно-временного местоположения в другое только благодаря человеческой практике» [4, 174]. То же самое мог бы сказать Гидденс, и надо честно признать, что это положение работает в отношении некоторых аспектов социальной структуры. Но главное состоит в том, что оно неприменимо к социальной структуре в целом. Возьмем для примера демографическую структуру. На первый взгляд может показаться, что она полностью зависит от деятельности - она все время структурируется так, какова она есть, если люди в буквальном смысле слова занимаются воспроизводством вообще, а не воспроизводством какого-то образца. Предположим, однако, что все действия будут направлены на ее преобразование: структура (неустойчивая, а тем более устойчивая) полностью не исчезнет в течение нескольких поколений. Кто будет ее поддерживать все это время? Те кто конституирует ее простым фактом своего существования? Да. Но при таком понимании все сводится к банальному «нет людей - нет демографии»; структура сохраняется в том или ином виде не благодаря их намерениям, не как непреднамеренное следствие их действий, т. е. не благодаря интециональности нынешних действующих - поскольку мы предположили, что все они стремятся ее преобразовать. Таким образом, тезис о зависимости структур от деятельности можно принять только в том случае, если иметь в виду зависимость от деятельности давно умерших. Актуальная демографическая структура ничем не обязана живущим в данный момент людям, кроме как в совершенно банальном смысле. Мы здесь имеем дело с относительно устойчивым эмерджентным свойством (чтобы демографическая структура стала неустойчивой, необходимы пропорциональные отношения между возрастными когортами), которое на протяжении определенного времени обнаруживает сопротивление всяким действиям, направленным на его изменение.
Можно ли считать наш пример каким-то исключением? Вовсе нет, ибо существуют по меньшей мере три класса структурных свойств того же рода. Во-первых, отметим, что это утверждение применимо к структурам распределения самых разных уровней и признаков (например, распределение капитала), хотя и не ко всем (например, цвет глаз). Во-вторых, и это существенно, если говорить об эмерджент-ных свойствах взаимодействия человека с природой (парниковый эффект, исчезновение целых биологических видов, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и разрушение озонового слоя), от которых зависит будущая деятельность всего человечества, то складывается впечатление, что все большее число таких свойств уже сегодня становится необратимыми, а воспроизводство некоторых из них оказывается просто ненужным из-за того, что предыдущая деятельность людей сделала эти свойства неотъемлемыми и неискоренимыми чертами современной жизни. Не нужно быть ярым сторонником партий «зеленых» или «красных», чтобы понять, что последствия наших недружественных отношений к природе падут на головы последующих поколений. Что-то из этих следствий они попытаются не воспроизводить, но другие изменить будут просто не в состоянии. Вместо этого они будут страдать, если придется, и избегать, если смогут,- но оба рода деятельности ограничены свойствами и обстоятельствами, которые не этими поколениями сотворены.
Может показаться, что наши примеры взяты из области, которую Гидденс безоговорочно наделяет статусом «материально сущего», так что свойства, не зависимые от актуальной деятельности, следует относить к разряду физических законов, запущенных в ход деятельностью предыдущих поколений. В ответ мы можем указать на другую сферу с интересующими нас свойствами, к которой это возражение неприменимо.
Обратимся к культуре. Ясно, что появление и накопление человеческого знания было непосредственно связано с Деятельностью. Тем не менее, будучи однажды записано (вырезано рунами или покрываясь пылью в Британском музее), оно остается знанием без непосредственно знающего субъекта. Это Знание с большой буквы, поскольку оно сохраняет диспозиционный характер* быть понятым. Даже будучи никому неизвестным, оно потенциально сохраняет силу** (в противоречивости и дополнительности по отношению к другим элементам культуры), которая сохраняется, и не будучи применяема. Онтологически оно существует; и, если заключенная в нем теория истинна, если описываемый им метод применим на практике, или содержащееся в нем утверждение можно проверить, то оно остается знанием, совершенно независимо от того, знают ли о нем, используют ли его, верят ли в его истинность актуальные деятели. О реальности знания мы можем судить по возможным последствиям от его применения. Старинное снадобье, обладающее лечебными свойствами, будет лечить и через сто лет, если его рецепт заново обнаружат и опробуют. В этом случае знание активируют, а не осуществляют (это совершенно разные вещи), ибо лечебное средство не становится реальным, истинным и полезным только потому, что кто-то стал его принимать. Значимость культурной системы, которая существует (т. е. в своем существовании не зависит от знания о ней), но решающим образом каузально соотнесена с социокультурным уровнем, который зависит от деятельности, будет подробно разъяснена в следующей главе. Эмерджентные культурные свойства вводятся здесь в качестве еще одной широкой категории социального, которая онтологически не зависит от деятельности людей здесь и теперь.
* Т. е. предрасположенность.
** Потенциальная власть государства сохраняется, даже если не применяется, потенциальная сила знания сохраняется, даже если не применяется. По-английски это передается в оригинале одним и тем же выражением: «potential power(s) ...unexercised».
Итак, рассматривая эмерджентные свойства, мы показали, что проблема их зависимости от деятельности в настоящем или прошедшем времени - это проблема эмпирическая. Каждый момент осуществления в деятельности подтверждает полную необоснованнось резкого перехода К утверждению: «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди».
Второй тезис Бхаскара об особенностях социальных структур отрицает их существование, независимое от того, «как действующие понимают то, что они делают» [5, 78]. Бхаскар опять оказывается очень близок к Гидденсу, который говорит о сознательной социальной деятельности и о том, что все происходящее в обществе доступно для понимания и зависит от умелых действий людей, oh-от тезис допускает тройную интерпретацию. Во-первых, можно понять, что социальные структуры существуют только потому, что действующие имеют некоторое понятие о том, что они делают. Как верно замечает Бентон, при таком понимании тезис не содержит ничего нового, ибо «трудно себе представить, как вообще можно говорить о действующем, не прибегая к понятию осознаваемой деятельности, а поскольку действующие индивиды составляют необходимое условие существования социальной структуры (что едва ли можно оспорить), то тезис можно считать доказанным» [3, 17]. Все верно, но здесь мы вновь оказываемся перед банальным «нет людей - нет и общества». Во-вторых, можно понять, что существование социальных структур зависит от специфической трактовки действующими своих взаимоотношений. Однако наряду с немногими специфическими отношениями дружбы, верности, измены, существует множество других структурных отношений, основанных на принуждении, законе, запрете, идеологическом манипулировании и санкционированных процедурах, которые, регулируя те или иные реляционные свойства, тщательно нивелируют или маскируют различия (и конфликтную природу) их трактовок. С этим Бхаскар соглашается и делает это вынужденно, если конечно он всерьез хочет вести войну против эмпирического реализма, признающего только опыт. В-третьих, он признает, «что генерирующая роль умений и желаний акторов, их верований и смыслов должна быть признана; при этом не следует впадать в интерпретационный фундаментализм, наделяя их статусом дискурсив-ности и/или некорректируемости» [8, 98]. Само по себе это утверждение не разводит Бхаскара и Гидденса (допускающего различные степени «дискурсивного проникновения» и корректируемого знания) и мало что прибавляет к убеждению Бхаскара в том, что специфические воззрения действующих могут систематически искажаться идеологией. Поскольку понимание со стороны действующих действительно может быть ложным inter alia* из-за идеологических искажений, Бхаскар, чтобы не противоречить себе, вынужден Далее признать, что «условия феноменов (т. е. концептуализируемой в пределах опыта социальной деятельности) существуют нетранзитивно и, следовательно, могут быть независимыми от адекватности их концептуализации» [5, 51].
* Среди прочего (лат.).
Введение «нетранзитивно существующих условий» знаменует разрыв с Гидденсом, ибо происходящее совершается теперь у нас за спиной. Как пишет Бхаскар, «действующие могут осознавать, а могут и не осознавать те отношения, в которые они вовлечены» [4, 26]. Таким образом, если «какого-то рода объяснение оказывается успешным в отношении идентификации реальны*, но до сих пор непознанных условий и образцов детерминации, оно тут же увеличивает наше знание» [5, 91], а вместе с ним - и нашу свободу. Все это нарушает entente cordiale* с «весьма способным к познанию» агентом Гидденса, однако не порывает полностью с тезисом о зависимости социальных структур от концептуализации действующими своей деятельности.
* Сердечное согласие (франц.).
Но остается еще одна возможность интерпретации. Бхаскар допускает существование структур, независимое от их адекватного понимания, но он мог бы, продолжая эту мысль, сказать, что существование структур зависит от их неадекватного понимания. Последнее утверждение может характеризовать каузальные отношения между ложными концептами агентов и устойчивостью социальных структур, разумеется, предполагая, что изменения одних повлекут за собой изменения других. Подобные примеры найти нетрудно (подъем и закат торговли мехами, рост влияния идеологий и их разоблачение), однако придать этому тезису универсальный характер (уже не говоря о том, что здесь явственно слышатся отзвуки теории заговора) значило бы пустить побоку все проблемы функциональной необходимости каждого из неадекватных понятий и фундаментального априорного сопряжения между понятиями и реальностью. Поскольку у нас нет оснований принимать это за априорную истину, проблема разрешима только в эмпирическом исследовании. Мы можем привести очевидные факты, когда масштабные концептуальные сдвиги (феминизм) не сопровождаются кардинальными изменениями существующих структур. Все это, в свою очередь, свидетельствует лишь о необходимости теоретически осмыслять конкретные структуры и эмпирически исследовать, чьи концептуальные сдвиги приводят к каким структурным изменениям, когда, где и при каких условиях.
Короче говоря, ни в одном из аргументов о зависимости социальных структур от представлений действующих о них не находит оправдания вывод: «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди, и у них есть представление о своей деятельности». Напротив, многие социальные структуры демонстрируют гибкость и устойчивость перед лицом глубоких концептуальных разногласий между действующими по поводу их действий и концептуальных сдвигов в оценках этих структур. Мы снова вернулись к тому, что тезис о зависимости социальных структур от понятий и представлений можно принять только в одном-единствен-ном смысле: имея в виду концепты (идеи, убеждения, намерения, взаимные соглашения и уступки, а также непреднамеренные последствия деятельности) давно ушедших поколений. Именно эти представления продолжают играть важную роль в современных структурах, несмотря на энергичные усилия действующих изменить их (например, расизм и сексизм).
Третий тезис Бхаскара об особой онтологии общества гласит, что социальные структуры присутствуют только в своих воздействиях и посредством их, т. е. в деятельности и посредством деятельности людей. Здесь снова виден дрейф в сторону позиции Гидденса, и ТМСД рискует сесть на мель модели одновременности*, выработать которую, как правильно замечает Д. Лейдер, стремится теория структурации. Ибо как еще «могут объективные структуры извне детерминировать взаимодействие и одновременно быть порожденным внутри этого взаимодействия результатом? Именно это и пытается нам доказать модель одновременности» [13, 73]. Бентон тоже спешит указать на этот промах, ибо здесь само существование эмерджентных свойств оказывается под вопросом. Они попросту могут исчезнуть, растворившись в «других людях» типичным для индивидуалистского подхода образом. Он совершенно справедливо настаивает на том, что единственная защита против этого - разграничивать структурные условия и человеческую деятельность, т. е. строго следовать аналитическому дуализму и не соглашаться с тезисом о двойственности структуры.
* Т. е. одновременного взаимного конституирования.
Таким образом, для обеспечения существования эмерджент-ных свойств, «необходимо делать разграничение между деятельностью, которую действующие производят в силу своих внутренне присущих им способностей, и деятельностью, способность исполнять которую исходит от социальных структур и лишь реализуется посредством человеческих действий». Трудность, однако, состоит в том, что, «если некий индивид «А» является агентом деятельности «а», то «А» должен обладать способностью выполнить «а». Но если так, то в лучшем случае мы можем различать способности, которыми агенты обладают в силу своей внутренней природы, и способности, которыми они обладают в силу своих реляционных свойств». Все это, разумеется, возможно лишь в тех пределах, которые допускает теория структу-рации, и с учетом недоверия Гидденса к эмерджентности. Согласно Бентону, это означает приговор всей программе ТМСД. Бхаскар «в своей трактовке социальных структур в конечном счете, лишает их независимого статуса причиняющих сил, а следовательно, статуса реальностей sui generis. Бхаскар, похоже, привержен одному из вариантов индивидуализма в социальной теории» [3, 17]. Бентон готов допустить ошибочность своего вывода, и ему самому бы было интересно найти, в чем здесь ошибка.
Бхаскар парирует возражения, однако нам еще придется немного потрудиться, поскольку кое-чего в его ответе не хватает. Мало сказать (чтобы избежать реификации), что наличие социальных структур проявляется только в деятельности и посредством деятельности людей, ибо с этим согласятся все индивидуалисты-дескриптивисты. Тем не менее, влияние эмерджентных свойств не сводится к влиянию «других людей», и в этом тоже нет реификации. Однако Бхаскар, скорее всего, не желая впадать в «персонализа-торство» индивидуалистов, прямо заявляет, что, говоря о структурах, он переносит акцент с людей на отношения (включая отношения к позициям, природе и социальным продуктам, таким как машины и фирмы). Здесь еще рано делать окончательный вывод, ибо, например, Дж. Уоткинс выразил полную готовность включить «убеждения, ресурсы и взаимодействия индивидов» в свою «хартию Методологического Индивидуализма», для которого «конечными кон-ституентами социального мира являются индивиды» [14, 270-271]. Только под конец Бхаскару удается отразить удар. «От индивидуализма, - пишет он,- остается тривиальная истина, что ничто не происходит в обществе помимо того, что человеческие существа делают или уже сделали» [4, 174] (курсив мой - М. А).
«Или уже сделали». Это сказано без ударения, а должно зазвучать в полную силу. Если главным считать то, что «люди нечто делают», то придется согласиться с утверждением «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди» и невозможно будет избежать редукционизма, так же как и опровергнуть вывод Бентона. Добавляя «или уже сделали», мы допускаем прошлые действия и снимаем все претензии. Здесь можно вспомнить о гениальной интуиции О. Конта: большинство действующих - это мертвые. Он прав, поскольку значима эмерджентность. Теперь можно говорить об эмерджентных свойствах и результатах (результатах результатов) прошлых действий, которые существовали до действующих в настоящем времени людей и все же обусловливают их действия, открывая возможности для одних и ограничивая другие. Открывающиеся возможности и налагаемые ограничения не зависят от совершаемой деятельности и оказывают свое влияние безотносительно к тому, как они ныне концептуализируются (т. е. верна ли она, ложна ли, или вообще не имеет места). Здесь нет угрозы реификации. Тезис о том, что влияние социальных структур может проявляться только посредством деятельности людей, утверждается в единственно приемлемой трактовке, а именно, что социальные структуры суть результаты, пережившие прошлые действия людей, которых зачастую уже давно нет в живых (именно так, убежав от времени, социальные структуры становятся sui generis). Только так сохраняется их воздействие как автономных носителей причиняющих сил на деятельность последующих действующих. И именно то, как социальным структурам удается сохранять свое воздействие, пытается теоретически осмыслить М/М-подход. Следование аналитическому дуализму структур и деятельности (разграничение предзадан-ных условий и актуальной деятельности) не просто оказывается желательным, но становится неотъемлемой частью программы ТМСД.
Если бы пение сирен конфляционизма, зовущих к срединному сращению, оставалось притягательным, вывод Бентона был бы неотразим. Но к концу опасного перехода сиренам было оказано решительное сопротивление. Открылось громадное различие между утверждением Гидденса, что «структура не может существовать независимо от осознания агентами своей повседневной деятельности» [2, 26] и положением Бхаскара, что «наделение объектов знания нетранзитивностью приводит к тому, что эти объекты начинают существовать и действовать независимо от того, знают о них или нет» [4,14], и что социальные структуры являются такими нетранзитивными объектами. Приведем еще одно высказывание Бхаскара (под которым не подписался бы ни один сторонник срединного сращения), а именно, что «общество можно понимать как ансамбль подвижно сочлененных относительно независимых и устойчивых во времени структур» [4, 78] (курсив мой - М.А.). Теперь мы можем перейти к рассмотрению взаимодействия между этими структурами и действующими индивидами. Конфля-ционисты отрицают возможность предлагаемого нами способа рассмотрения, ибо настаивают на взаимном конститу-ировании агентов и структур.
Взаимодействие между структурой и деятельностью: возможность их разделения.
В предыдущем разделе довольно легко удалось показать, что влияние конфляционистской модели (срединного сращения) наТМСД постепенно ослабевает, аТМСД, обращаясь к концепции эмерджентности, занимает последний рубеж обороны, дабы нанести решительный ответный удар. Этот результат неизбежен. Ведь если Бхаскар будет стойко держаться своего же собственного понимания онтологической роли эмерджентных свойств, то ему, в отличие от теории структурации, совершенно не нужна «двойственность структуры». Представляется логически неизбежным вывод о том, что, если унаследованные социальными структурами от прошлого «силы», «тенденции», «трансфактичность» и «порождающие механизмы» могут существовать невостребованными (или нераспознанными) в открытых системах (например, в обществе), то должно быть разделение между этими структурами и каждодневным феноменологическим опытом действующих. Это Бхаскар с особой силой подтверждает своим неприятием эмпирического реализма и его приверженности опыту. Структура и деятельность часто или обычно «не синхронны», а, следовательно, аналитический дуализм становится логически необходимым, когда Бхаскар отталкивается от общих положений реализма и развивает свою ТМСД как вклад в социальную теорию. Из-за несинхронности эмерджентных свойств структур и актуального опыта действующих (в силу самой природы общества как открытой системы) нужно всегда иметь в виду два момента. С одной стороны, выявляются свойства («силы»* и т. п.) социальной структуры per se, с другой,- концептуализируется опыт, т. е. то, что доступно действующим в любое данное время в своей незавершенности и искаженности, что изобилует слепыми пятнами неведения. Таким образом, это будут не два тождественных подхода, но два описания, сделанные с двух разных точек зрения: одно будет включать элементы, отсутствующие в другом, и наоборот.
* В оригинале здесь стоит powers, т. е., собственно, способность вызвать некоторый эффект. Ниже применительно к действующим это переводится как способности.
Итак, Бхаскар пишет, что «хочет четко разграничивать, с одной стороны, человеческое действие, берущее начало в соображениях и планах людей, и, с другой, - структуры, управляющие воспроизводством и трансформацией социальной деятельности и, таким образом, разделить сферы психологической и социальной наук» [5, 79-80]. Необходимость в таком разграничении и, как следствие из него, в двойной перспективе видения совершенно не признается конфляционизмом. К сожалению, читать Бхаскара надо осторожно: его способ выражать мысли местами очень сильно напоминает теорию структурации.
Примером может служить следующее выражение: «Общество есть постоянно наличествующее условие и непрерывно воспроизводимый результат человеческой деятельности. В этом заключается двойственность структуры. Человеческая же деятельность есть одновременно и труд (с точки зрения родовой), т. е. (нормальным образом, сознательное) производство, и (нормальным образом, неосознаваемое) воспроизводство условий производства, включая общество. В этом состоит двойственность практики» [5, 92]. Несмотря на то, что первое предложение сформулировано совершенно в духе теории структурации, в дальнейшем мы видим, что Бхаскар вкладывает в него совершенно отличный от «одновременности» смысл, ибо его «условия» следует понимать как «предварительные условия», а «результат» - как «нечто, следующее за действиями». (Это разделение полностью соответствует двум базовым теоремам М/М-подхода.) Гид-денс же говорит об одной единственной вещи: структурные свойства (чтобы быть действенными) требуют «непосредственного осуществления» наличными действующими, а «результат» - неотъемлемая часть единого одновременного процесса. В этом заключается его монизм. Бхаскар, напротив, в приведенной цитате подчеркивает необходимость двойной перспективы, одна из которых имеет дело с «двойственностью структуры» (так как учитывается временной лаг и не признается совмещение в настоящем), а другая - с «двойственностью практики» (где «производство» и «воспроизводство» опять-таки разнесены во времени и могут вовлекать в себя совершенно разных агентов). Раздельное рассмотрение «структуры» и «практики» решительно разводит ТМСД и теорию структурации. В последней эти два уровня могут быть выделены только посредством операции искусственного заключения в скобки, которая, как мы уже видели, снова возвращает структурацию к одновременности, ибо эпохе заключает нас в рамки одной и той же эпохи и не позволяет объяснять взаимодействия между структурой и деятельностью во времени*. «Двойная перспектива» приводит Бхаскара к аналитическому дуализму, к необходимости изучать взаимодействие между структурой и практикой (третья перспектива), объяснению чего путь надежно заблокирован в теории структурации.
* Арчер обыгрывает здесь несколько ходячих понятий феноменологической философии (и социологии), наложившей отпечаток и на теорию структурации. «Заключение в скобки», равно как и «эпохе» - это характеристики, связанные с методом феноменологической редукции, в частности, воздержания от высказываний о существовании.
Фактически достаточно немного поразмыслить, чтобы понять, что реализм сам основывается на аналитическом дуализме. При переходе из сферы абстрактной онтологии во владения практического социального теоретизирования это становится очевидным. На уровне структурного обусловливания необходимы обе перспективы, поскольку в любой временной точке «системная» интеграция (по Локвуду) может не совпадать с интеграцией «социальной», и для объяснения результата на уровне действия потребуется учет их взаимодействия. Допущение двух перспектив (в отличие от срединного сращения) предполагает необходимость третьей, которая сочленяла бы две первые. Именно это резко отличает аналитический дуализм от любой из трех версий сращения, общий недостаток которых в их одномерности: будь то грубый эпифеноменологический редукционизм (концепции сращения сверху вниз или снизу вверх), или редукционизм более изощренный, но все-таки «заложенный» в версии срединного сращения, - ибо только искусственное заключение в скобки может разделить эти подходы, не в реальности, но исключительно для удобства анализа, что зависит от исследовательских интересов.
Поскольку Бхаскар уже различил в своей ТМСД необходимость сохранить утверждение «нет людей - нет социальных структур» (чтобы избегнуть реификации) и необходимость отвергнуть постулат «вот они структуры, потому что здесь и теперь - эти люди», то расширение временных рамок (для включения эмерджентных и совокупных следствий прошлых действий и прошлых агентов) фактически делает аналитический дуализм методологически необходимым для его ТМСД.
Человеческая деятельность, считает Бхаскар, «состоит в трансформации предзаданных материальных (природных и социальных) причин посредством целесообразной (интен-циональной) деятельности» [5, 92]. Хотя из этого высказывания можно понять, что социальные формы должны быть используемы (по Бхаскару, дабы задать рамки интенциям), в нем заложен и другой, совершенно чуждый конфляцио-низму смысл, а именно, что предзаданные свойства навязаны актуальным агентам и не могут быть подведены под волюнтаристские понятия типа «непосредственное сиюминутное человеческое действие». Эмерджентное возникновение в прошлом реляционных свойств обусловливает ситуации, в которых оказываются актуальные действующие, независимо от их воли и согласия. Эта реляционная концепция структур, эксплицитно включающая в себя прошлое, а равно и настоящее время, «позволяет сосредоточиться на распределении структурных условий действия, и в частности ...на дифференцированном размещении (а) всех видов производственных ресурсов (включая, например, когнитивные) среди индивидов (и групп) и (б) распределении индивидов (и групп) по функциям и ролям (например, в разделении труда). Такая трактовка позволяет локализовать появление различных (в том числе антагонистических) интересов и конфликтов внутри общества, а следовательно, возможность мотивируемой исходя из этих интересов трансформации в социальной структуре» [4, 41]. Здесь мы находим ясное утверждение того, что актуальные действующие не несут ответственности за создание той структуры распределения ролей и связанных с ними интересов, в которой им приходится жить. Не менее существенно и принципиальное признание того, что именно состоявшееся в прошлом структурирование ситуаций и интересов обусловливает настоящее таким образом, что деятельность одних акторов оказывается направленной на трансформацию социальных структур, а деятельность других - на их стабильное воспроизводство. Бесконечная сложность социального не представляет непреодолимых трудностей для теорий социального изменения. Воспроизводство берет начало в унаследованных интересах, а не в простой рутинизации. Трансформация не есть неопределенный потенциал всякого момента времени, она коренится в конкретных конфликтах между определенными группами, унаследовавшими конкретные позиции с конкретными интересами. Основания аналитического дуализма теперь заложены, но для завершения ТМСД как социальной теории, необходима еще «третья перспектива» - перспектива взаимодействия между социальными структурами и людьми как агентами. Бхаскар признает это, так как указывает на необходимость ввести опосредующие концепты для объяснения того, каким образом структура реально обусловливает деятельность (чью и где) и как на это обусловливание реагируют действующие, воспроизводя структуру или трансформируя ее (в моих терминах это звучало бы так: запуская процесс морфогенеза и морфостазиса). Переходя к описанию этих посредников, следует подчеркнуть ту огромную дистанцию, которая теперь отделяет их от «свободно парящих «модальностей» Гидденса(«интерпретативной схемы», «возможности» [или «нормы»], составляющих запас знаний, способностей и условностей,- все они универсально доступны, а не диффе-ренцированно распределены и конкретно локализованы). Бхаскар подчеркивает, что «мы нуждаемся в системе опо-средующих концептов, которые бы заключали в себе обе стороны практики и обозначали бы в социальной структуре, так сказать, «прорези» (как в автоматах, срабатывающих от монеты или жетона), в которые должны проскользнуть деятельные агенты для ее воспроизводства. Иначе говоря, речь идет о системе концептов, обозначающих «место контакта» между человеческой деятельностью и социальной структурой. Такие точки соприкосновения действия и структуры должны быть и устойчивы во времени, и непосредственно заняты индивидами [4, 40] [курсив мой - М. А]. Эти типы сцеплений вполне конкретны («прорези»), локализованы («точки соприкосновения») и дифференцирование распределены (не все могут «проскользнуть» в одну и ту же «прорезь»). Взятые как система отношений, они удовлетворяют требованиям временной продолжительности, эмерджентны и нередуцируемы, поскольку предполагают «интеракции» между занимающими их индивидами, но не сводятся к ним.
Эти уточнения позволяют говорить о совпадении понятийного аппарата Бхаскара и М/М-подхода, хотя концептуальные рамки первого могут оказаться несколько тесноватыми для второго. Обратимся к следующей цитате из Бхаскара: «ясно что необходимая нам опосредующая система понятий - это система позиций (мест, функций, правил, обязанностей, прав), занимаемых (в силу освободившихся вакансий, взятой или возложенной ответственности etc.) индивидами, и их практик (действий и т. д.), в которые индивиды вовлечены в силу занимаемых позиций (и наоборот). Я буду называть ее опосредующей системой «позиция-практика» [4, 41]. «Позиция», таким образом, оказывается двусмысленным понятием. Если оно означает «пассивный аспект роли», в соответствии с принятым терминологическим употреблением*, то такое понимание оказывается слишком узким для моих целей.
* Это различие введено Р. Линтоном и используется, например, Т- Парсонсом.
Занимая или будучи назначены на свои ролевые позиции, агенты действительно вступают в очень важную, но не единственную «сферу контакта» со структурой. Если «позиция» понимается и в обыденном смысле («положение», в котором они очутились), как сложившаяся в результате выбора (или благодаря счастливому стечению обстоятельств) ситуация (или контекст), не связанная прочно с какими-то особыми нормативными ожиданиями, а следовательно, не подпадающая под определение роли (например, положение «униженных», «верующих» или «сторонников теории X»), то совмещение будет полным. Последнее значение, похоже, также приемлемо для Бхаскара, что видно из приведенной выше цитаты. Например, обсуждая мир жизненного опыта, он поясняет, что этот «мир зависим от онтологического и социального контекстов, в которых протекает значимый опыт» [5, 97]. Хотя это утверждение не относится к числу принципиальных сходств между нашими концепциями, я привожу его потому, что в М/М-подходе я не задаюсь целью свести все проблемы, с которыми сталкиваются агенты в унаследованных от прошлого структурах, к ролям (и, таким образом, не ограничиваю морфогенетическии потенциал деятельностью в рамках ролевых требований, не свожу двигающие морфогенез интересы к ролевым интересам). При рассмотрении взаимодействия между двумя уровнями М/М-подход главное внимание уделяет тому, как структуры обусловливают действующих в их деятельности.
Подчеркну, наконец, одно из важнейших совпадений ТМСД с М/М-подходом. С точки зрения последнего, структурное обусловливание деятельности (принуждением и ограничением или созданием благоприятных условий) никогда не оказывает непосредственного «гидравлического давления». Именно поэтому предпочтительнее говорить о сочленяющих их «посредниках», чем о соединяющих их «механизмах», ибо в рассматриваемых процессах нет ничего механического (и ничего, что бы отрицало человеческую субъективность). То же самое можно сказать о ТМСД, ибо, по Бхаскару, интенциональность отличает деятельность от структуры. «Интенциональное человеческое поведение причинно, ...оно всегда причиняется соображениями... и только поэтому оно определяется как интенциональное» [5, 90]. М/М-подход отражает тоже самое убеждение, а потому фактически концептуализирует обусловливание действия структурой в понятиях последней, добавляя мотивирующие соображения для объяснения по-разному совершающихся (в силу различия позиций) действий.
Картина трансформации и морфогенеза
Мы говорили о «структуре» и «взаимодействии» как двух принципах объяснения и об «опосредующих процессах» как принципе объяснения, соединяющем два первых. Теперь взаимосвязи этих процессов необходимо наглядно изобразить так, чтобы вид этих связей отличался от обычных разнонаправленных стрелок, а наш рисунок не был бы похож на диаграммы теоретиков-конфляционистов. Основное отличие состоит, конечно, в том, что конфляциони-сты, хотя и могут приписать значимость течению времени, все-таки совершенно неспособны признать внутреннюю историчность процесса. Ведь время - это среда, куда более необходимая для совершения процессов, чем необходим воздух для дышащих существ. Но допущение эпифеномена-лизма или взаимного конституирования означает, что во всякое мгновение времени процесс можно обрисовать совершенно одним и тем же образом. Однако для неконфляцио-нистов все обстоит совершенно иначе, ибо для них сам по себе процесс протяжен во времени (и каждый момент его согласуется не с одной и той же вечной диаграммой, но с особой фазой на карте исторического потока). Как аналитически, так и практически различные фазы разведены между собою не просто как аспекты единого процесса, но и как части временного следования. Более того, так как считается, что структуры имеют лишь относительную длительность и трансформация/морфогенез характеризует лишь окончательную фазу процесса, то и модель тоже указывает на последовательные циклы его прохождения.
Таким образом, признается, что каждому циклу, привлекающему наше внимание, поскольку он представляет для нас содержательный интерес, предшествуют предыдущие циклы, а за ним идут последующие, будь то воспроизводящие или трансформирующие, морфостатические или мор-фогенетические. Действие обязательно непрерывно («нет людей - нет и общества»), но ведь структуры действуют в течение какого-то времени и потому прерывны (имеют лишь относительную длительность). Изменение структур означает, что последующая деятельность будет обусловлена и оформлена совершенно иначе (нынешнее общество является продуктом ныне живущих людей ничуть не более, чем будущее общество окажется продуктом деятельности наших наследников). От конкретной проблемы зависит то, как вычленяются особые аналитические циклы: результатом являются общие диаграммы, которые наполняет содержанием исследователь. Утверждения о значительном сходстве между трансформационной моделью и М/М-подходом будут в конце концов подкреплены решающим доводом в том и только в том случае, если графические отображения процессов в них будут совершенно отличаться от того, что предлагают теоретики-конфляционисты, а диаграммы окажутся очень похожими друг на друга. Как будет показано ниже, дело обстоит именно так, но для этого нам необходимо сделать некоторые замечания и уточнения, касающиеся эволюции в графических схемах Бхаскара.
В ранней работе «Возможность натурализма» (1979) [4] он предложил, так сказать предварительную модель связи между личностью и обществом. В многих отношениях она слишком фундаментальна. Во-первых, хотя в ней есть и «до», и «после», но нет подлинной историчности; несмотря на разрыв посередине, данная модель могла бы служить эвристическим инструментом описания каждого и любого момента времени, а не какой-либо одной конкретной фазы исторического процесса. Во-вторых, в некоторых отношениях эта модель «сверхперсонализирована», кажется, что структурные влияния идут исключительно через социализацию и сказываются непосредственно на (всех) индивидах. В-третьих, «прежде» и «после» не связаны взаимодействием и не опосредованы «отношениями производства». Короче говоря, перечисленное указывает на недооценку, соответственно, историчности, эмерджентного возникновения и опосредования.

Однако через десять лет Бхаскар переработал эту фундаментальную модель, причем за счет того, что ввел в нее те свойства, которые были опущены ранее. В работе * Но вое призвание реальности» (1989) он внес следующие принципиальные изменения (они отражены на диаграмме). Во-первых, в точках 1 и 2 эксплицитно представлено вначале эмерджентное возникновение, а затем влияние (в настоящем) структурных свойств, непреднамеренные последствия прошлых действий и непризнаваемые условия нынешней деятельности.
Во-вторых, было уточнено, что понимание действующими своего социального мира ограничено воздействием этих свойств, причем в точках 3 и 4 это усугубляется ограниченностью в их понимании самих себя, что, в свою очередь, обеспечивает необходимый процесс производства (который теперь включается в диаграмму) опосредованным продуктом агентов, далеко не в полной мере способных осознать, почему они находятся в таких именно отношениях и почему они в этих ситуациях делают именно то, что делают.
Наконец, в-третьих, ключевую роль теперь играет разбиение процесса на временные фазы, диаграмма теперь является протяженной во времени последовательностью, где точка 1 - эксплицитный результат предшествующего цикла, а 1' сигнализирует о начале нового, отличающегося последующего цикла (в случае трансформации). Если результатом является воспроизводство, то в следующем цикле нам вновь придется иметь дело с той же самой структурой, но не обязательно с тем же самым действием.
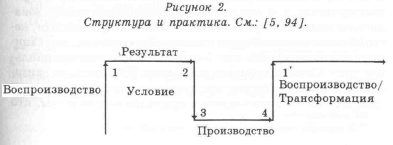
* Игра слов: «space/time is to be seen/scene as a flow».
Таким образом, оправдано эксплицитное введение в модель потока как историчности, но оправдано также и расчленение его на фазы, так как Бхаскар утверждает, что ТМСД «порождает» четкий критерий исторически значимых событий, а именно тех, которые «инициируют или конституируют размежевания, мутации или общие трансформации социальных форм» [5, 77]. Наконец, его уточненная диаграмма содержит теперь опосредую-щие процессы, т. е. она показывает отношения между локализованными на определенных позициях практиками, несводимыми к межличным взаимодействиям тех, кто занимает эти позиции для какой-то работы или как официальное лицо. Сходным образом и в рамках М/М-подхода считается, что взаимодействие исходит от тех, кто занимает позиции, находится в ситуациях и принадлежит не к тем, кто обусловливает многое из того, что можно из них сделать.
Ниже приводится основная диаграмма морфогенезиса/ морфостазиса:
Его основные теоремы, конституирующие аналитический дуализм, таковы: (i) структура с необходимостью предшествует по времени действию(ям), трансформирующе-му(им) ее (Бхаскар, как мы видели, с этим согласен и усиливает значимость аналитического вычленения, когда подчеркивает, что «игры жизненного мира всегда инициируются, обусловливаются и завершаются извне самого жизненного мира»); (п) разработка структуры с необходимостью оказывается по времени более поздней, чем действия, трансформировавшие ее (для Бхаскара структуры лишь относительно постоянны; их постоянство или трансформация - это результат установленной практики, а не произвольного взаимодействия).
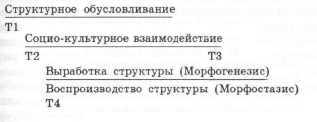
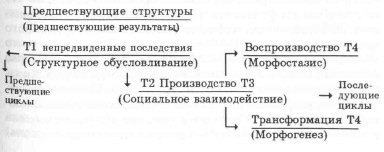
Я утверждала, что аналитический дуализм - это дело теоретической необходимости, если мы хотим четко зафиксировать процессы, способные объяснить определенные социальные изменения, т. е. если мы хотим развивать полезные социальные теории для работающих исследователей (для которых социальная онтология, утверждяющая tout court, что каждое действие в любой момент обладает потенциалом воспроизводства и трансформации, - это белый слон). По Бхаскару, ТМСД «может служить основой для подлинного понятия изменения, а следовательно, и истории» [5, 77]. На то же самое претендует и М/М-подход, а содержательно мне удалось, надеюсь, продемонстрировать это в «Социальных истоках системы образования» [2]. Я согласна с Бхаскаром, что такой подход дает нечто, на что не способны конфляционистские теории всех видов сращения. Действительно, что касается концепций срединного сращения, изменение в них остается для Бхаскара «чем-то мистическим» [5, 77]. Так оно и есть, и выше мы как раз показали, почему это должно быть так, когда придерживаются понятия «двойственности структуры». Таким образом, теория структурации перекликается здесь с разочаровывающим утверждением Гидденса о том, что «не имеет смысла искать общую теорию стабильности и изменения социальных систем, так как условия социального воспроизводства слишком резко разнятся среди различных типов общества» [11, 215]. Следовательно, его социальная онтология вручает исследователю-практику приспособление для «обострения чувствительности»; подходы ТМСД и М/М стремятся обеспечить набор инструментов, а поскольку эти инструменты предполагают, что ученые-практики будут много (и основательно) работать с ними, то они и устроены так, чтобы с ними можно было работать, чтобы они имели практическое применение.
С учетом этой цели важно отметить, что сходство, установленное между ТМСД и М/М-подходом, коренится в самом реализме. Так же, как индивидуализм и холизм представляли собой социальные онтологии, приверженность к которым соответствующим образом конституировала социальный мир, а затем и давала указания, как его изучать и объяснять (методологический индивидуализм и холизм как конфляционистские программы, действующие в противоположных направлениях), так и реалистская социальная онтология предполагает методологический реализм, воплощающий в жизнь ее приверженность глубине, стратификации и возникновению, как основным определениям социальной реальности. Таким образом, моя задача здесь заключалась в том, чтобы показать, что если иметь в виду эти основополагающие принципы реализма, то их можно только уважать и отражать в методологическом реализме, который рассматривает структуру и деятельность через «аналитический дуализм» (чтобы быть в состоянии исследовать связи между этими раздельными стратами, каждая из которых обладает своими собственными автономными, неуничтожимыми, развивающимися качествами) и который, следовательно, отвергает любую форму сращения (восходящего, нисходящего или срединного) в социальном теоретизировании.

ТМСД - это щедрый дар философа, в разработке фундаментальных вопросов вышедшего далеко за рамки нашей дисциплины; М/М-подход - произведение социолога-практика, который чувствует себя обязанным углубиться в уточнение своего инструментария, чтобы создать в высшей степени применимую социальную теорию. Таким образом, этот подход не просто дает «ясный критерий исторически значимых событий», не просто пытается идентифицировать их, но стремится идти дальше, к раскрытию их смысла. Предстоит еще много тонкой работы над концептуализацией стуктурного обусловливания, конкретизацией того, как совершается перенос структурных влияний (не гидравлическим способом, но как разумных оснований поведения) на данных агентов, занимающих определенные позиции и находящихся в определенных ситуациях («кто», «когда» и «где») и над стратегическими комбинациями, результатом которых является скорее морфогенез, чем морфостазис (с каким результатом). [...] Оказывается, что это предприятие получило благословение Бхаскара, если учесть его мнение о том, что «особый теоретический интерес социологии заключен именно в (объяснении) процессов дифференциации и стратификации, производства и воспроизводства, мутации и трансформации, непрерывного перемалывания и беспрестанных подвижек сравнительно постоянных отношений, предполагаемых данными социальными формами и структурами» [4, 41]. Так и обстоит дело, и мой главный интерес выходит за рамки создания приемлемой социальной онтологии, поскольку я стремлюсь представить действующую социальную теорию. Но последняя должна иметь в основании первую (в противном случае предрешено ее сползание в инструментализм). Именно этому и была посвящена данная глава, т. е. было показано, как эмерджентист-ская онтология с необходимостью влечет за собой аналитический дуализм, особенно если она должна произвести работающую методологию для практического анализа общества как досадного факта.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Бхаскар Р. Общества // Социо-Логос. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991.
2.Archer M. The Social Origins of Educational System. L.: Sage, 1979.
3.Benton T. Realism and Social Science: Some Comments on Roy Bhaskar’s The Possibility of Naturalism // Radical Philosophy, 27, Spring, 1981.
4.Bhaskar R. The possibility of naturalism. N.Y.; L.: Harvester Wheat-sheaf, 1979.
5.Bhaskar R. Reclaiming Reality. L.: Verso, 1989.
6.Bhaskar R. Beef, Structure and Place: Notes from a Critical Naturalist Perspective // Journal for the Study of Social Behavior, 13, 1985.
7.Blati P. Exchange and power in social life. N.Y.: Wiley, 1964.
8.Bucklev W. Sociology and modern systems theory. N.Y.: Prentice Hall, 1967.
9.Cohen P. S. Modern Social Theory. L.: Heinemann, 1968.
10.Gellner E. Explanations in History // Modes of Individualism and Collectivism / Ed. by J. O’Neill. L.: Heinemann, 1973.
11.Giddens A. Central problems in Social Theory: Structure and Contradiction in Social Analysis. L.: Macmillan, 1979.
12.Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Struc-turation. Cambridge: Polity Press, 1984.
13.Layder D. Structure, Interaction and Social Theory. L.: Routledge and Kegan Paul, 1981.
14.Lockwood D. Social integration and system integration // Exploration in social change / Ed. by Zollschau Z. and Hirsch W. L.: Routledge and Kegan Paul, 1964.
15.Outhwaite W. Realism, naturalism and social behavior // J. for the Theory of Social Behaviour. Vol. 20. № 4, 1990.
16.Outhwaite W. Agency and Structure // Anthony Giddens: Consensus and Controversy / Ed. by Clarke J. et al. Palmer: Basingstoke, 1990.
17.Saver A. Method in Social Sciences: A Realist Approach. L.: Rout-ledge, 1992.
18.WatkinsJ. W. N. Methodological Individualism and Social Tendencies “ Readings in the Philosophy of the Social Sciences / Ed. by Brodbeck M. N-Y.: Macmillan, 1971. 7*
Никлас Луман ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА
(вариант San Foca '89)
Глава 1 Общество как социальная система
I. Теория общества в социологии
Исследования, предлагаемые вниманию читателя, посвящены социальной системе современного общества. Прежде всего надо в полной мере уяснить себе, что таким образом актуализируется циркулярное отношение к предмету*. Ведь заранее отнюдь не известно, о каком предмете идет речь. Со словом «общество» не связаны никакие однозначные представления. И даже то, что обычно называют «социальным», вовсе не обозначает только какой-то один объект. Но попытка описать общество не может состояться и вне общества. Дело в том, что при описании используется коммуникация, активируются социальные отношения. Попытка описывать общество оказывается наблюдаемой. Как ни определять предмет, но сама дефиниция уже есть операция предмета. [Само] описываемое и совершает описание. Таким образом, в ходе описания описание должно описывать также и самое себя. Оно должно постигать свой предмет как сам себя описывающий предмет. В терминах логического анализа языка можно было бы также сказать, что всякая теория общества должна продемонстрировать свой «ауто-логический» компонент1.
* Т. е. включение себя самого в предмет рассмотрения. См. ниже.
1 Ларе Лёфгрен в сходном смысле говорит об «аутолингвистическом» как форме, которая должна быть логически развернута посредством различения уровней. См.: [29].
Тому, кто полагает, что это должно быть запрещено в силу эпистемологических оснований, придется отказаться от теории общества, от лингвистики и многих других тем.
Социология пока что не определилась в отношении этой проблемы с надлежащей жесткостью и последовательностью. В конце XIX в. самым естественным казалось воспринимать всякое включение описания общества в предмет описания как «идеологию» и потому отказываться от такого включения, на основе которого было бы невозможно возвести социологию в ранг строгих академических дисциплин. Кое-кто даже считал, что по этой причине следовало бы отказаться и от понятия общества, ограничив себя строго формальным анализом социальных отношений2.
2 Так думают даже сейчас! См.: [44].
Другие, прежде всего Дюркгейм, считали строго позитивную науку о «социальных фактах» и об обществе как условии их возможности вполне осуществимой. Но были еще и такие, кто удовлетворялся различением наук о природе и наук о духе и исторической релятивизацией всех описаний общества. Каковы бы ни были отдельные рассуждения, в целом, по теоретико-познавательным основаниям, неизбежным считалось различение субъекта и объекта. А отсюда можно уже было выбирать только между сциентистски наивной позицией и позицией, отрефлектированной в духе трансцендентальной теории.
Многие отличительные черты социологии, ставшей ныне классической, следует отнести на счет ограниченности этой избирательной схемы и попыток все же как-то выйти из положения. Сказанное имеет силу и для того своеобразного сочетания трансцендентализма и социальной психологии, которое мы обнаруживаем у Г. Зиммеля, и для понятия действия М. Вебера, который заимствует у неокантианцев теорию ценностей. Все это, конечно, еще представляет сегодня интерес для экзегезы классиков. Однако классическая социология, несмотря на эту безусловную привязку к схеме «субъект/объект» и неразрывно связанную с ней проблему предмета, во всяком случае, предложила весьма примечательное и поныне уникальное описание общества. Быть может, именно этим лучше всего объясняется то, почему классики все еще продолжают восхищать и очаровывать нас, почему их тексты смогли стать в строгом смысле слова как бы неподвластными времени. Почти все теоретические усилия направлены сегодня в ретроспективу, на реконструкцию. Поэтому стоит задать вопрос, как стал возможным такой успех.
Без признания циркулярного отношения к предмету! Уж это точно. Решение проблемы одновременно скрывало ее для классиков. Оно состояло в том, чтобы определить свое историческое местоположение, т. е. разорвать круг посредством исторического различия, в котором теория могла зафиксировать себя исторически (и только исторически). Становящаяся социология реагирует на проблемы, которые стали видимыми в XIX в., и она знает, что сама является реакцией на эти проблемы. Даже если ее понятия сформулированы абстрактно, то благодаря исторической ситуации они становятся правдоподобными. Приходится признать конец веры в прогресс, и предпосылка о позитивном (несмотря на все издержки) развитии заменяется структурным анализом, прежде всего, анализом социальной дифференциации, организационных зависимостей, ролевых структур. Таким образом, появляется возможность отказаться от сосредоточенного на хозяйстве («политэкономи-ческого») понятия общества, которое было в ходу с конца XVIII в. Начало этому было положено спором между сторонниками идей о преимущественно материальной (экономической) и преимущественно духовной (культурной) детерминации общества. Одновременно положение индивида в современном обществе становится центральной, в известном смысле, ключевой проблемой, обращение к которой позволяет в целом судить об обществе скептически и уже не оценивать его безоговорочно как прогрессивное. Такие понятия, как «социализация» и «роль», указывают на потребность в теоретическом опосредовании «индивида» и «общества». Различение «индивида» и «общества» оказывается, наряду с историческим различием, основанием для [построения] теорий. Однако и здесь, как и в случае с историческим различием, вопрос о единстве различения не может быть поставлен. На вопрос, что же такое история, налагается методический запрет [45], а проблема единства различия индивида и общества даже не распознается именно как проблема, ибо и теперь традиционно исходят из того, что общество состоит из индивидов. Наконец, у Вебера скепсис, ставший возможным благодаря такой теоретической установке, выливается в критику современного западного рационализма. Можно, пожалуй, напомнить и о том, что одновременно возникает литература, показывающая, что современный индивид ни в обществе, ни вне общества не способен найти прочную основу для самонаблюдения, самоосуществления или - модное впоследствии слово - для идентичности. Назовем хотя бы только для примера Флобера, Малларме, Антонена Арто (см. [17]).
Со времени классиков прошло уже 70-80 лет, а социология ощутимым образом так и не продвинулась в сфере теории общества. Она много сделала в других областях, как в методическом отношении, так и в теоретическом, однако более всего преуспела в том, что касается накопления эмпирического знания; но она как бы воздерживалась от описания всего общества. Возможно, это связано с тем, что она продолжает воспринимать как обязательное для себя различение «субъект-объект». Правда, есть специальные исследования по «социологии социологии», а недавно появилась еще «рефлексивная» социология науки3.
3 См. самые характерные примеры: [37; 38].
В этой связи на поверхность выходят проблемы самореференции, но они как бы изолируются в качестве особых феноменов и рассматриваются как курьезы или методические трудности. То же самое можно сказать и о «self-fulfillingprophesy»*.
* Самоисполняющемся пророчестве (англ.)
В настоящее время имеется лишь одна систематическая социологическая теория - общая теория системы действия Т. Парсонса. Она заявляет о себе как кодификация классического знания и как разработка категориального понимания действия с помощью методологии крестообразных таблиц. Но именно эта теория оставляет открытым поставленный здесь вопрос о когнитивной самоимпликации, ибо не делает никаких высказываний о степени совпадения аналитических понятий с реальным образованием систем. Она только постулирует «аналитический реализм» и тем самым приводит проблему самоимпликации к парадоксальной формуле. Она не учитывает, что познание социальных систем уже как познание зависит от социальных условий, причем не только из-за своего предмета, но и потому, что познание (или выработка дефиниций, или анализ) действий само Уже является действованием. Соответственно, сам Парсонс еще не раз появляется во многих сегментах своей теории. Вот почему теория не может систематически различать социальную систему и общество, но предлагает высказывания о современном обществе лишь импрессионистского, более или менее фельетонного плана4.
4 Подробнее об этом см.: [7].
Как можно объяснить, что социология оказывается несостоятельной перед лицом одной из имманентных ее предмету проблем, в решении задачи, возможно, очень важной для ее общественного престижа? Ответ напрашивается сам собой: достаточно указать на огромную сложность общества и на отсутствие подходящей методологии для обращения с высокосложными и дифференцированными системами (так называемая организованная комплексность). Этот аргумент станет еще более весомым, если принять во внимание, что описание системы есть часть системы и что может быть множество таких описаний. И уж конечно, для «гиперсложных» систем такого рода конвенциональная методология, которая исходит либо из весьма простых связей, либо из условий применения статистического анализа, совершенно непригодна. Отсюда могла бы следовать рекомендация отказаться от теории общества и, прежде всего, заняться методологией обращения с высокосложными и даже гиперсложными системами. Однако ведь именно так и поступают уже сорок лет (см.: [8]), со времени открытия этой проблемы метода, - но пока без особого успеха.
Рассуждая иначе, можно было бы использовать понятие «obstacles epistemologiques»* Г. Башляра5. Здесь имеется в виду бремя традиции, которая препятствует адекватному научному анализу и порождает ожидания, которые не могут быть исполнены, но, несмотря на эти явные недостатки, не могут и быть заменены другими ожиданиями.
В современном понимании общества мы обнаруживаем три взаимосвязанных и поддерживающих друг друга предпосылки, которые блокируют познание:
1) что общество состоит из конкретных людей и отношений между людьми6;
Эпистемологические препятствия (фр-) - Прим. перев.
5 См: [13, 13 ff.; 2, 199-200]. Ср. рассуждения Э. Уайлдена о контрадаптивных результатах адаптивных изменений: [47, 205 Г.].
6 Даже новейшие теории систем, которые вводят понятие самореференции, иногда еще продолжают работать с положением о том, что социальные системы состоят из людей. Приведем в пример одного физика, одного биолога и одного социолога: [16; 34, 21]. Но такая путаница не позволяет точно указать, какая операция осуществляет аутопойесис в случае органических, нейрофизиологических, психических и социальных систем. Обычно соглашаются на том, что человек является частью социальных систем не целиком, но лишь постольку, поскольку он находится во взаимодействии, т. е. актуализирует с другими людьми тождественные по смыслу (параллельные) переживания. См.: [22, 128]. Правда, тем самым дело не Улучшается, но ухудшается, потому что тогда нельзя указать, какая операция осуществляет это различение «постольку/поскольку» - ведь это явно делает не химия клетки, не мозг, не сознание, не общественная коммуникация, но, во всяком случае, соответствующим образом производящие Различение наблюдатели.
2) что общества суть региональные, территориально ограниченные единства, так что Бразилия - это иное общество, чем Таиланд, США - иное, чем Советский Союз, а тогда уж, пожалуй, и Уругвай - другое общество, чем Парагвай;
3) наконец, что общества, как группы людей или как территории, могут быть поэтому наблюдаемы извне.
Первые две предпосылки препятствуют точному определению общества в понятиях. Явно не все, что можно наблюдать в человеке, принадлежит обществу (если ему вообще принадлежит здесь хоть что-то). Общество отнюдь не весит ровно столько же, сколько все люди вместе взятые, и не меняет своего облика с каждым рождением и каждой смертью. И воспроизводство его состоит отнюдь не в том, что, скажем, в отдельных клетках людей заменяются макромолекулы или в организмах отдельных людей заменяются клетки. Итак, оно не живет. И недоступные даже сознанию нейрофизиологические процессы мозга тоже никто не станет всерьез рассматривать как общественные процессы; то же самое относится и ко всем тем восприятиям и последовательностям мыслей, которые протекают в области актуального внимания отдельного сознания.
И если вопреки всему столь очевидному все-таки продолжают настаивать на «гуманистическом», сопряженном с человеком понятии общества, то это обусловлено, видимо, опасением, что иначе придется отказаться от всяких масштабов оценки общества и от всякого права требовать, чтобы общество было устроено «по-человечески». Даже если бы это было именно так, то следовало бы, однако, независимо от таких критериев, прежде всего иметь возможность устанавливать, что именно общество делает из людей и каким образом это происходит.
Столь же очевидны возражения и против территориального понятия общества. Больше, чем когда бы то ни было, территориальные взаимозависимости мирового масштаба вторгаются ныне во все детали социального. Тот, кто захотел бы это игнорировать, должен был бы вернуться к культур-ностальгическому понятию общества, резервируя все важные для последующего развития условия за другим понятием, например, говоря о «глобальной системе» (см.: [16]). Но тем самым это понятие оказалось бы подлинным преемником того, что традиционно называлось «обществом» (societas civilis, гражданским обществом). Понятие общества пришлось бы поставить в зависимость от произвольно проведенных государственных границ и, несмотря на все связанные с этим неясности, ориентироваться на единство региональной «культуры», язык и т. д.
В том случае, когда понятие общества сопрягается с человеком, в него включается слишком много; в случае территориального понятия общества - слишком мало. В обоих случаях за непригодные понятия такого рода держатся, видимо, потому, что об обществе хотели бы думать как о чем-то, что возможно наблюдать извне. Если бы удалось отказаться от таких предпосылок, то тем самым познание было бы разблокировано, господствующие эпистемологические препятствия остались бы без своей скрытой поддержки. Гуманистическая и регионалистская традиции рухнули бы из-за своей собственной непригодности.
Итак, мы дерзаем перейти к такому радикально антигуманистическому и радикально антирегионалистскому понятию общества. Отнюдь не отрицая, что люди существуют, не игнорируя самые резкие противоположности в условиях жизни на Земном шаре, мы только отказываемся выводить из этих фактов критерий для дефиниции понятия общества и для определения границ соответствующего предмета. И именно благодаря этому отказу появляется возможность познавать нормативные и оценочные стандарты обращения с людьми; например: познавать права человека или нормы коммуникации, ориентированной на достижение согласия, в смысле Хабермаса, или, наконец, установки на различие в развитии отдельных регионов как нечто, произведенное самим обществом, а не предполагать их как регулятивные идеи или компоненты понятия коммуникации.
II. Различение системы и окружающего мира
Чтобы революционизировать парадигму теории общества, мы отказываемся от традиций социологической дисциплины и обращаемся к теоретическим ресурсам, которые привносим в социологию извне. При этом мы ориентируемся на новейшие тенденции в теории систем, а также в теориях, функционирующих под иными названиями: например, кибернетике, cognitive sciences*, теории коммуникации, теории эволюции. В каждом случае речь идет о состоянии междисциплинарных дискуссий, которые за последние два-три десятка лет претерпели радикальные изменения и не имеют почти ничего общего с понятиями 50-х - начала 60-х гг. Это совершенно новые, завораживающие интеллектуальные тенденции, которые впервые позволяют избежать старого противопоставления наук о природе наукам о культуре или противопоставления предметных областей, данных либо в форме закона либо в форме текста (герменевтически).
Самая глубокая, совершенно неизбежная для понимания всего остального перестройка состоит в том, что речь теперь идет не об объектах, но о различениях. Прояснить это можно с помощью понятия формы, на котором Джордж Спенсер Браун основывает свои «Законы формы»[43]. В соответствии с ним формы следует рассматривать уже не как образы (более или менее красивые), но как линии границ, метки различия, которые вынуждают четко определить, какую сторону ты обозначаешь, т. е. на какой стороне формы находишься и где, соответственно, должны начинаться все последующие операции. Другая сторона линии границы («формы») дается одновременно. Каждая сторона формы есть другая сторона другой стороны. Ни одна из сторон не есть нечто совершенно самостоятельное. Сторона актуализо-вана только в силу того, что обозначают ее, а не другую сторону**.
* Когнитивных науках (англ.).
** Ниже Луман приводит дословно лишь две аксиомы Спенсера Брауна. Мы процитируем начальные положения «Законов формы» более подробно:
«1. ФОРМА
Мы принимаем как данную идею различения и идею обозначения, а также, что мы не можем совершить обозначение, не проводя различения. Мы принимаем, следовательно, форму различения за форму.
Дефиниция
Различение есть совершенное примыкание
То есть различение проводится <путем> установления границы с раз-Дельными сторонами, так что точка на одной стороне не может достичь Другой стороны, не пересекая границу. Например, на плоском пространстве круг проводит границу.
Если различение проведено, то пространства, состояния или содержания на каждой стороне границы, будучи различены, могут быть обозначены. Не может быть различения без мотива, и не может быть мотива, если не усматривается, что содержания отличаются по значению <value>. Если содержание имеет значение, то может быть принято имя, чтобы обозначить это значение.
Итак, называние <calling> имени может быть отождествлено со значением содержания.
Аксиома 1. Закон называния
Значение называния <са!1>, совершенного вновь, есть значение называния.
То есть если имя названо, а затем названо снова, то значение, указанное двумя называниями, взятыми вместе, есть значение, указанное одним из них.
То есть для любого имени назвать вновь значит назвать.
Равным образом, если содержание имеет значение, то может быть принят мотив или намерение, или наставление <instruction>, чтобы указать это значение.
Итак, пересечение границы может быть отождествлено со значением содержания.
Аксиома 2 Закон пересечения
Значение пересечения, совершенного вновь, не есть значение пересечения.
То есть если намереваются пересечь границу, а затем намереваются пересечь ее вновь, то значение, указанное этими двумя намерениями, есть значение, не указанное ни одним из них.
То есть для всякой границы, повторное пересечение есть непересечение». [43, 1-2].
В этом смысле форма есть развернутая (именно во времени развернутая) самореференция. Ибо идти приходится всякий раз от той стороны, которая обозначена в данный момент, а для следующей операции требуется время, чтобы пересечь границу, конституирующую форму*. Пересечение креативно. В то время как повторение обозначения лишь подтверждает его тождество (позже мы будем говорить, что оно тестирует смысл в различных ситуациях и тем самым его конденсирует), пересечение в обе стороны - это не повторение, и потому оно не может быть стянуто в одно единственное тождество7. Иными словами, различение, когда оно используется, не может самое себя идентифицировать. Именно на этом, как мы покажем на примере бинарного кодирования, основывается плодотворность пересечения.
Правда, это понятие формы сходно с гегелевским понятием понятия, поскольку и то, и другое конституируется включением в него различения. Однако Гегель все-таки встроил в понятие понятия слишком много далеко идущих притязаний, которым мы не можем сочувствовать и в которых не нуждаемся. Иначе, чем форма (в указанном нами смысле), понятие берет на себя решение проблемы своего собственного единства. При этом оно устраняет самостоятельность различенного (например, в понятии «человек» устраняется самостоятельность противоположных моментов: чувственности и разума), причем делает это с помощью специфического различения всеобщего и особенного. Снимая его, понятие конституируется как отдельное. Об этом здесь можно напомнить только для того, чтобы зафиксировать нечто прямо противоположное: форма есть именно само различение, поскольку она вынуждает обозначать (а тем самым - наблюдать) одну или другую сторону и как раз поэтому (совершенно иначе, чем понятие) сама не может реализовать свое собственное единство. Единство формы не есть ее «высший», духовный смысл. Напротив, она есть исключенное третье, которое не может быть наблюдаемо, пока наблюдают при помощи формы. И в понятии формы предполагается, что каждая из сторон определена в себе через отсылку к другой; но это здесь считается не предпосылкой «примирения» их противоположности, а предпосылкой различимости различения.
Всякое определение, всякое обозначение, всякое познание, всякое действование - как операция - учреждает такую форму; оно, как грехопадение, рассекает мир, вследствие чего возникает различие, возникает одновременность и потребность во времени, а предшествующая неопределенность становится недоступной.
Тем самым понятие формы уже отличается не только от понятия содержания, но также и не только от понятия контекста8. Формой может быть отличие чего-либо от всего остального, а равным образом и отличие чего-либо от своего контекста (как, скажем, постройка отличается от городского или ландшафтного окружения), но также и отличие некой ценности от противоположной ей ценности, при исключении третьих возможностей.
* «Развертывание самореференции», а также появляющееся ниже «развертывание (размыкание) парадокса» следует понимать, примерно, следующим образом. Самореференция - это отсылка на самое себя. Каждая операция данной системы отсылает к другой операции той же системы и потому можно говорить, что система ссылается только на себя. Круг замыкается - так же, как он замыкается в тавтологическом или парадоксальном высказывании. Он может быть разомкнут, т. е. развернут, когда можно сослаться на что-то иное, кроме себя. Например, фиксируя историческое место какой-то теории, мы отличаем ее от предшествующих, т. е. иных, и через эту отсылку к иному делается попытка разорвать круг самообоснования (об этом говорит Луман в предыдущем параграфе).
7 Спенсер Браун различает соответственно две (единственных!) аксиомы: (1) «Значение называния, совершенного вновь, есть значение называния»; и (2) «Значение пересечения, совершенного вновь, не есть значение пересечения». См.: [43, 1 ff.].
8 Такую замену понятий предлагает произвести К. Александер. См.: [6].
Всегда, когда понятие помечает одну сторону различения, причем предполагается, что есть и определяемая благодаря этому другая сторона, тогда есть еще и некая суперформа, а именно, форма отличения формы от чего-то иного9.
С помощью этих понятий, выработанных для исчисления форм, для совершения различений, можно интерпретировать и различение системы и окружающего мира10.
9 Мы вернемся к этому в гл. 2, когда будем говорить о различении среды и формы.
10 См. об этом подробно: [42, 47 ff.].
С точки зрения общего исчисления форм, - это особый случай, случай приложения исчисления. Поэтому, с точки зрения методической, речь идет не о том лишь, чтобы заменить объяснение общества на основе некоего принципа (будь то «дух» или «материя») объяснением на основе различения. Правда, различению системы и окружающего мира, а тем самым и форме «система», мы придаем центральное значение, но только в том смысле, что, исходя из этого, мы организуем последовательность теории, т. е. взаимосвязь множества различений. Процесс оказывается тогда не дедуктивным, но индуктивным, т. е. представляет собой выяснение путем проб, что означают при этом генерализации одной формы для других. А последовательность при этом означает не что иное, как производство достаточной избыточности, т. е. экономное обращение с информацией.
Самой теории систем это понятие формы показывает, что она имеет дело не с особыми объектами (или даже техническими артефактами или аналитическими конструктами), но что ее тема есть особый вид формы, так сказать, особая форма форм, которая эксплицирует всеобщие свойства всякой формы-с-двумя-сторонами применительно к ситуации «система и окружающий мир». Все свойства формы значимы также и здесь: так обстоит дело с одновременностью системы и окружающего мира и потребностью во времени для любых операций. Но прежде всего, такой способ изложения должен ясно показать, что система и окружающий мир, правда, разделены, но не могут существовать - как две стороны друг без друга. Единство формы все еще предполагается как различие; но само различие не есть носитель операций. Оно не есть ни субстанция, ни субъект, однако в истории теории оно заступает место этих классических фигур. Операции возможны только как операции некоторой системы. Но система может также оперировать и как наблюдатель формы; она может наблюдать единство различия, наблюдать форму-с-двумя-сторонами как форму - но только в том случае, если она способна, со своей стороны, образовать для этого более широкую форму, т. е. различать также и различение. Итак, если системы достаточно сложны, они тоже смогут обратить на себя самое различение системы и окружающего мира - но только в том случае, если они производят для этого свою собственную операцию, которая и совершает это различение. Иными словами, они могут сами отличать себя от своего окружающего мира, но это может быть только операцией самой системы. Форма, которую они производят как бы вслепую, совершая рекурсивные операции и тем самым вычленяя себя, вновь находится в их распоряжении, если они наблюдают себя самих как систему в окружающем мире. И только таким образом, исключительно при этих условиях и теория систем оказывается основой для определенной практики различения и обозначения. Теория систем использует различение системы и окружающего мира как форму своих наблюдений и описаний; но чтобы иметь возможность делать это, она должна уметь отличать это различение от других различений, например, различений теории действия; и чтобы вообще иметь возможность совершать операции таким образом, она должна образовать систему, т. е. - в данном случае - быть наукой. Следовательно, в применении к теории систем, это понятие выполняет искомое требование, заключающееся в положении о самоимпликации теории. Отношение теории к предмету вынуждает ее делать заключения о себе самой.
Если принять эту теорию различения за исходный пункт, то все развитие новейшей теории систем окажется вариациями на тему «система и окружающий мир». Первоначально дело заключалось в том, чтобы при помощи представлений об обмене веществ или input/output объяснить, что некоторые системы не подчиняются закону энтропии, но в состоянии создать негэнтропию и благодаря этому, именно в силу открытости и зависимости от окружающего мира, усилить отличие системы от окружающего мира. Отсюда можно было сделать вывод, что независимость и зависимость от окружающего мира не суть взаимоисключающие признаки системы, но при определенных условиях они могут взаимно усиливаться. Вопрос тогда ставился так: при каких условиях? Ответ на него можно было искать при помощи теории эволюции.
Следующий шаг состоял во включении в рассмотрение самореферентных, т. е. циркулярных отношений. Прежде всего имелось в виду построение структур системы собственными системными процессами. Это позволяло вести речь о самоорганизации. Здесь окружающий мир понимался как источник неспецифического (бессмысленного) «шума», из которого система, однако, благодаря взаимосвязи своих собственных операций, могла якобы извлекать смысл. Так пытались объяснить то, что система (хотя она и зависит от окружающего мира и не обходится без него, но детерминирована отнюдь не им) может сама себя организовать и выстроить свой собственный порядок: order from noises11. Окружающий мир, с точки зрения системы, случайным образом воздействует на нее12, но именно эта случайность необходима для эмерджентного возникновения порядка, причем тем более необходима, чем сложнее становится порядок.
Новый момент в эту дискуссию внес своим понятием аутопойесиса Хумберто Матурана13.
11 См.: [11; 18]. [Order from noises - порядок из шума (англ.).]
12 А. Атлан даже утверждает, что изменения организации системы могут быть поэтому объяснены, лишь исходя из внешних воздействий. См.: [12, 115 ff.]. См. также: [10].
13 См. обобщающее изложение: [32].
Аутопойетические системы - это такие системы, которые производят не только свои структуры, но и свои элементы в сети именно этих элементов. Элементы (а во временном аспекте элементами являются операции), из которых состоят аутопойетические системы, не имеют никакого независимого существования. Они не просто сочетаются. Они не просто бывают соединены. Нет, они производятся только в системе, причем именно благодаря тому, что используются как различия (на каком бы то ни было энергетическом и материальном базисе). Элементы - это информации, это различия, которые составляют отличие в системе*. И потому они суть единицы применения для производства других единиц применения, которым ничто не соответствует в окружающем мире системы**.
* Чтобы лучше понять этот пассаж Лумана, тем, кто владеет английским, стоит вспомнить выражение «to make a difference», которому дословно соответствует немецкое «Unterschiedmachen». Остальным же рискну напомнить пресловутое «почувствуйте разницу». Иными словами, речь идет о различиях, которые и составляют эту самую «разницу», т. е. значимы для системы.
** Концепцию аутопойесиса X. Матураны мы решили представить более подробно при помощи нескольких обширных цитат из его работ: «Основной познавательной операцией, которую мы выполняем как наблюдатели, является операция различения. Посредством этой операции мы специфицируем единство как сущность, отличную от фона, характеризуем и единство, и фон через те свойства, какими операция наделяет их, и специфицируем их раздельность. Специфицированное таким образом единство - это простое единство, которое определяет своими свойствами пространство, в котором оно существует, и феноменальный домен, который оно может породить, взаимодействуя с другими единствами. Рекурсивно обратив операцию различения на единство, так, чтобы различить компоненты в нем, мы респецифицируем его как составное единство, которое существует в пространстве, определяемом его компонентами, потому что именно благодаря специфицированным свойствам его компонентов мы - наблюдатели - его различаем.» [31, xix]. «Следовательно, составное единство операционально различено как простое единство в метадомене относительно того домена, в котором различены его компоненты, потому что оно есть следствие операции составления. В результате компоненты составного единства и соотнесенное с ним простое единство находятся в конститутивном отношении взаимной спецификации. Таким образом, свойства компонентов составного единства, различенного как простое, предполагают свойства компонентов, конституирующих его как таковое, и наоборот, свойства компонентов составного единства и способ, каким они составляются, определяют те свойства, которые характеризуют его как простое единство, если оно различено как таковое. Соответственно, не бывает различения компонента, независимо от единства, которое его интегрирует, а простое единство, различенное как составное, не может быть разъято на произвольный набор компонентов, расположенных в произвольной композиции. Конечно же, нет никаких свободных компонентов, перемещающихся независимо от составного единства, которое их интегрирует [35, 58-59]. «Иными словами, наблюдатель характеризует единство, устанавливая те условия, в которых оно существует как могущая быть различенной сущность, но он познает его лишь настолько, насколько он определяет мета-домен, в котором он может оперировать с той сущностью, которую он охарактеризовал. Таким образом, аутопойесис в физическом пространстве характеризует живые системы, потому что он детерминирует различения, которые мы можем выполнить в наших взаимодействиях, если мы специфицируем их [эти системы], но мы знаем их лишь до тех пор, пока можем и оперировать с их внутренней динамикой состояний как составных единств, и взаимодействовать с ними как простыми единствами в окружающей среде, в которой мы их усматриваем. <...> Аутопойетическая машина - это машина, организованная (определенная как единство) как сеть процессов производства (трансформации и разрушения) компонентов, которые производят компоненты, каковые (i) своими взаимодействиями и трансформациями постоянно регенерируют и реализуют сеть процессов (отношений), которые их производят; (И) конституируют ее (машину) как конкретное единство в пространстве, в каковом они (компоненты) существуют, специфицируя топологический домен его реализации как такой сети [31, xxii, 78-79].
Конечно, и здесь не обходится без окружающего мира (ведь иначе, как мы знаем, другая сторона формы не была бы системой). Но теперь следует гораздо точнее указать (и от этого может выиграть наша теория общества), как ауто-пойетические системы, которые сами производят все элементы, необходимые им для продолжения их аутопойесиса, выстраивают свои отношения с окружающим миром. Все внешние связи такой системы даны, конечно, неспецифически (хотя это, разумеется, не исключает, что наблюдатель может специфицировать, что он сам хочет и может видеть). Всякая спецификация, в том числе и спецификация связей с окружающим миром, предполагает самодеятельность системы и историческое состояние системы как условие ее самодеятельности. Ибо спецификация сама есть некая форма, т. е. различение; она состоит в том, что делается выбор из самостоятельно сконструированной области выбора (информация), а эта форма может быть образована только в самой системе. Нет никакого input'& и outpuf& элементов, т. е. нет входа в нее и выхода из нее. Система автономна не только на уровне структур, но и на уровне операций. Об этом говорит понятие аутопойесиса. Система может конституировать свои собственные операции, только соединяя их со своими же операциями и предвидя другие операции той же системы. Но тем самым мы отнюдь еще не указали все условия ее существования, и вопрос следует поставить вновь: как же можно различить эту рекурсивную зависимость совершения операций от себя самой и зависимости от окружающего мира, которые, безусловно, остаются и впредь? Ответить на этот вопрос можно, только анализируя специфику аутопойетических операций (иначе говоря, рецепция самого понятия аутопойесиса, зачастую поверхностная, сама по себе еще не дает ответа). Эти рассуждения приведут нас к тому, чтобы признать за понятием коммуникации ключевое значение для теории общества.
Прежде всего, фиксируя понятия указанным образом, мы делаем более ясным и столь часто употребляемое ныне понятие оперативной (или самореферентной) замкнутости системы. Конечно, тем самым не предполагается ничего, что могло бы быть понято как каузальная изоляция, отсутствие контактов или закрытость системы. Уже теория открытых систем позволила увидеть, что усиление независимости и зависимости происходит одновременно, причем одно усиливает другое. Понимание этого в полной мере сохраняется и сейчас. Только теперь это формулируют иначе и говорят, что любая открытость системы основывается на ее замкнутости. Говоря более подробно, речь идет о том, что только оперативно замкнутые системы могут выстраивать высокую собственную сложность, которая затем может служить спецификации того, в каких именно аспектах система реагирует на условия своего окружающего мира, тогда как во всех остальных аспектах, благодаря своему ауто-пойесису, она может обеспечить безразличие <к окружающему миру>14.
До сих пор не оспорена и концепция Гёделя, который понял, что ни одна система не может замкнуться в логически непротиворечивый порядок15. В конечном счете, здесь говорится то же самое, что и у нас: понятие системы отсылает к понятию окружающего мира и поэтому его невозможно изолировать ни логически, ни аналитически. Но одновременно следует подчеркнуть, что это касается только наблюдателя, который наблюдает при помощи различения «система/окружающий мир» и еще ни к чему не привязывает нас в вопросе о том, как же реализуется единство системы.
14 Образцовый пример этого - мозг. См. сжатое введение в проблематику: [39].
15 Ныне это общепризнано, однако при этом часто упускают из виду специфику гёделевских доказательств. Ср. поэтому в дополнение системно-теоретическую аргументацию у Эшби: [5; 8].
В конце концов, понимание того, что эти системы построены циркулярным, самореферентным и - постольку - логически симметричным способом, привело к следующему вопросу: как же прерывается этот круг, как создаются асимметрии? И кто тогда скажет, что здесь - причина, а что - следствие; сформулируем еще радикальнее: что происходит прежде, а что - после, что - внутри, а что вовне? Инстанцию, которая это определяет, сегодня часто называют «наблюдателем». Под «наблюдателем» не следует понимать только процессы сознания, т. е. только психические системы. Это понятие используется в высшей степени абстрактно и независимо от материального субстрата, инфраструктуры или специфического способа оперирования, который делает возможным проведение наблюдений. «Наблюдение» означает (и мы в дальнейшем будем использовать это понятие только в данном значении) просто различение и обозначение. Оно говорит о том, что «различение» и «обозначение» суть единая операция; ибо нельзя обозначить ничего, что одновременно не различают, а различение тоже отвечает своему смыслу лишь постольку, поскольку служит обозначению одной или другой стороны (но не обеих сторон сразу!). Если сформулировать это в терминах традиционной логики, то можно сказать, что различение относительно сторон, которые оно различает, есть исключенное третье. И если, наконец, принять во внимание, что наблюдение - всегда оперирование, которое должно совершаться некоторой аутопойетической системой, и если такую систему в этой ее функции обозначить как наблюдателя, то это приведет к следующему высказыванию: наблюдатель есть исключенное третье своего наблюдения. Сам себя при наблюдении он видеть не может. «Наблюдатель есть ненаблюдаемое», - кратко и сжато формулирует М. Серр [30, 365]. Различение, которое наблюдатель использует всякий раз, чтобы обозначить одну или другую сторону, служит невидимым условием видения, его слепым пятном. И это относится ко всякому наблюдению, все равно, является ли операция психической или социальной, совершается ли она как актуальный процесс сознания или же как коммуникация.
III. Общество как объемлющая социальная система
В соответствии с разрабатываемой здесь концепцией, теория общества должна рассматриваться как теория объемлющей социальной системы, заключающей в себе все остальные социальные системы. Эта дефиниция - почти цитата. Она соотносится с вводными положениями «Политики» Аристотеля (1252а 5-6), где городское сообщество (koinoniapolitike) определяется как наипрекраснейшее (наиглавнейшее, kyriotate) сообщество, которое заключает в себе все остальные (pasas periechousa tas alias)*.
* У Лумана здесь сложная и непередаваемая по-русски игра однокорен-ных слов: herrlichste(herrscherlichste <...>) Gemeinschaft <...>. «Herrlich» означает, собственно, прекрасный, великолепный. Слово «herrscherlich» вообще не особенно употребительно и означает «господский» (оба прилагательных даны в превосходной степени). В русском переводе «Политики» читаем: «...больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным и обнимает собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим.» [1, 376]. Иными словами, Луман подчеркивает, что наипрекраснейшее общение («завершение», «наивысшее существование», говорит далее Аристотель [1, 378]) является и господствующим, и наиболее полно выражающим господство. Переводя «herrlichste» как «наиглавнейшее» мы имели в виду прежде всего цитированный перевод Аристотеля.
Таким образом, поскольку речь идет о понятии общества, мы присоединяемся к древнеевропейской традиции*. Правда, все компоненты этой дефиниции мы понимаем нетрадиционно (включая и понятие включенности, т. е. periechon, которое мы, в русле теории систем, подвергнем декомпозиции при помощи концепции дифференциации), ибо речь у нас идет о теории современного общества для современного общества.
* Это замечание Лумана очень важно. Обычно в своих сочинениях он подчеркивает именно свое размежевание с тем, что он называет «древнеевропейской» (alteuropaische) традицией. Хотя сам термин «древнеевропей-ский» не принадлежит Луману (его ввел известный историк философии и. Риттер), но именно Луман использует его очень часто, что стало привычной мишенью нападок для многих критиков.
Итак, общество прежде всего понимается как система, а форма системы, (об этом было сказано выше) есть не что иное, как различение системы и окружающего мира. Это не значит, что достаточно общей теории систем - и путем логических выводов можно будет заключить, что в данном случае есть общество. Напротив, следует дополнительно определить, в чем состоит особенность социальных систем, а в рамках теории социальных систем - определить еще и то, что составляет особенность системы общества, что имплицирует наша характеристика общества как объемлющей социальной системы.
Следовательно, мы должны различать три разных уровня анализа общества:
1) общую теорию систем, а в ней - общую теорию ауто-пойетических систем;
2) теорию социальных систем;
3) теорию системы общества как особого случая социальных систем. На уровне общей теории аутопойетических, самореферентных, оперативно замкнутых систем теория общества пополняется принципиальными понятиями и результатами эмпирических исследований, имеющими силу и для других систем того же типа (например, мозга). Здесь возможен широкий междисциплинарный обмен опытом иинициативами. Как показано в предыдущем параграфе, мы основываем теорию общества на инновативных тенденциях в этой сфере.
На уровне теории социальных систем речь идет об особенностях тех аутопойетических систем, которые могут быть поняты как социальные. На этом уровне следует определить специфическую операцию, аутопойетический процесс которой ведет к образованию социальных систем в соответствующем им окружающем мире. Теория социальных систем, следовательно, обобщает все высказывания (и лишь такие высказывания), которые имеют силу для всех социальных систем, даже для систем интеракции с их малой длительностью и ничтожным значением16.
16 См. об этом мои предварительные разработки: [26].
На этом уровне общество оказывается (как и классическое societas civili.s) одной из многих социальных систем, и его можно сравнивать с другими типами социальных систем - системами организации и системами интеракции присутствующих*.
Лишь на третьем уровне сказывается специфика систем общества. Здесь необходимо артикулировать значение того самого признака, который восходит к начальным положениям «Политики» Аристотеля. В основании явно лежит парадокс. Он состоит в том, что одна социальная система среди других (koinonia) одновременно включает в себя другие системы. Аристотель разрешал этот парадокс эмфазой, а в конечном счете - этическим пониманием политики. Тем самым для традиционного понимания общества парадокс был сделан невидимым. Мы же размыкаем парадокс путем предложенного здесь различения уровней анализа общества. Это допускает возможность при удобном случае напоминать о парадоксальном фундировании всей теории. (Ведь различение «уровней» - это, в наших понятиях, «форма», которая имеет две стороны; понятие уровня предполагает, что есть другие уровни.)
Хотя мы различаем эти уровни, но предметом наших исследований (их «референтной системой»**) является система общества.
* Луман различает три типа, или три уровня образования социальных систем. Системы интеракции образованы коммуникациями между теми, кто непосредственно присутствует. Системы организации основываются на формальных правилах членства. Общество объемлет все эти системы. Но они не являются его частями или подсистемами. Общество - это другой тип, другой уровень образования системы.
** Такой вариант перевода мы предлагаем для столь частого у Лумана понятия « Systemreferenz ». Оно, таким образом, выбивается в нашем переводе из ряда аналогично образованных у Лумана понятий, которые мы попытались передать одним словом: «Selbstreferenz» - «самореференция» и «Fremdreferenz» «инореференция» (т. е. референция, отсылка к другому, к чужому).
Иными словами, мы различаем в нашем предмете исследования (обществе) уровни анализа, и в данном контексте больше уже не занимаемся системами, которые могли бы быть тематизированы также и на других уровнях. Методологически различение уровней ведет к требованию исчерпать возможности абстракции, распространить сравнение систем на сколь возможно более разнородные системы и при оценке уровней большей общности опираться по возможности на результаты познания, полученные при анализе общества. При всем том, речь не идет о заключениях по аналогии, чего все время опасаются социологи; речь также не идет и о «только метафорическом» использовании богатства биологических идей. Различение не имеет никакого отношения к высказываниям о бытии или о сущности вещей в смысле «analogia entis»*. Оно представляет собой не что иное, как форму размыкания парадокса - единства, заключающего себя в самом себе. Специфическая функция этого различения состоит в том, чтобы способствовать междисциплинарному обмену идеями и повышать потенциал взаимного инициирования. Итак, это не высказывание о бытии, но специфическая научная конструкция.
* Аналогия бытия (лат.). Имеется в виду схоластическое учение о соответствии, сходстве преходящих вещей и Творца в том отношении, что Все они суть, хотя несходство их в том, что Бог еще и над всем бытием.
На всех уровнях анализа системы общества для спецификации необходимых теоретических решений мы будем пользоваться средствами теории систем. Общая теория ауто-пойетических систем требует, чтобы точно была указана та операция, которая совершает аутопойесис системы и тем самым отграничивает систему от ее окружающего мира. В случае социальных систем это происходит через коммуникацию.
У коммуникации есть все необходимые свойства: она является изначально социальной (причем единственной изначально социальной) операцией. Она изначально социальна, поскольку, хотя и предполагает множество совместно действующих систем сознания, но (именно поэтому) не может быть - как единство - вменена ни одному отдельному сознанию. Она социальна также и постольку, поскольку «общее» (коллективное) сознание ни коим образом и ни в каком смысле произведено быть не может, т. е. и согласие [Konsens] как полное согласование в строгом смысле слова недостижимо, а вместо этого функционирует коммуникация17.
17 На это указывает А. Хаан. Взаимопонимание, говорит он, может включать в себя фиксацию согласия, но может использовать и другие средства, чтобы коммуникация продолжалась даже при расхождении психических состояний. См.: [20].
Коммуникация, если иначе сформулировать тот же самый аргумент, аутопойетична постольку, поскольку может быть произведена лишь в рекурсивной связи с другими коммуникациями, т. е. в сети коммуникаций, в воспроизводстве которой каждая отдельная коммуникация участвует самостоятельно.
К тому же - и это отличает коммуникацию от биологических процессов любого рода - речь идет об операции, которая наделена способностью к самонаблюдению. Каждая коммуникация должна одновременно и сообщать, что она есть коммуникация, и помечать, кто что сообщил, чтобы могла быть определена подсоединяющаяся к ней коммуникация, т. е. чтобы мог быть продолжен аутопойесис. Следовательно, она не просто производит как совершаемая операция некое различие (и это тоже!), но, чтобы наблюдать совершение операции, она еще использует специфическое различение, а именно, различение сообщения и информации.
Понимание этого влечет за собой очень серьезные следствия. Дело не только в том, что идентификация сообщения как «действия» есть конструкт, созданный наблюдателем, т. е. конструкт наблюдающей самое себя системы коммуникации. Дело также и в том, что социальные системы (включая общество) могут осуществиться только как наблюдающие самое себя системы. Эти рассуждения заставляют нас, в противоположность Парсонсу и всему тому, что имеет ныне хождение на рынке идей под названием «теория действия» , отказаться от (неизбежно индивидуалистического) обоснования социологии как науки о действии. Одновременно у нас появляется проблема, первоначально, правда, - не более, чем проблема системы, вынужденной постоянно наблюдать самое себя, причем наблюдение, как сказано выше, есть зависящая от различения операция, которая в момент самого своего совершения функционирует как исключенное третье. Всякое самонаблюдение тоже обусловлено слепым пятном. Оно возможно только потому, что не может видеть свое видение. Таким образом, сама коммуникация оперативно функционирует как единство различия информации, сообщения и понимания; но для самонаблюдения она использует различение информации, сообщения и понимания, чтобы иметь возможность устанавливать, должна ли последующая коммуникация реагировать на сомнение в информации, на предполагаемые намерения [отправителя] сообщения (например, намерение ввести в заблуждение) или на трудности понимания. Следовательно, ни одно самонаблюдение не в состоянии полностью постичь действительность той системы, которая его совершает. Оно может лишь сделать что-то вместо этого, только выбрать эрзац-решения; а это происходит путем выбора различений, посредством которых система совершает самонаблюдения. Если система достаточно сложна, то она может от наблюдения своих операций перейти к наблюдению своего наблюдения и, в конечном счете, к наблюдению самой системы. В этом случае она должна положить в основу различение системы и окружающего мира, т. е. суметь различать самореференцию и инореференцию. Но и это происходит посредством операций системы в системе - иначе это не было бы самонаблюдение. Различение самореференции и инореференции - это различение, которое практикуется в системе и рефлектирует себя как таковое. Мы можем также сказать, что оно является конструкцией системы.
Из-за невозможности узреть полноту бытия и сделать систему прозрачной для себя самой, возникает сложный комплекс различений, руководящих системным процессом наблюдения, направляющих его внутрь или вовне, в зависимости от того, какая сторона различения обозначается как «внутреннее» или «внешнее». Тогда система, например, если она располагает соответствующими накопительными Устройствами, например, письмом, может собирать опыт, конденсировать, благодаря повторению, ситуативные впечатления и выстраивать оперативную память, не подвергаясь при этом опасности постоянной путаницы, т. е. не смешивая себя самое окружающим миром. Все это связано с основным различением: «самореференция/инореференция», а также подходящими для определенных случаев Другими различениями.
Понятие самонаблюдения не предполагает, что в системе всякий раз есть только одна такая возможность. Много коммуникаций может одновременно практиковаться и одновременно самонаблюдаться. То же самое относится и к наблюдению единства системы в отличие от окружающего мира. Социальная система и в особенности, конечно же, общество может наблюдать себя одновременно или последовательно совершенно различным - мы будем говорить «по-ликонтекстуральным»* - образом. Итак, применительно к объекту, ничто не вынуждает интегрировать наблюдения. Система делает то, что делает.
* Это понятие восходит к известному немецкому философу и логику Г. Гюнтеру, на что в других случаях указывает сам Луман. См.: [19].
Это относится к социальным системам самого разного рода, например, и к организациям, и, как знают семейные терапевты, к семьям. И если мы теперь начинаем говорить о третьем уровне, на котором должна рассматриваться специфика системы общества, то здесь проблемы многообразия возможных самонаблюдений оказываются особенно очевидными, а их масштаб - особенно заметным. Ведь общество как объемлющая социальная система не знает никаких социальных систем вне своих границ. То есть оно вообще не может наблюдаться извне18.
18 П. Ливе говорит в этом случае об «эпистемологической замкнутости»; однако одновременно он констатирует, что тем самым еще отнюдь не гарантируется единство единственно-верного самоописания. См.: [23]
Правда, психические системы могут наблюдать общество извне, но это остается без социальных последствий, если не коммуницируется, т. е. если наблюдение не практикуется в социальной системе. Общество, иными словами, - это предельный случай поли-контекстурального самонаблюдения, предельный случай системы, которая вынуждена наблюдать себя самое, не становясь при этом объектом, о котором возможно лишь одно единственное правильное мнение, всякое отклонение от которого следовало бы рассматривать как заблуждение. Даже если общество рутинным образом отличает себя от окружающего мира, заранее отнюдь не ясно, что именно отличается тем самым от его окружающего мира. И даже если изготовляются тексты, т. е. описания, которые управляют наблюдениями и координируют их, это не означает, что всякий раз есть только одно истинное описание. Нельзя просто гак, без оговорок и уточнений, утверждать, будто южнокитайские рыбаки, подобно бюрократам и мандаринам, усматривали основы империи в конфуцианской этике. Индийская кастовая система как отображение единства через различие тоже принимала регионально весьма различные формы, несовместимые с единством иерархического порядка. И кто еще, помимо клира, дворянства и юридически образованных судей и управленческих чиновников, знал учение о трех сословиях позднего Средневековья и верил в него? Все это остается вопросом эмпирическим. С точки зрения крестьян, такое общество было скорее обществом с одним классом, не считая данного конкретного землевладельца и его семью.
В случае с обществом именно нет такого внешнего наблюдения, которое позволило бы скорректировать наше собственное - как бы ни старались писатели и социологи найти такую позицию. Традиция экстернализировала заинтересованность в безошибочном описании и называла соответствующую позицию Богом. Бог_мог все,_только не ошибаться. Но тогда приходилось еще принимать во внимание, что суждение священников о суждении Бога может быть ошибочным и правильное описание, истинный регистр грехов станет, дескать, известным только в конце времен на Страшном суде, а именно, в форме некоторой неожиданности.
Основываясь на этом тезисе об избытке возможностей самонаблюдения и самоописания мы попытаемся в завершающей главе показать, что самоописания вместе с тем совершаются не случайно. Имеются структурные условия приемлемости изложений; имеются исторические тенденции в эволюции семантик, которые сильно ограничивают пространство вариаций. Тогда социологическая теория может познавать связи типа корреляций между структурами общества и семантиками*; но одновременно она может знать и то, что такие теории суть ее собственные конструкты и что их нельзя путать с ходячими в данное время представлениями системы общества.
* См. многотомный труд самого Лумана «Структура общества и семантика. Исследования по социологии знания современного общества» [24].
Когда мы говорим, что только коммуникации и все коммуникации вносят свой вклад в аутопойесис общества, то и в этом тезисе кроется решительный разрыв с традицией. Здесь уже речь не идет ни о целях, ни о чистых помыслах, ни о кооперации, ни о споре, ни о согласии, ни о разногласии, ни о приятии, ни об отклонении востребованного смысла. Сам аутопойесис (и это сильно уменьшает объяснительную силу понятия) транспортируется всеми эти этими коммуникациями. Сюда же, конечно, относятся все коммуникации, которые следует причислить к частным системам общества. Поэтому такие различения, как «хозяйство и общество», «право и общество», «школа и общество» вносят путаницу, и наша теория их не допускает. Они создают впечатление, будто бы компоненты различения исключают друг друга, в то время как на самом деле хозяйство, право, школа и т. д. должны мыслиться не как нечто вне общества, но как то, что совершается обществом. Иначе здесь будет бессмыслица того же рода, что и при попытке различать женщин и людей, - только намного более распространенная.
«Все коммуникации» означает, что коммуникации действуют аутопойетически, поскольку их отличие не составляет отличия*. Следовательно, само то, что совершаются коммуникации, в обществе отнюдь не является неожиданностью, а значит, - и информацией. (Иначе обстоит дело, конечно, с психическими системами, к которым вдруг [кто-то] обращается**.)
* Т. е. само по себе многоразличие коммуникаций не информативно для системы, потому что, согласно понятию аутопойетической системы, каждая операция делает различение (macht Unterscheidung), т. е. составляет отличие (macht Unterschied), отлична от другой.
** Общество есть система коммуникаций, и для него фактичность коммуникации как коммуникации не неожиданна и не информативна. Психическая система может участвовать и не участвовать в коммуникации. Сам факт обращения к ней (попытка вступить в коммуникацию) есть уже отличие.
С другой стороны, коммуникация - это именно актуализация информации. Следовательно, общество состоит из взаимосвязи тех операций, которые не составляют отличия, поскольку составляют отличие. Это отводит на второстепенные теоретические позиции все предпосылки относительно взаимопонимания, прогресса, рациональности или иных, охотно усматриваемых целей. Поэтому затем столь важна окажется теория символически генерализованных средств коммуникации.
«Все коммуникации» включают в себя даже парадоксальные коммуникации, т. е. такие, которые отрицают, что они говорят о том, о чем говорят. Можно коммунициро-вать парадоксально, но при этом отнюдь не «бессмысленно» (в том смысле, что непонятно, т. е. без аутопойетического эффекта)19. Парадоксальная коммуникация функционирует как операция, даже если она - и это ее намерение хорошо понятно - вводит в заблуждение наблюдателя. Как классическая риторика, так и современная литература, как философская традиция Ницше-Хайдеггера, так и семейные психотерапевты открыто используют парадоксы; более того, стало уже обычным при наблюдении наблюдения других обращать внимание на скрытые парадоксы. Функция парадоксальной коммуникации не вполне прояснена, быть может, сама эта функция парадоксальна, поскольку является попыткой соединить в одном акте деструкцию и творение. Мы еще не раз вернемся к этому. Пока что достаточно будет зафиксировать, что тем самым в затруднении оказывается не аутопойетическая операция, а только ее наблюдение 20
19 Ср. примеры этого в кн.: [28].
20 И. Баре ль, видимо, имеет в виду нечто сходное, различая логические и экзистенциальные парадоксы. Последние неизбежны в системе, располагающей возможностями самореферентных операций. См.: [38, 19 ff.].
IV. Оперативная замкнутость и структурные стыковки.
Если описывать общество как систему, то из общей теории аутопойетических систем будет следовать, что речь должна идти об оперативно замкнутой системе. На уровне собственных операций [у него] нет контакта с окружающим миром. Это имеет силу даже в тех случаях - мы должны специально указать, сколь трудна эта идея, противоречащая всей традиции теории познания, - когда речь идет об этих операциях как наблюдениях или же об операциях, аутопойесис которых требует самонаблюдения. На уровне собственных операций [у системы] нет контакта с окружающим миром. Это имеет силу даже в тех случаях - приходится специально указать, сколь трудна эта идея, противоречащая всей традиции теории познания, - когда речь идет об этих операциях как наблюдениях или же об операциях, аутопойесис которых требует самонаблюдения. На уровне совершения операций контакта с окружающим миром нет и для наблюдающих систем. Всякое наблюдение окружающего мира должно быть проведено в самой системе как ее внутренняя активность с помощью ее собственных различений (которым ничего не соответствует в окружающем мире). Всякое наблюдение окружающего мира предполагает различение самореференции и инореференции, которое может быть сделано только в самой системе (где же еще?). А это вместе с тем позволяет понять, почему всякое наблюдение окружающего мира стимулирует самонаблюдение, а всякое дистанцирование от окружающего мира заставляет поставить вопрос о самости, о собственной идентичности. Ведь поскольку наблюдать можно только посредством различений, то одна сторона различения, так сказать, заставляет любопытствовать относительно другой стороны, стимулирует пересечение (Спенсер Браун сказал бы «crossing») пограничной линии, помечаемой формой «система и окружающий мир».
Следствием оперативной замкнутости является то, что система не может обойтись без самоорганизации. Ее собственные структуры могут быть выстроены и изменены лишь при помощи ее собственных операций - например, язык может строиться и меняться лишь при помощи коммуникации, а не непосредственно благодаря огню, землянике, космическим лучам или восприятиям отдельного сознания. Закрытость и открытость вместе делают систему (и в этом состоит эволюционное преимущество) в высокой степени совместимой с беспорядком в окружающем мире, точнее: с окружающими мирами, упорядоченными лишь фрагментарно, отрывочно, в отдельных системах, но не как единство. Эволюция в этом отношении почти с необходимостью приводит к замыканию систем, благодаря чему, в свою очередь, возникает совокупный беспорядок, в противоположность которому и утверждаются оперативная замкнутость и самоорганизация. В том же самом смысле и оперативная замкнутость общества как системы коммуникаций соответствует факту возникновения подвижных организмов с нервной системой, а в конечном счете - и сознанием. Общество только усиливает (потому что выносит) некоординированное многообразие перспектив эндогенно неспокойных отдельных систем.
В русле собственной традиции теории систем тезис о закрытости систем должен казаться экстравагантным. Ведь сама эта теория конституировалась с учетом закона энтропии, именно как теория открытых (и потому - кегэнтропических) систем. Отказываться от этой позиции, (в отношении закона энтропии) конечно, не следует. Закрытость систем следует понимать не как термодинамическую изолированность, но только как оперативную закрытость, т. е. рекурсивное создание возможностей для собственных операций посредством результатов своих собственных операций.
Ведь исходить следует из того, что реальные операции возможны только в мире, который существует одновременно. Прежде всего, это исключает, что одна операция влияет на другую. И если это все-таки должно быть возможно, то лишь так, что одна операция непосредственно подсоединяется к другой. Но такие рекурсивные отношения, в которых совершение одной операции есть условие возможности другой операции, ведут к дифференциации систем, в которых это часто реализуется структурно очень сложным образом, и существующего одновременно окружающего мира этих систем. Результат этого мы и называем оперативной замкнутостью.
Всю эту тему можно рассматривать и применительно к системам сознания, показывая, почему и как современная взаимная дистанцированность индивида и общества побуждает индивида к рефлексии, к вопросу о Я [его] Я, к поискам собственной идентичности. Все, что только было увидено, все, чем только был мир - все это «вовне». А что тогда «внутри»? Неопределимая пустота? А если применить теорию аутопойетических систем к обществу, то придешь к такому же результату, только в отношении другого способа оперирования, а именно коммуникации.
Общество есть коммуникативно закрытая система. Оно производит коммуникацию посредством коммуникации. Коммуницировать может только оно само - но не с самим собой и не со своим окружающим миром. Оно производит свое единство посредством оперативного совершения коммуникаций, рекурсивно обращенных к предыдущим и предвосхищающих последующие коммуникации. Затем, если оно основывается на схеме наблюдения «система и окружающий мир», коммуницировать в себе самом, о себе самом или о своем окружающем мире, но только не с самим собой и не со своим окружающим миром. Потому что ни оно само, ни его окружающий мир не могут еще раз появиться в обществе словно бы как партнеры, как адресаты коммуникации. Такая попытка увела бы в никуда, не привела бы в действие аутопойесис и потому не состоялась бы. Ибо общество возможно только как аутопойетическая система.
Эти констатации - сами по себе очевидные и не требующие дальнейших доказательств - влекут за собой очень серьезные теоретические последствия и поэтому нуждаются в дополнительном объяснении. Реальная возможность коммуникации основана, конечно, на множестве фактических предпосылок, которые сама система не может ни произвести, ни гарантировать. Закрытость всегда есть включенность* в нечто, что, если смотреть изнутри, находится вне. Иначе говоря, всякое возведение и сохранение границ системы (т. е., разумеется, и живых существ) предполагает материальный континуум, который не знает и не принимает в расчет эти границы. (Поэтому Пригожий уже применительно к физическим и химическим фактам может говорить о «диссипативных структурах»**). Тогда встает вопрос: как система (в нашем случае - общественная система) формирует свои отношения к окружающему миру, если она не может поддерживать контакт с ним. Вся теория общества зависит от ответа на этот вопрос - и мы теперь видим также, что (и каким образом) гуманистическое и регионалистское понятие общества избегало даже самой постановки этого вопроса.
* Игра слов: Geschlossenheit... Eingeschlossenheit.
** См., напр.: [3, 18, 56-58, 197-198].
На трудный вопрос отвечает трудное понятие. Вслед за Хумберто Матураной мы намерены говорить о «структурной стыковке»21. Это предполагает, что каждая аутопойетическая система совершает операции как структурно детерминированная система, т. е. может детерминировать свои операции только посредством собственных структур. Структурная стыковка, таким образом, исключает, что данности окружающего мира смогут специфицировать совершающееся в системе. Матурана сказал бы, что структурная стыковка расположена ортогонально к самодетерминации системы22.
21 См.: [32, 143 if., 150 ff., 243 f., 251 if.]. На трудность отграничения собственных операций системы от каузальных связей, которые через структурные привязки воздействуют на нее, указывают постоянно. См., напр.[15, 204]. Мы попытаемся разрешить эту проблему посредством как можно более точного определения понятия коммуникации.
22 См., напр.: [30, 64].
Структурная стыковка не определяет, что именно происходит в системе, но ее следует предполагать, потому что иначе аутопойесис был бы парализован и система перестала бы существовать. Поэтому система либо приспособлена к своему окружающему миру, либо она не существует, но в пределах, задаваемых ее приспособленностью, она имеет все возможности вести себя неприспособленно - а результат в особенности хорошо виден в экологических проблемах современного общества.
В этом смысле любая коммуникация привязана к сознанию. Без сознания коммуникация невозможна. Но сознание не есть ни «субъект» коммуникации, ни - в каком-либо ином смысле - «носитель» коммуникации. Поэтому нам придется отказаться и от классической метафоры, говорящей о коммуникации как «перенесении» семантических содержаний от одной психической системы, которая уже располагает ими, на другую23. Не человек, но только коммуникация может коммуницировать. Коммуникация образует эмерджентную реальность sui generis. Системы сознания, равно как и системы коммуникации (а равным образом - с другой стороны - и мозг, клетки и т. д.) суть оперативно закрытые системы, которые не могут поддерживать контакта между собой. Нет никаких коммуникаций от сознания к сознанию и нет коммуникации между индивидом и обществом. Всякое достаточно точное понимание коммуникации исключает такие возможности (а также и другую возможность: мыслить общество как коллективный дух). Только сознание может мыслить (но отнюдь не переносить свою мысль в иное сознание*), и только общество может коммуницировать. И в обоих случаях речь идет о собственных операциях оперативно закрытой, структурно детерминированной системы.
* В оригинале - непереводимое словообразование: «ineinanderesBewuB-tseinhinuberdenken», т. е. «думать за пределы себя в иное сознание».
23 Многие предпосылки, на которых основывается это понятие, ныне оспариваются даже когнитивной психологией, в частности, например, предположения, что коммуникация выражает в словах уже имеющиеся мысли, что слова функционируют в процессе переноса как носители определенного семантического содержания, что понимание - это обратный процесс перевода слов в мысли и что семантика, со всем тем, означает процесс репрезентации, как в психической системе, так и в коммуникации. См. об этом: [41]. Отсюда следует, что семантика должна пониматься, исходя из прагматики (т. е. аутопойесиса коммуникации), а не наоборот, как это общепринято.
Для понимания тем не менее существующей, совершенно регулярной, необходимой связи между сознанием и коммуникацией мы используем понятие структурной стыковки. Структурная стыковка функционирует всегда и незаметно, она существует даже тогда и именно тогда, когда о ней не думают и не говорят - так, как на прогулке могут сделать следующий шаг, не думая о физически необходимом для этого собственном весе. И подобно тому, как вес лишь в пределах очень малой части [всех] возможностей позволяет совершать прогулку (иными словами: подобно тому, как сила притяжения земли не могла бы стать ни чуть больше, ни чуть меньше), так и системы сознания и системы коммуникации заранее настроены друг на друга, что позволяет им затем функционировать, незаметно координируясь. Что дело обстоит именно так и что тем самым реализуется весьма малая часть множества возможностей, поддается (как и возможность совершать прогулку) эволюционно-теоретическому объяснению.
Это незаметное, бесшумное функционирование структурной стыковки коммуникации и сознания отнюдь не исключает того, что участников коммуникации идентифицируют и даже обращаются к ним в коммуникации. В этом аспекте мы присоединимся к старой традиции и будем называть их «лицами» [Personen], утверждая тем самым, что коммуникация в состоянии «персонифицировать» внешние референции. Каждая коммуникация должна быть способна различать информацию и сообщение (иначе она сама была бы неразличима). Но это значит, что образуются соответствующие предметные и личные референции. В понятиях Спенсера Брауна [17, 10] можно было бы сказать также, что повторное употребление таких референций конденсирует лица (или вещи), т. е. фиксирует их как идентичные, и одновременно подтверждает их, т. е. обогащает новыми смысловыми аспектами из других сообщений. Если это происходит, то развивается и соответствующая семантика. У лиц есть имена. Что именуется личным и как с этим следует обходиться, может быть в сложных формах описано более подробно. Но все это ничего не меняет в обособленности и оперативной закрытости структурно состыкованных систем. А современная семантика жизни, субъективности, индивидуальности особенно производит такое впечатление, как будто она была придумана, чтобы уравновесить эту неотменимую изолированность24.
24 См. об этом подробнее: [25].
Через структурную стыковку система может быть подсоединена к очень сложным системам окружающего мира, причем ей нет необходимости вырабатывать у себя или реконструировать их сложность. Сложность этих систем окружающего мира остается непрозрачной для системы, эта сложность не переносится в ее собственный способ совершения операций, потому что для этого нет, говоря словами Эшби, «необходимой изменчивости»25. По большей части, она реконструируется в ее собственных операциях лишь в форме предпосылки и помехи или нормальности и возбуждения. В системах коммуникации и такие совокупные обозначения, как имена, или такие понятия, как «человек», «лицо», «сознание», также служат для процессуальной референции к сложности окружающего мира. Речь все время идет о том, чтобы использовать упорядоченную (структурированную, но отнюдь не поддающуюся калькуляции) комплексность по мерке собственных возможностей совершения операций; применительно к обществу это означает: речевым образом. В том случае, если такие отношения развиваются через обоюдную коэволюцию и ни одна из систем, структурно стыкованных подобным образом, не могла бы существовать без них, можно говорить также о взаимопроникновении26. Хорошим примером этого является отношение нервных клеток и мозга; другой пример (близкий первому также и в чисто количественном отношении) - отношение систем сознания и общества.
Легко увидеть, что регулярная структурная стыковка систем сознания и систем коммуникации становится возможной благодаря языку. С точки зрения эволюции, язык представляет собой чрезвычайно невероятный род шума, который именно в силу этой невероятности обладает высокой ценностью для привлечения внимания и очень сложными возможностями спецификации. Если говорится*, то присутствующее при этом сознание легко может отличить такой шум от других шумов и едва ли способно избежать захватывающего очарования текущей коммуникации (что бы оно при этом ни думало в собственной неслышной системе).
25 См.: [9, 206 ff.; 7; 4].
26 См. об этом подробнее: [26, 286 ff.].
* Луман использует здесь безличный пассивный оборот: «gesprochen wind» - т.е. отличается, воспринимается как информация сам факт разговора, до идентификации его участников.
Одновременно специфицирующие возможности языка позволяют выстраивать очень сложные структуры коммуникации, т. в., с одной стороны, делают возможным усложнение и новую шлифовку речевых правил, а с другой, - построение социальных семантик для ситуативного реактиви-рования важных возможностей коммуникации. То же самое mutatis mutandis относится и к языку, перенесенному из акустической в оптическую среду, т. е. к письму. О крайне значительных, все еще недооцененных результатах такой «оптизации» языка мы еще скажем более подробно в следующей главе.
В контексте теории системы общества не целесообразно разрабатывать теорию языка, основанную на этой функции структурной стыковки (для этого пришлось бы сделать что-то несоразмерно обширного экскурса). Укажем только, что мы тем самым вступаем в противоречие с основными предпосылками соссюровой лингвистики: язык не совершает операции своим собственным способом, он сам должен совершаться либо как мышление, либо как коммуникация; а следовательно, язык не образует и своей собственной системы. Он всегда зависит от того, что, с одной стороны, системы сознания и, с другой, - система коммуникации общества продолжают свой аутопойесис посредством совершенно закрытых собственных операций. Если бы это не происходило, каждая система сразу бы прекратила свое существование, а вскоре вслед за тем не могла бы уже быть помыслена в языке.
Структурная стыковка через язык систем коммуникации с системами сознания, а также систем сознания с системами коммуникации, имеет весьма серьезные последствия для структурного построения соответствующих систем, т. е. для их морфогенеза, для их эволюции. Иначе, чем системы сознания, которые способны к чувственному восприятию, коммуникация может быть аффицирована только сознанием. Все, что влияет на общество извне, не будучи коммуникацией, должно поэтому пройти двойной фильтр: сознания и возможности коммуникации. Необходимо в полной мере уяснить себе, что здесь идет огромный и, с точки зрения эволюции, весьма невероятный процесс отбора, одновременно обусловливающий значительную степень свободы общественного развития. Физические, химические, биологические процессы непосредственно не достигают коммуникации - разве что в смысле ее деструкции. Грохот или лишение воздуха, или пространственная дистанция могут исключить возможность устной коммуникации. Книги могут сгорать или даже быть сожжены. Но огонь никогда не напишет книги и даже не сможет раздражить пишущего книгу настолько, чтобы он, пока книга горит, писал бы ее иначе, чем если бы огня не было. Таким образом, сознание занимает привилегированное положение среди всех внешних условий аутопойесиса. Оно известным образом контролирует доступ внешнего мира к коммуникации - но не потому, что является «субъектом» коммуникации, не как «лежащая в основании»* ее некая сущность, но благодаря своей способности к восприятию (в свою очередь, сильно отфильтрованному, самопроизведенному), которое, со своей стороны, в условиях структурной стыковки зависит от нейрофизиологических процессов мозга и, через них, - от других процессов аутопойесиса жизни.
* Имеется в виду греческое thypokeimenon*, т. е. «лежащее в основании», «подлежащее», что буквально и означает латинское tsubjectumt.
Прямая состыкованность систем коммуникации только с системами сознания, от избирательности которых они, таким образом, выигрывают, не будучи ими специфицированы, действует как панцирь, препятствующий, в основном, влиянию совокупной реальности мира на коммуникацию. Ни одна система не смогла бы быть достаточно сложной, чтобы выдержать это и тем не менее сохранить свой аутопойесис. Лишь благодаря такой защите смогла развиться система, реальность которой состоит в процессуальном оперировании с одними только «знаками». Здесь следует также принять во внимание, что число систем сознания очень велико; теперь их - около пяти миллиардов одновременно действующих единиц. Даже если учесть, что на другой стороне земного шара они в настоящий момент спят, а Другие не принимают участия ни в каких коммуникациях по иным причинам, то число одновременно совершающих операции систем все равно будет таким большим, что возможность эффективной координации между ними (а тем самым - и образование согласия в эмпирически ощутимом смысле) совершенно исключается. Поэтому система коммуникации необходимо основана лишь на себе самой и лишь сама собой может руководить. Она способна на это, поскольку ей удается активизировать в своем окружающем мире необходимый для этого материал сознания.
Наконец, понятием структурной стыковки объясняется и то, что хотя системы детерминированы только самими собою, но в общем и целом, они развиваются в определенном направлении, терпимом для окружающего мира. Внутреннюю, системную сторону структурной стыковки можно обозначить понятием раздражения (помехи, возмущения). В этом аспекте системы (и системы сознания, и система коммуникации общества) совершенно автономны. Раздражения являются результатом внутреннего сравнения событий (сначала неспецифированных) с собственными возможностями, прежде всего, со структурами, созданными в системе, с ожиданиями. Таким образом, в окружающем мире системы нет раздражений, нет и переноса раздражений из окружающего мира в систему. Речь всегда идет о собственном конструкте системы, о самораздражении, поводом к которому служат, конечно, воздействия окружающего мира. У системы есть возможность либо находить причину раздражения в себе самой и затем учиться на этом, либо же приписывать раздражение окружающему миру и рассматривать его затем как «случай», либо, наконец, искать источник раздражения в окружающем мире и элиминировать его. Эти различные возможности тоже заложены в совершаемом самой системой различении самореференции и инореференции; и если уж кто-то располагает возможностью для их различения, то можно также сменить перспективы и [по-другому] скомбинировать реакции. Так, например, можно идентифицировать причины [раздражения] в окружающем мире, но в то же время учиться.
Длительные раздражения определенного типа, например, постоянное раздражение маленького ребенка особенностями языка или раздражение основанного на сельском хозяйстве общества восприятием климатических условий, направляют структурное развитие в определенном направлении, ибо эти системы подвержены раздражениям, исходящим от весьма специфических источников, и они поэтому постоянно заняты сходными проблемами. Конечно, мы отнюдь не собираемся вернуться к теориям климата и культуры» XVIII в.; из наших рассуждений не следует также, что мы были бы готовы принять социологическую теорию социализации. Во всех этих случаях надо учитывать множество системных референций и работать с теоретическими моделями соответствующей сложности. Во всяком случае, окружающий мир лишь в условиях структурной стыковки и лишь в рамках канализированных и умноженных тем самым возможностей самораздражения способен влиять на структурное развитие систем.
Все это относится и к современному обществу. Но здесь еще добавляется то обстоятельство, что окружающий мир, со своей стороны, сильнее, чем когда-либо прежде, меняется под воздействием общества. Это касается физических, химических и биологических условий жизни, т. е. того комплекса, который обычно обозначают как «экологию». И то же самое - уж это точно! - касается деформации психических систем в современных условиях жизни, например, всего того, что пытаются выразить в понятии современного индивидуализма или при помощи теории растущих притязаний. Как в экологическом гиперцикле, сегодня структурные стыковки между системой общества и окружающим миром испытывают давление изменчивости, причем темп перемен столь высок, что невольно возникает вопрос: может ли (и если да, то как именно) раздражаемое таким образом общество, вынужденное вменять все эти перемены самому себе, учиться на этом достаточно быстро.
Оперативная закрытость дает нам, наконец, ключ к теории дифференциации систем, о которой более подробно будет сказано в гл. 4. Как бы ни выделяло в себе общество социальные системы через дифференциацию, поводом для этого всегда является бифуркация его собственных операций. Речь никогда не идет об отображении различений, которые уже имеются в окружающем мире. Только очень примитивные общества экспериментировали с опорой на такие антропологические данности, как пол и возраст, однако это оказалось эволюционным тупиком. Уже образование семей и сегментарная дифференциация [общества] ведут дальше. И если затем структурным различениям приписывается дискриминирующее значение (например: «крестьянин/кочевник», «горожанин/селянин»; в наше время таковы иногда расовые различия), то речь идет однозначно о социальных аспектах, обретающих весомость лишь в той мере, в какой они могут быть связаны с формами дифференциации системы. С точки зрения генезиса, речь идет лишь о собственных результатах системы коммуникации: отклонение [в ходе операций] бывает возбуждено, оно наблюдается, тестируется, отбрасывается или же усиливается и используется для подсоединения все большего числа [операций]. При этом воздействие оказывают также самореферентные и инореферентные компоненты. Поэтому дифференциация системы всегда приводит также к выдифферен-циации системы в смысле прерывания мельчайших совпадений компонентов системы и компонентов ее окружающего мира. И именно это прерывание делает для системы неизбежными попытки справиться с неким интерпретированным окружающим миром.
ЛИТЕРАТУРА
1.Аристотель. Политика/ Пер. С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения: В 4-ч т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
2.Башляр Г. Новый рационализм. М.: Прогресс, 1987.
3.Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
4.Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М., 1959.
5.Эшби У. Р. Принципы самоорганизации // Принципы самоорганизации. М., 1966.
6.Alexander Ch. Notes on the Synthesis of Form. Cambridge Mass., 1964.
7.Ashby W. Ross. Requisite Variety and Its Implications for the Control of Complex Systems // Cybernetica. 1958. Vol. 1. P. 83-99.
8.Ashby W. R. Principles of the Self-Organizing System // Principles of Self-Organization / Foerster H.v., Zopf G. W. (Eds.) N.Y., 1962. P. 255-278.
9.Ashby W. Ross. An Introduction to Cybernetics. London, 1956.
10.Allan H. Disorder, Complexity and Meaning // Disorder and Order: Proceedings of the Stanford International Symposium / Livingstone P. (Ed.). Saratoga Cal., 1984. P. 109-128.
11.Allan H. Entre le cristal et la fume. Paris, 1979.
12.Allan H. L’emergence du nouveau et du sense // L’autoorganisation: De la physique au Politique / Dumouchel P., Dupuy J.-P. (Eds). Paris, 1983.
11.Bachelard G. La formation de 1’esprit scientifique: Contribution a une Psychoanalyse de la connaissance objective. Paris, 1947.
13.Barel Y. Le paradoxe et le systeme: Essai sur le fantastique social. 2-nde ed. Grenoble, 1989.
14.Braten S. Simulation and Self-Organization of Mind // Contemporary Philosophy. 1982. Vol. 2. P. 189-218
15.Bunge M. A Systems Concept of Society: Beyond Individualism and Holism // Theory and Decision. 1979. Vol. 10. P. 13-30;
16.Burger P. Prosa der Moderne. Frankfurt a.M., 1988.
17.Foerster H. V. On Self-organizing Systems and Their Enviroments // Self-organizing Systems: Proceedings on an Interdisciplinary Conference. / Ed. by Yovits M. C., Cameron S. Oxford, 1960. P. 31-50.
18.Giinther G. Life as poly-contexturality// Gunther G. Beitrage zur Grundlegung einer operationsfahigen Dialektik. Bd. 2. Hamburg, 1979. S. 283-306.
19.Hahn A. Verstandigung als Strategic II Kultur und Gesellschaft: Sozio-logentag Zurich 1988 / Haller M., Hoffmann-Nowotny H.-J., Zapf W. (Hrsg.) Frankfurt a.M, 1989. S. 346-359.
20.Hejl P. M. Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme. Frankfurt a.M., 1982.
21.Hejl P. M. Zum Begriff des Individuums - Bemerkungen zum unge-klarten Verhaltnis von Psychologic und Soziologie /’ Systeme erkennen Systeme / Hrsgg. v. Schiepek G. Munchen. 1987. S. 115-154.
22.Livet P. La fascination de 1’auto-organisation // L’auto-organisation: De la physique au politique / Paul Dumouchel. Jean-Pierre Dupuy (eds.) Paris, 1983’. P. 165-171.
23.Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissens-soziologie der modernen Gesellschaft. Bde. 1-4. Franfurt a.M.: Suhrkamp, 1980-81-89-95.).
24.Luhmann N. Individuum, Individualitat, Individualismus //’ Luhmann N. Gesellschafsstruktur und Semantik. Bd. 3. Frankfurt a.M., 1989. S. 149-258.
25.Luhmann N. Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M., 1984.
26.Luhmann N. Warum AGIL? /’ Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 1988. Jg. 40. Hft. 1. S. 127-139.
27.Luhmann N., Fuchs P. Reden und Schweigen. Frankfurt a.M., 1989.
28.Lоfgren L. Life as an Autolinguistic Phenomenon // Autopoiesis: A Theory of Living Organization / Ed. by M. Zeleny. N.Y, 1981. S. 236-249.
29.Maturana H. R. Reflexionen: Lernen oder ontogenetische Drift /V Delfm. 1983. VolII. S. 60-72.
30.Maturana H. R. and Varela F.J. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living. Dordrecht etc. 1980.
31.Maturana H. R. Erkennen: Die Organisation und Verkorperung von Wirklichkeit. Braunschweig, 1982.
32.Maturana H. R. Erkennen: Die Organisation und Verkorperung von Wirklichkeit. Braunschweig, 1982.
33.Maturana H. R. Man and Society // Autopoiesis, Communication and Society / Ed. by. Benseler F., Hejl P.M.’. Kock. W.K. Frankfurt a.M., 1980 P. 11-13.
34.Maturana H. R. The Biological Foundations of Self Consciousness and the Physical Domain of Existence // Luhmann N. et al. Beobachter. Konvergenz der Erkenntnistheorien? Munchen, 1990.
35.Moore W. E. Global Sociology: The World as a Singular System ‘/ American Journal of Sociology. 1966. Vol. 71. P. 475^82.
36.MulkayM. The Word and the World: Explorations in the Form of Sociological Analysis. London, 1985.
37.Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? / Ed. by J. Law. London, 1986.
38.Schwarz J. R. Die neuronalen Grundlagen der Wahrnehmung // Systeme erkennen Systeme / Hrsgg. v. Schiepek G. Munchen, 1987. S. 75-93.
39.Serres M. Der Parasit. Dt. Ubers. Frankfurt a.M., 1981.
40.Shannon B. Metaphors for Language and Communication // Revue in-ternationale de systemique. 1989. Vol. 3. P. 43-59.
41.Simon F. B. Unterschiede, die Unterschiede machen: Klinische Episte-mologie: Grundlage einer systemischen Psychiatrie und Psychosomatik. Berlin, 1988.
42.Spencer Brown G. Laws of Form. N.Y. 1979.
43.Tenbruck F. H. Emile Durkheim oder die Geburt der Gesellschaft aus dem Geist der Soziologie // Zeitschrift fur Soziologie. 1981. Jg. 10. Hft.3. S. 333-350.
44.Tenbrtick F. H. Geschichte und Gesellschaft. Berlin, 1986.
45.Weaver W. Science and Complexity // American Scientist. 1948. Vol. 36. S. 536-544.
46.Wilden A. System and Structure: Essays in Communication and Exchange. 2nd ed. London, 1980.
Герхард Вагнер. СОЦИОЛОГИЯ: К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ ДИСЦИПЛИНЫ
I
Утверждения о кризисе социологии входят в обычный репертуар фельетонистов. Не удивительно: ведь такой диагноз неоднократно ставили сами социологи. Наиболее известна в этом отношении, наверное, книга А. Гоулднера «Приближение кризиса западной социологии» [20]. Конечно, в большинстве случаев о кризисе высказываются риторически. Тем не менее, в самой социологии все заметнее становится отсутствие иллюзий по этому поводу. Если еще в середине восьмидесятых годов можно было говорить о штиле (см.: [5]), то уже в конце того же десятилетия обнаружилась необходимость поставить проблему намного радикальнее. Превратится ли социология когда-нибудь в нормальную науку? - ставит вопрос Р. Будон [3]. Р. Коллинз размышляет над тем, можно ли вообще требовать статуса научности для этой дисциплины [6; 6а]. Из-за подобной неуверенности в себе многие социологи были «в исключительной степени подвержены резиньяции и фрустрации» [75, 128]. Понятно, что в 90-е гг. ситуация вновь обострилась. П. Бергер поставил вопрос весьма решительно: «Имеет ли еще смысл социология?» [1]. Это означало, что теперь кризис социологии не просто воспринимается как присущий ей по природе и потому целительный для нее, но что она уже как бы подошла к концу всех своих кризисов. И если в такой форме вопрос все еще мог звучать конструктивно, то Р. Сеннет (что примечательно: в газетной статье) ответил на него весьма категорично, оплакав всего-навсего «конец социологии» [66].
Не обязательно объявлять наш век «веком социологии» [4, 242], чтобы противодействовать этому апокалиптическому настроению. Куда более плодотворно выяснение причин столь удручающего состояния дисциплины, стоит поискать также адекватные средства для борьбы со злом. При этом, вне всякого сомнения, нельзя объяснять кризис монокаузально, т. е. указывая лишь на одну его причину. Поскольку в узких рамках настоящей статьи все причины учесть нельзя, нам приходится ограничиться только некоторыми. На одну из них предлагает обратить внимание Н. Луман. Как известно, во Введении к своей книге «Социальные системы. Очерк общей теории» Луман выносит следующий вердикт: Социология находится в состоянии «теоретического кризиса» (см.: [42, 7]). Правда, продолжает он, в целом, ее действительно успешные эмпирические исследования умножили наши знания, однако до сих пор в рамках социологии не удалось сформулировать «единую для всей специальности теорию» [42, 7]. Итак, одна из причин продолжающегося кризиса - отсутствие единой теории. Ведь без этого социология «не может обосновать своего собственного единства как научной дисциплины. И резиньяция заходит настолько далеко, что никто уже и не пытается ничего предпринять» [42, 7]. Объяснения Лумана вполне очевидны - достаточно бросить взгляд на современный теоретический дискурс в социологии, чтобы обнаружить его, мягко говоря, необозримость. Множество существующих точек зрения в теоретической социологии стало уже почти безграничным. Кроме того, они еще и весьма различаются по уровню абстрактности и сложности понятийного аппарата, так что уже почти не укладываются в привычные рамки. Ввиду такого теоретического разнообразия, попытка обосновать единство дисциплины представляется в данный момент бесперспективной. В глазах Лумана, эту ситуацию усугубляет еще и то, что плюралистическое понимание науки позволяет каждому «согласовывать свои понятия лишь со своими теоретическими интенциями, признавая за другими только свободу делать то же самое, но по-своему» [52, 390]. Помимо этого, в таких условиях постмодерна сюда добавляется еще инфляция истины как значимого для науки средства коммуникации, так как каждая теория, ориентированная на «anythinggoes»*, может формулировать свои собственные критерии истины [52, 181 ff., 238 ff.].
* Все сойдет (англ.).
Однако, если «построить каждому проповеднику по кафедре» [52, 390], то для социологии это будет иметь катастрофические последствия: ее «множественные парадигматазы»* [40, 50] обязательно приведут к разложению [34].
* Иронический неологизм, возможно, требующий пояснения: парадигмы множатся как метастазы опухоли.
Если принять поставленный Лумелом диагноз и согласиться с тем, что отсутствие единой теории является одной из причин кризиса социологии, то внимание далее как бы само собой обращается на его собственную позицию. Действительно, не считая концепции X. Эссера, который намеревается основать социологию в методологическом измерении как объяснительную науку [7], в настоящее время Луман является единственным социологом, который не просто критически высказывается об отсутствии единой теории, но и систематически работает над созданием таковой. Его труды по социологии, основанной на теории систем, особенно публикации последних двух десятилетий, представляют собой попытку «на которую со времени Парсонса более никто не решался» [42, 10]: посредством единой теории содействовать обоснованию единства социологии как научной дисциплины. Вот почему оправдано то внимание, которое уделяется работам Лумана на международном уровне. В Германии же, как формулирует П. Вайнгарт, социология «должна быть всецело либо «за», либо «против» Лумана» [74, 254]. Как бы там ни было, несмотря на всю его популярность, при изучении Лумана рекомендуется осторожность. Существуют серьезные основания предполагать, что его единая социологическая теория, служащая обоснованием единства социологии, мало что может дать этой дисциплине.
Согласно Луману, если следовать критериям теоретического плюрализма, то, в принципе, любая позиция может претендовать на статус единой теории, которая может обосновать единство нашей дисциплины. Чтобы противостоять разложению социологии, с необходимостью следующему из такой позиции, Луман делает ставку на разработку «супертеории», с которой могут быть связаны «притязания на универсальность» [38, 17]. Однако, вырабатывая «универсальную теорию» [42,10] Луман впадает в другую крайность. С первого захода он пытается осуществить жесткую «программу элиминирования» [38, 16], сводя все существующие позиции к одной единственной - установке своей супертеории. Правда, с течение времени Лумансам обнаруживает, что такая «стратегия тотализации» [38, 18] ведет к фатальному тоталитаризму: «Плюрализм, - пишет он, - делает болтливым. Но тоталитаризм делает немым» [52, 390]. Нацеливаясь на создание супертеории, Луман предпринимает второй заход, однако его последствия оказываются не менее фатальными. Во второй половине 80-х гг. он все более интенсивно усваивает теоремы внесоциологиче-ского происхождения, но в силу этого его позиция всего-навсего утрачивает научность. То, что в настоящее время Луман выставляет в качестве супертеории, очень близко «антисоциологии», которую в 70-е годы X. Шельски противопоставлял социологической дисциплине. Это отнюдь не служит ей добрую службу. Я же в рамках предлагаемой статьи намерен подвергнуть критике супертеоретические амбиции Лумана, а также предложить некоторые альтернативы того, как можно мыслить единство дисциплины.
II
Согласно Луману, для обоснования единства социологии необходима единая теория, имеющая характер супертеории. Только супертеория способна противостоять инфляционной тенденции «anythinggoes», предлагая приемлемую для всей дисциплины альтернативу. Представление о том, что «господствует плюрализм, в смысле множества конкурирующих несопоставимых теоретических ориентации» [38, 17f.], в конечном счете, производит столько же конкурирующих, несопоставимых обоснований единства, сколько существует теоретических ориентации. В то же время супертеория открывает возможность обоснования единства с учетом всех теорий, представленных в дискурсе. Итак, это обоснование единства не должно повлечь за собой догмати-зацию социологии. Луман подчеркивает, что при разработке супертеории речь отнюдь не идет о «консолидации всей специальности внутри одной «парадигмы» [38, 98]. Требование, чтобы социология как научная дисциплина представляла собой «когерентное целое, в котором бы в силу причин теоретического и эмпирического характера каждое исследование и каждая публикация вели к накоплению знания» [38, 17], - это требование, по мнению Лумана, ошибочно. Напротив, супертеория обещает обосновать единство таким образом, что при этом будет учитываться многообразие теоретического дискурса. Поскольку супертеория акцентирует существующие между теориями различия, она пытается «реализовать и то, и другое: единство и различие» [38, 18].
Ввиду огромности такой задачи нельзя не задать вопрос: как может быть разработана супертеория? Ее явно невозможно сконструировать exnovo* - вот почему Луман стоит за то, чтобы вычленить такую теорию из состава одной из тех нормальных теорий, которые представлены в дискурсе.
* Заново (лат.).
Хотя, в принципе, Луман готов признать что каждая нормальная теория имеет шанс выступить в качестве супертеории, сам он без колебаний решает дело в пользу своей системно-теоретической социологии. Последняя кажется ему наиболее пригодной для реализации в равной мере единства и различия: «Это может получиться, если в рамках собственной теории удастся найти подобающее место для противника» [38,18]. Согласно Луману, такая конструкция осуществляется благодаря «стратегиям тотализации»; по этой причине он рассматривает свою системно-теоретическую социологию и как «тотализирующую теорию» [38, 18]. Стратегии тотализации могут быть историзирующими либо же проблемно ориентированными. Историзирующая тота-лизация предполагает, что противник «принадлежит к более ранней эпохе в социокультурном развитии, и, таким образом, уже устарел». Проблемно ориентированное тотали-зирование переформулирует «осознание проблемы противником, заново проблематизирует его теорию и подсовывает ему при этом в качестве основной ту проблему, которую, как затем оказывается, лучше может решить собственная теория тотализирующего критика» [38, 19 Г.].
То, что «в аспекте конкурирующих предложений [на рынке] теорий» [38, 17] принимаемые в расчет историзиру-ющие и проблемно ориентированные тотализации не обязательно исключают друг друга [38, 21], Луман вновь и вновь ясно показывает на примере трудов Ю. Хабермаса. Теория Хабермаса, утверждает Луман, столь сильно зависит от староевропейского проекта модерна, что в ней выяснение проблемы коммуникации перекрывается вопросами об основаниях разумного согласия, вместо того чтобы вести к столь же современной, сколь и убедительной теории аутопойесиса [41]. Обращение Лумана к анализу теории коммуникативного действия иллюстрирует понимание им стратегий тота-лизации. Но его аргументы столь же недвусмысленно демонстрируют, что стратегии именно такого рода неспособны отвести другим теориям подобающее место в рамках тотализирующей теории, делая возможной реализацию и единства, и различия обеих позиций. Как формулирует сам Луман, его тотализирующая теория скорее ориантиро-вана на «включение в свой состав [концепции] противника, чтобы вместе с ним принимать решение против него»* [38, 23]. С этой точки зрения (на что, впрочем, указывает уже само использование понятия «противник») представляется вполне последовательным понимание Луманом отношения между его собственной тотализирующей теорией и теорией, которую он включает в свою, как «противоречия» [38,18]. Однако, поскольку Луман все-таки рассматривает включаемую теорию как «отрицание» [38,18] своей тотализирующей теории, которая, в свою очередь, посредством отрицания этой оппонирующей теории должна преобразоваться в супертеорию, он тем самым выступает за такое понимание единства, которое венчается полной элиминацией различия.
* Почти непереводимая игра слов: «Einbeziehung des Gegners, urn sich an «hm gegen ihn zu entscheiden».
Правда, сам Луман утверждает, что он не следует «принципу диалектического отрицания» [38, 23], а предпочитает (ссылаясь на Витгенштейна) говорить о пустых отрицаниях, а также вводит понятие «ограниченности» [Limitationalitat] [38, 14 ff.]. Но, как показывает один из исследователей, рассуждения Лумана на этот счет «достаточно темны» [73, 270]. Можно говорить, что в них имеется какой-то вполне понятный смысл, только если интерпретировать их на фоне гегелевской философии. Как бы ни пытался Луман отмежеваться в этом контексте от Гегеля, влияние последнего неоспоримо (см.: [73, 268]). А если принять это во внимание, то станет ясно, что Луман, включая другую теорию в рамки своей тотализирующей теории, способствует производству той связи, которую Гегель называл «рефлексией в себе» [32, 60 ]. В другом месте я показал, что эта внутренняя рефлексия, в отличие от внешней, или субъективной, указывает на объективный, совершающийся независимо от субъекта процесс (см.: [71, 281 f.]). «Уже сам термин «внутренняя рефлексия» указывает на имманентность движения, поскольку «рефлексия» предполагает отгибание, отклонение назад, отражение, а «в себе» означает тот факт, что отражение направлено на самое себя и, таким образом, пребывает внутри объекта» [19, 137]. Фактически эта взаимосвязь позволяет определить одну из двух «противоположных величин [как] ...лежащее в основании сущее в себе единство* [32, 60 ]. Между тем, издержки для обоснования единства дисциплины, которые возникают из этой гегелевской «рефлексии» [38, 10] весьма велики. Поскольку тота-лизирующая теория включает в свой состав другую теорию, чтобы вместе с нею принимать решение против нее, она, конечно, способна «рефлектировать» лежащее в основании обеих теорий единство [38, 10]. Но эта рефлексия исчерпывается тем, что «формулирует тождество в нетождественности собственной и противной позиций» [38, 20].
Такого рода элиминация различия несет на себе тоталитарные черты, что идет отнюдь не на пользу включаемой теории. Это явствует из того, что тотализирующая теория берется как гарант тождества. Луман понимает отношение обеих теорий строго асимметрично. Включаемая теория в ее инаковости сперва вообще не принимается во внимание. По существу, ей вообще не дают слова. Реконструируя другую теорию «при помощи собственных понятий» [38, 18], тотализирующая теория полагает ее с самого начала как иное самой себя. Легко увидеть, что такого рода реконструкция имплицирует «деструкцию уже имеющегося понимания понятий» [21, 253]. Тем самым поощряется постоянное включение противоположных теорий в одну - тотализирующую, а этот процесс находит свое завершение в той догматизации дисциплины, которой Луман изначально хотел избежать. Системно-теоретическая социология была однажды выведена на этот курс и теперь, ориентируясь в своем понимании единства на логику тождества Гегеля, она жаждет консолидировать в рамках своей парадигмы всю социологию. От Лумана, конечно, не укрылось, что тем самым дьявол плюрализма теорий изгоняется Вельзевулом империализма теории. Луману ясны и последствия его тотализаций: «Нельзя оспорить, таким образом, что и империализм теории и, в особенности, притязания «тотализирующих» теорий на исключительную значимость представляют собой опасность - в противоположность инфляции, опасность дефляции истины как средства коммуникации» [52, 390]. И Луман вполне последователен, когда меняет стратегию, чтобы сделать новый заход и превратить свою системно-теоретическую социологию в супертеорию, которая реализовала бы в равной мере и единство, и различие.
Если присмотреться к публикациям Н. Лумана конца 80-х - 90-х годов, то окажется, что это изменение отнюдь не радикально. Ибо Луман и теперь, как и прежде, остается многим обязан философии Гегеля. Если, предпринимая свой первый заход, он воспользовался гегелевским понятием внутренней рефлексии, то теперь он опирается на его понятие внешней рефлексии. Отграничивая свою системно-теоретическую социологию от других социологических теорий, он пытается не только предотвратить уничтожающую различия тотализацию, но и обрести такую позицию, с которой единство дисциплины могло бы быть обосновано как бы извне. Чтобы с самого начала не дать упрекнуть себя в «староевропеизме», Луман и здесь избегает прямых ссылок на Гегеля. Вместо этого он указывает на работы философа Г. Гюнтера, который долгие годы был сотрудником руководимой X. фон Ферстером Biological Computer Laboratory*, т. е. (можно считать) находился на переднем крае науки. Лума-ну, конечно, известно, что в публикациях Гюнтера (его «главного свидетеля»), выступающего как кибернетик, речь все-таки идет о переформулировании философии Гегеля [44, 37]. В одном автобиографическом тексте сам Гюнтер как раз и подчеркивает, что для него после более чем сорокалетних занятий философией Гегеля «стало почти невозможно разделить, что в его теории принадлежит Гегелю, а что - ему самому» [27, 10]. Как бы там ни было, но то, что Луман перенимает у Гегеля понятие внешней рефлексии в том виде, какой придал ему Гюнтер, имеет катастрофические последствия для замысла супертеории.
* Биологической компьютерной лаборатории.
Концепция Гюнтера - это обширный проект, попытка ответить на «вопрос о сущности субъективности» [25, 17]. В такой постановке вопроса Гюнтер усматривает проблематику, над которой уже две тысячи лет безуспешно бьется западное мышление. Классическая логика показывает, что в онтологической картине мира, сформированной преимущественно Аристотелем, у субъекта нет достойной упоминания функции. «Философская предпосылка классической логики заключается в том, что онтологические основы мира могут быть изображены как чисто объективные структуры. Сам субъект есть нечто потустороннее, пребывающее вне всякого логического анализа» [25, 68]. В этой ситуации, продолжающейся со времен античности, ничего не смогло изменить даже современное мышление «в его развитии от Декарта до Лейбница и Канта» [25, 17]. Правда, вопрос о сущности субъективности ставился со всей решительностью, однако ответ на него оказывался совершенно неплодотворным, поскольку субъект обосновывался «трансценден-тально-метафизически», что послужило еще более отчетливому его пониманию как «потустороннего». Крах попыток трансцендентальной философии найти для субъекта в классической логике «могущее быть обозначенным место», продолжает Гюнтер, с полной очевидностью показывает несовместимость представления об «экстрамунданной интросценденции»* с онтологической картиной мира [25, 18 f.].
* Это можно интерпретировать примерно, как «вхождение-в-себя вне мира».
Имея в виду обрисованную ситуацию, Гюнтер выступает за ревизию онтологической картины мира. Чтобы постигнуть сущность субъективности, говорит он, требуется освободиться от оков классической логики вообще. Речь идет о том, чтобы выработать так называемую трансклассическую логику, которая должна иметь неаристотелевский характер, поскольку будет не двузначной, но как минимум трехзначной [23]. Для Гюнтера несомненно, «что весь мир, пока в нем абстрагируются от всякой субъективности и воспринимают его как чисто объективную связь, является строго двузначным. Для всех целей описания объекта, совершенно оторванного от субъекта, вполне достаточно двузначной логики» [25, 85 f.]. Но если хотят принимать в расчет субъективность, тогда, по его мнению, требуется расширение классической логики минимум на одно значение. Первые попытки «перехода от классической к неклансклассической логике» можно, считает Гюнтер, обнаружить в диалектике Гегеля [24, 92].
Для нас здесь не так важно то, что философы и логики испытывают большие сомнения в связи с такой интерпретацией Гегеля Гюнтером (см.: [65; 36]). Во всяком случае, рассуждения Гюнтера приемлемы постольку, поскольку гегелевское понятие внутренней рефлексии можно приписать онтологической картине мира, а за гегелевским понятием внешней рефлексии можно предположить такую форму субъективности, которая не обязательно должна быть сразу же интерпретирована как нечто «потустороннее». В отличие от трансцендентальной философии Гюнтер действительно заинтересован в том, чтобы понять субъективность как факт «эмпирического мира» [25, 69].
Гюнтер убежден, что субъективность может проявляться только как «поведение» [26, 102]. И если, желая подробнее охарактеризовать это поведение, Гюнтер ссылается на слова «Царство Мое не от мира сего» (Ин, 18, 36), то заинтересован он отнюдь не в христианском благовествовании, но в том отвержении [мира], которое в них выражается [26, 102]. Ибо Гюнтер вообще не может «понимать под субъективностью ничего иного кроме функции, в которой тотальная двузначность объективного вокруг нас, а тем самым и весь мир отвегаются как бытие мира» [25, 86]. Вследствие этого в трансклассической логике отвержение тоже должно «выступать как функтор, который описывает поведение субъективности и которому еще нет места в классической логике» [26, 102]. Тогда как в классической логике даже там, «где вообще возможен выбор», должно быть «принято одно значение из предлагаемых вариантов», трансклассическая логика отличается возможностью «отвергать некоторую альтернативу значений в целом» [26, 102]. Такое «отвержение или отклонение» [26, 103] требует, правда, введения третьего значения, «не включенного в данную двузначную систему» [25, 85]. В отличие от классической логики, которая располагает лишь двумя «значениями приятия», трансклассическая нуждается в дополнительном значении отклонения: «значение отклонения - это индекс субъективности в трансклассическом исчислении» [26, 102 f].
Гюнтер считает, что отвержение - это и есть сущность субъективности, причем он, конечно, оговаривает, что эта Дефиниция в высшей степени скудна [25, 86]. Тем не менее, она все-таки способна дать основу для внешней рефлексии.
В одной из новейших публикаций, посвященных философии и логике Гюнтера, отмечается, что гюнтеровский принцип «отрыва» от альтернативы значений вполне достаточен для того, чтобы рассматривать «два противоположных значения как единство» [35, 51]. Кроме того, следует предположить, что именно эта скудость дефиниции позволяет философии Гюнтера подсоединиться к современным кибернетическим дискуссиям. Ведь Гюнтер не ограничивает субъективность антропоморфными представлениями: «Если формулировать это не вместе с Гегелем, но кибернетически, тогда следует сказать, что в нашем эмпирическом универсуме в определенных местах формируются структурные образования совершенно исключительной сложности, способные создавать для себя отображение своего окружения и рефлективровать это окружение весьма специфическим образом» [25, 69]. Это позволяет понять притягательность философии Гюнтера для лумановского проекта супертеории. Хотя Луман относится к работам Гюнтера не без скепсиса [44, 38], однако он все-таки ориентируется на трансклассическую логику последнего, чтобы открыть позицию внешней рефлексии для своей супертеории.
IV
О постоянном интересе Лумана к гюнтеровскому понятию отклонения неопровержимо свидетельствуют его работы последних лет (см.: [45, 86 ff.; 52, 94, 301 f, 579, 663, 666]). Луман применяет это понятие не только в предметном измерении своей системно-теоретической социологии, но и в ее социальном измерении, т. е. в отношении к другим теориям. В этом последнем измерении Луман тоже «вместе с Г. Гюнтером» исходит из «различения позитивного и негативного значения», дабы подвергнуть эту «форму» «отклонению» [51, 17]. Так он последовательно редуцирует все многообразие теоретического дискурса в социологии к двум противоположным традициям. Чтобы придать форму дисциплине, он проводит различие между «позитивной социологией» и «критической социологией» [53, 257]. Первая задается вопросом: «Что происходит?», а вторая - вопросом: "Что за этим кроется?" [53, 257]. На примере «выдающихся теорий» К. Маркса и Э. Дюркгейма, по мнению Лумана, можно показать, что с самого начала упрочения позиции социологии в университетах она «подходила к своему предмету с двумя установками: позитивистской и критической» [53, 245]. Однако именно из-за того, что в социологии «делается попытка давать ответ на два совершенно различных вопроса», не прекращаются, считает Лу-ман, и проблемы, связанные «с сохранением единства специальности. Иногда, например, в 60-е гг., из этого различия вытекают такие споры, которые грозят вообще взорвать всю дисциплину» [53, 245].
Проблему нельзя разрешить и ситуацию нельзя исправить ни «конструктивистской деконструкцией позитивистской методики», ни «критикой критической социологии» [53, 257] - это для Лумана дело решенное. Когда нет строгости в понятиях, теории, принадлежащие к обеим традициям (и без того слабо разработанные), вряд ли могут считаться перспективными кандидатами на обоснование единства дисциплины [46, 298]. О том, что «принятие» предлагаемой обеими социологиями теоретической альтернативы даже не рассматривается Луманом [48,17], свидетельствует его обильная, демонстративная риторика «насмешливого превосходства» [2, 237]. Так как возможности «классической социологии», по его мнению, исчерпаны, Луман последовательно делает ставку на ее отвержение [49, 277]. Вместо того чтобы ввязываться в «совершенно бессмысленные споры», заполонившие дисциплину, Луман предпочитает противопоставить обеим социологиям третью [46, 292]. Таким образом, социология, основанная на теории систем, противопоставляется позитивной и критической социологии. Ее функция, а следовательно, и логическое значение состоит в отклонении. Для преобразования своей концепции в супертеорию Луман берется «показать те открытия и новые понятия», которые возникли в «обширнейшей сфере теории систем» и «перенести их на область социологии» [46, 292]. При этом более всего он интересуется так называемой кибернетикой второго порядка, потому что она кажется ему принципиально совместимой с понятием отклонения: «Лишь благодаря наблюдению наблюдения «субъект» дистанцируется от мира и обретает способность рефлексии» [50, 150]. Как бы там ни было, но именно при помощи этих внесоциологических теорем Луман надеется открыть Дисциплине одну из тех «горячих клеток рефлексии, которые, правда, не суть целое, однако рефлектируют целое как различие» [53, 251].
Результат этих усилий Лумана, несомненно, впечатляет своей сложностью. Однако велика и цена, которую ему приходится платить за свою попытку обосновать единство дисциплины как отклонение господствующи теоретической альтернативы. Ни для кого не секрет, что сама по себе рецепция понятий теории систем возбуждает много проблем. Результаты исследований Biological Computer Laboratory небезосновательно «весьма сдержанно ...воспринимаются серьезными естественниками» [7, 534]. Трудности, которые влечет за собой, например, перенос [на социальные явления] понятия аутопойесиса, конечно, еще не так велики по сравнению с теми, которые вытекают из ориентации Лумана на трансклассическую логику Гюнтера. Правда, супертеория Лумана, благодаря отклонению позитивной и критической социологии, оказывается в состоянии занять "позицию, противоположную anything goes" и позволяющую обосновать единство дисциплины [53, 258]. Однако и это новое обоснование влечет за собой тоталитаризм. Как подчеркивается в уже упомянутом выше исследовании, именно отвержение должно пониматься «как новая форма отрицания» [35, 52] (ср. также: [18, 727]). Опираясь на трансклассическую логику Гюнтера, Луман в известной мере усиливает ориентированное на отрицание мышление Гегеля. Если угодно, гегелевский антитезис первого порядка заменяется антитезисом второго порядка, благодаря чему, правда, меняется форма противоположности, посредством которой системно-теоретическая социология Лумана противопоставляет себя другим теориям, однако фундаментальный логический тоталитаризм остается неизменным.
Это не значит, конечно, что нет разницы между тоталитаризмом первой и второй фаз. Тогда как первый только приводит к дефляции истины как средства коммуникации, второй понуждает к коммуникации такого рода, которая вообще избегает истины как средства. Фактически в конце 80-х - начале 90-х гг. [использование] фигуры отклонения лишает супертеорию Лумана научности. Какие бы формулировки для обоснования единства дисциплины ни предлагались в качестве третьей социологии, супертеория не может сопрягать с ними претензию на истинность. Ибо «истинность в конечном счете имплицирует двузначность» [24, 93]. Если в классической логике исходят из того, «что дело идет лишь о высказываниях, которые либо истинны, либо ложны» [36, 125], то в область трансклассической логики удается проникнуть лишь «абстрагируясь от значений «истинное» и «ложное»» [35, 57]. Для социального измерения социологических теорий (именно Луман оформил его как таковое) это означает, что лишь теории позитивной и критической социологии могут быть поняты как носители значений «истинное» и «ложное». Когда речь идет о двух социологиях, то имеются в виду противоположные позиции, а потому высказывания одной из них всегда должны быть истинны, если высказывания другой ложны. Конечно, третья социология, которая отграничивает себя от этих двух, могла бы во всяком случае занять позицию безразличия. Однако Луман вообще отвергает предлагаемую двумя социологиями альтернативу значений «истинное/ ложное». Не принимая их высказываний, он готов принять «разрыв с традицией - имея при этом в виду ограничения, налагаемые (двузначной) логикой истинности» [53, 257]. Тем не менее, основанная на теории систем социология Лумана также и впредь претендует на истинность. Социология, говорит Луман, лишь «как наука» имеет «фундамент для работы». «Трагическая ситуация Хельмута Шельски» показывает, что «в качестве антисоциолога он не сумел найти подходящей формы для своих публикаций» [53, 252]; вот почему Шельски «сознательно» занялся «политической полемикой, выходя за пределы ограничений, характерных именно для науки» [43, 2]. Эта оценка, безусловно, верна. Но столь же верно и то, что Шельски инсценировал свою антисоциологию как отвержение. Шельски - в течение долгих лет близкий друг и покровитель Гюнтера - (см. хотя бы: [28; 29; 60; 61, 73 ff; 44, 90, 101, 274 f, 292 f, 429 f, 446 f, 468 ff; 35, 8 ff; 50, 151]) в своей книге «Локализация немецкой социологии» противопоставлял эмпирическую науку о функциях социально-философской истолковывающей науке. Он рассчитывал при этом обрести такую позицию, с которой «можно будет критически дистанцироваться от «всей социологии»» [64, 87]. Правда, эту позицию, которую он называл «рефлектирующей субъективностью» [61, 105], Шельски намеревался специфицировать при помощи научных средств. Однако, не считая принципиально важных исследований по социологии права, так называемая «трансцендентальная теория общества» так и осталась у Шельски на уровне программных положений (см.: [72, 8 ff]). В результате, как заметил Дарендорф, вместо заявленной теории получилось «полемическое развитие [идеи о] своем собственном месте внутри немецкой социологии как о третьей возможности понимать социологию» [8, 129]. Это развитие завершилось в 70-е гг. бранью по адресу интеллектуалов, которая была представлена как «антисоциология» - не умея определить своих собственных научных основ, «антисоциология» именно поэтому аттестовала социологию как ненаучную [63, 255].
V
Шельски, однако, отнюдь не воспринимал свою ситуацию как трагическую - об этом ясно свидетельствует его оценка последней фазы своего творчества, которую он вполне последовательно квалифицировал как политическую беллетристику [64, 100]. Трагичен как раз случай Лумана. Резко различая позитивную социологию и критическую, он не просто имитирует сделанное Шельски противопоставление Кельнской школы Р. Кёнига, ориентированной на Дюркгейма, и Франкфуртской школы Т. В. Адорно, ориентированной на К. Маркса (см.: [59, 26 ff]). Мало того. Отвергая обе позиции, Луман также повторяет исход Шельски из «научного дискурса» [43, 2]. Фактически он время от времени использует форму публикаций, напоминающую о XVIII в., когда была разработана парадоксальная техника: «формулировать предложение так, чтобы не дать ему исполнить свою цель - означать что-либо для других предложений» [39, 145]. Правда, Луман все-таки не хочет, как в свое время Шельски, «выйти из игры» - в область политики [51, 173]. Он претендует на научность своей автопоэзии. Но, конечно, с вопросом об «истинности» или «ложности» это больше никак не связано. Может быть, на этом фоне станут объяснимыми те трудности в понимании, с которыми сталкиваются в научной среде лумановские публикации последних лет. Не случайно, во всяком случае, уже обнаружилась возможность рассматривать теорию Лумана с эстетической точки зрения [67; 33]. Как бы там ни было, но и к моменту завершения системно-теоретической социологии перед нашей дисциплиной по-прежнему остро стоит вопрос: как должна выглядеть единая теория, с помощью которой, не впадая в произвольность anything goes, можно было бы нетоталитарным образом обосновать ее единство.
Я полагаю, что ответ на этот вопрос возможно отыскать только на пути преодоления Гегеля. Если Луман сначала обращается к Гегелю, а затем еще пытается перекрыть его Гюнтером, то я предлагаю вообще покинуть сферу антитетического мышления. В философии известно несколько попыток критики Гегеля конструктивным (с точки зрения наших целей) способом. Совсем не обязательно при этом обращаться к текстам постмодернистов, скажем, Жака Дер-рида. Я предлагаю то, что лежит совсем рядом. Давайте бросим взгляд на работы неокантианца Г. Риккерта. Конечно, Риккерт достаточно известен социологам как философский поручитель М. Вебера. Но у нас речь не пойдет о его философии ценностей - потому хотя бы, что она постоянно подпитывает теологическое мышление (см.: [69, 108 ff, 122 ff; 70, 200 ff]). Куда более интересны те работы Риккерта, в которых он, в противоположность Гегелю, развивает так называемый гетеротетический принцип: «Гегель брал преднаходимую в самом мышлении двойственность как антитетику; антитезис при этом находится в явной противоположности к тезису, то есть является отрицанием последнего. Место гегелевской антитетики у Риккерта занимает гетеротетический принцип мышления, когда, полагая единое, одновременно полагают и иное. Отношение между двумя этими моментами не есть отношение взаимного исключения, но отношение дополняющей сопряженности в целом синтеза» [16, 13].
Фактически для Риккерта дело состоит в том, чтобы указать на приоритет инаковости перед отрицанием. Он утверждает: «Инаковостъ логически предшествует отрицанию* [57, 20]. Правда, он соглашается с Гегелем в том, что в основе всякого мышления лежит двойственность единого и иного. Однако, в противоположность Гегелю, он подчеркивает, что иное отнюдь не может пониматься просто как отрицание единого. Было бы заблуждением считать, «будто достаточно простого отрицания «не» или подлинно уничтожающего «нет», чтобы иное возникло или было выведено из единого. Такой чудодейственной силы у отрицания как простого «нет» (или уничтожения) никогда не было... Если мы будем мыслить иное единого как не-единое и, тем не менее, некоторым образом позитивно как некое иное, то мы будем постоянно добавлять к отрицанию, которое снимает единое, еще нечто, что происходит не из отрицания. Отрицание делает из нечто только не-нечто или ничто. Оно заставляет предмет вообще, так сказать, исчезнуть» [57, 20]. По Риккерту, «отрицание в качестве только отрицания еще не означает ничего, что хотя бы на малейший шаг продвигало бы нас дальше в том, как мы мыслим мир. Только если мы окажемся в состоянии поставить на место подвергнутого отрицанию позитивное иное, мы продвинемся вперед» [58, 46]. А поскольку, как Риккерт показывает на примере формы и содержания мышления, «уже с первого же своего шага» мышление должно удерживать в наличии « «сразу же» и единое, и иное» [57, 22], то нельзя обойтись без замены гегелевского противопоставления тезиса и антитезиса различением тезиса и гетеротезиса.
Риккерт при этом подчеркивает, что его гетерологию не следует понимать в духе субъективного конструктивизма: «Логически мы мыслим только тогда, когда обнаруживаем нечто такое, что имеется как предмет независимо от нашего мышления. Постепенное развитие нашей идеи предмета не означает развития предмета, но имеет только смысл постепенного уяснения в понятиях того предметного, что уже существовало до начала» (см.: [57, 10], ср.: [16, 14 f]. Придав риккертовской критике Гегеля объективистский оборот, можно будет сформулировать это так: «...иное в точности настолько же «позитивно», насколько «позитивно» и единое; избегая, если угодно, этого выражения, скажем: иное первичным, или изначальным образом находится подле единого» [57, 20]. Итак, поскольку «отрицание... не играет действительно существенной роли», отношение, существующее между единым и иным, не следует, в отличие от Гегеля, понимать как противоположность; по мнению Риккерта, единое и иное не исключают одно другое, но «позитивно дополняют друг друга» [57, 22]. Риккерт даже говорит о «своеобразной взаимозависимости» единого и иного: «Говоря объективно, первое существует как единое только в отношении или в связи со вторым. Говоря субъективно, вместе с единым всегда «полагается» и иное. Мы не можем мыслить безотносительно. Даже чисто логический предмет можно постигнуть в его целостности лишь как соотнесение соотнесенного, как единое и иное, как форму и содержание» [57, 18].
Если рассуждать указанным образом, то и единство, обнимающее собой единое и иное, уже не должно пониматься в смысле гегелевской логики тождества. Рикерт показывает, что единство не обязательно рассматривать как «тождество, как отсутствие различия или простоту», но можно трактовать как «единство многообразия» [57, 24]. Единство многообразия представляет собой «объемлющую связь единого и иного»; она - «как единство синтеза единого... и иного никогда не может означать единства в смысле отсутствия различия, но требует различия или инаковости - подобно тому, как «единство» тождества отторгает различие или инаковость. Необходимо постоянно задаваться вопросом, что имеется в виду, когда говорят о «единстве»: тождественное «единство» как отсутствие различия или как синтетическое «единство» того, что отлично друг от друга и соотносится между собой» [57, 24]. Действительно, предлагаемая Риккертом трактовка единства многообразного уже не фиксирует наше внимание на (говоря словами Лумана) «общем в различном» [53, 254]. Скорее это понятие освобождает зрение, позволяя увидеть различное, причем Риккерт заинтересован не различиями как таковыми, но удостаивает их вниманием лишь постольку, поскольку они взаимно дополняют друг друга, образуя синтез. В противоположность антитетическому «либо - либо» Гегеля, и тем более - в противоположность вдвойне антитетическому «ни - ни» Гюнтера, у Риккерта в его гетеротетическом принципе дополняющей связанности находит выражение «как - так и», что открывает возможности и для обоснования единства социологии как дисциплины. Что дозволено было Веберу, использовавшему философию Риккерта, то должно быть разрешено и нам, сегодняшним.
VI
С полным на то основанием Луману ставили в упрек, что «отрицание не может рассматриваться как наукотворче-ская операция». Как замечает О. Вайнбергер, «одно только отрицание (критика) не позволяет прийти к новым теориям, это возможно только при конструировании новых способов понимания, которые не определяются, однако, одним только отрицанием» [73, 269]. Я бы, со своей стороны, тоже хотел избежать возможного упрека в том, что не предлагаю ничего, кроме критики. Поэтому ниже я намерен показать, как гетерологию Риккерта можно подсоединить к нынешнему состоянию дискурса в социологии. Насколько мне известно, в наше время позиция Риккерта рассматривается как повод для конструктивных рассуждений только в философии, например, в работах В. Флаха [16; 17] и К. Глой [19]. Однако и в других, нефилософских контекстах можно встретиться с его аргументами. Например, в структурной семантике А. Ж. Греймаса отрицание совершенно сознательно дополняется второй операцией; соответственно, из понимания того, что неопределенность простого отрицания должна быть переведена в определенность контрарно противоположного исходному элемента, - из этого здесь делаются очень серьезные выводы (см.: [22, 14 ff; 68, 115]). Рассуждения, аналогичные идеям Риккерта, можно найти также и в постструктурализме Деррида, например, в связи с его понятием supplement»а, которое означает не только «замену», но и «восполнение» (см.: [10, 244 ff; 55, 32]. На мой взгляд, безусловно стоило бы изучить такого рода исследования по логике различия с учетом риккертововского понятия единства многообразия.
Но вернемся к социологии. Прежде всего, здесь это понятие проясняет предметное измерение в образовании социологических теорий. Гетеротетический принцип может способствовать анализу той до сих пор еще недостаточно выясненной связи, которую Дюркгейм, развивая теорию Г. Спенсера, обозначил как органическую солидарность. Как известно, Дюркгейм настаивал на том, что разделение труда прежде всего становится возможным благодаря гетерогенности. При этом, как показал Дюркгейм, проиллюстрировав это примерами дружбы и семьи, под гетерогенностью не следует понимать противоположность: «Лишь различия определенного рода чувствуют... взаимное притяжение, а именно, различия, которые дополняют друг друга, а не противоречат одно другому и не исключают друг друга» [11, 102]. Именно «объединяющее несходство натур» может основать социальную связь, называемую солидарностью: «Как раз потому, что мужчина и женщина отличаются друг от друга, они страстно ищут друг друга. Вместе с тем ...не чистая и не простая противоположность вызывает взаимное тяготение, но только различия, которые взаимно предполагаются и дополняются, могут иметь такое свойство» [11, 103]. Луман сам подчеркивал, что для Дюркгейма дело состояло не в отношении отрицания, но в инаковости иного» [47, 22]. Однако Луман не заполнил это «пустое место» в исследованиях [37, 111] и не сделал отсюда выводов при построении своей собственной теории. Но и здесь есть работы, которые можно было бы использовать в дальнейшем [56; 70, 346 ff].
Что касается социального измерения социологических теорий, то на основе риккертовского единства многообразия можно было бы по-другому выстроить необходимую для обоснования единства дисциплины теорию, чем так, как предлагает Луман. На самом деле, уже существует социологический pendant* к риккертовской гетерологии. Т. Фарра-ро выступает представителем «spirit of unification»**, который обнаруживается в рекурсивных процессах синтеза и основу которого составляет не что иное, как тот самый принцип дополняющей связности, выражающейся, согласно Риккерту, в синтетическом единстве единого и иного.
* Соответствие (фр.).
** Дух унификации (англ.).
«Под унификацией, - говорит Фарраро, - я понимаю не конструкцию отдельной теории отдельным лицом или даже отдельной исследовательской группой, так что под эту теорию подводится все остальное. Скорее, я имею в виду процесс, совершающийся через интегративные эпизоды. Результат любого такого эпизода может войти в другой эпизод позже. Таким образом, этот процесс рекурсивен и конституирует то, что мы можем назвать динамикой унификации» [12, 175]. Фарраро проясняет этот процесс, рассматривая вместе различные теоретические установки [15; 13; 14]. Он отчетливо формулирует, что для него при этом важно не только конструирование эффективных теорий, но и обоснование единства дисциплины: «...дух унификации... может перекинуть мосты между различными теоретическими предприятиями, помогая сломать барьеры обособления внутри социологической теории» [12, 175]. Возможно, тем самым найдена позиция, противоположная плюралистической вседозволенности теорий, к тому же не предполагающая тоталитаризма и не избегающая истины как средства Коммуникации науки.
Чтобы предотвратить недоразумения, подчеркнем: для Фарраро дело отнюдь не в том, чтобы предпринять новое издание «теорий среднего уровня» - концепции предложенной Р. Мертоном в полемике с Т. Парсонсом. Вопросы абстракции и агрегации не играют у Фарраро заметной роли. И если бы для его единой теории, ориентированной на spirit of unification, пожелали найти название, то можно было бы предложить такое - дифференциальная социология. Само это понятие сформулировал Ж. Гурвич [31], для которого также было важно «снять оппозицию определенных односторонних тезисов и соединить их между собой» [30, 113]. Свой труд Гурвич рассматривает как процедуру «резюмирования предшествующей социологии. Следует находить как можно более гибкий понятийный аппарат, чтобы описать и объяснить конкретную социальную действительность. При этом речь не должна идти о системе; напротив, социология всегда может быть только незавершенным воссозданием социальной жизненной связи в действии, в движении, таким воссозданием, которое должно быть предпринято заново всякий раз - в любых [новых] рамках, в любой ситуации, в связи с каждой [новой] конъюнктурой, каждым поворотным пунктом. Понятийный аппарат должен постоянно создаваться заново и может служить лишь точкой опоры, прагматическая значимость которой обнаруживается при последующих вновь и вновь предпринимаемых попытках» [30, 112]. Может ли этот прагматизм содействовать преодолению кризиса дисциплины - это вопрос эмпирический, т. е. открытый. Но, во всяком случае, от попыток такого рода можно было бы ожидать применительно к каждому конкретному случаю обоснования значимого от случая к случаю «более-или-менее-единства» [9, 2].
ЛИТЕРАТУРА
1.Berger P. L. Does Sociology Still Make Sense? // Schweizer Zeitschrift fur Soziologie. 1994. Bd. 20. S. 3-12.
2.Beyme K. V. Theorie der Politik im XX. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoderne. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991.
3.Boudon R. Will Sociology Ever Be a Normal Science? // Theory and Societe. 1988. Vol. 17. P. 747-771.
4.Bvde H. 1968 und die Soziologie // Soziale Welt. 1994. Bd. 45. P. 242- 253.
5.Collins R. Is 1980s Sociology in the Doldrums? // American Journal of Sociology. 1986. Vol. 91. P. 1336-1355.
6.Collins R. Sociology: Prescience or Antiscience? // American Sociological Review. 1989. Vol. 54. P. 124-139.
6a. Коллинз Р. Социология: Наука или антинаука? // Наст, издание. С. 37-68.
7.Esser И. Soziologie. Allgemeine Grundlagen. Frankfurt a. M.: Capus, 1993.
8.Dahrendorf R. Die drei Soziologien. Zu Helmut Schleskys «Ortsbe-stimmung der deutshen Soziologie» // Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 196,0. Bd. 12. S. 120-133.
9.Dahrendorf R. Einfiihrung in die Soziologie // Soziale Welt. 1989. Bd. 40. S. 2-10.
10.Derrida J. Grammatologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.
11.Durkheim E. Uber Soziale Arbeitsteilung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988.
12.Fararo T. J. The Spirit of Unification in Sociological Theory // Sociological Theory. 1989. Vol. 7. P. 175-190.
13.Fararo T. J. The Meaning of General Theoretical Sociology. Tradition and Formalization. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
14.Fararo T. J. General Sociological Equilibrum: Toward Theoretical Synthesis // Sociological Theory. 1993. Vol. 11. P. 291-313.
15.Fararo T. J., Skvoretz J. Unification Research Programs: Integrating Two Structural Theories // American Journal of Sociology. 1987. Vol. 92. P. 1183-1209.
16.Flach W. Kroner und der Weg bis Hegel. Die systematischen Voraus-setzungen der Kronerschen Kantkritik // Zeitschrift fur philosophische For-schung. 1958. Bd. 12. S. 554-579.
17.Flach W. Negation und Andersheit. Ein Beitrag zur Problematik der Letztimplikation. Miinchen: Reinhardt, 1959.
18.Frank U. Rezension von G. Gunther, Idee und GrundriC einer nicht-Aristotelischen Logik // Zeitschrift fur philosophische Forschung. 1963. Bd. 17. S. 725-727.
19.Gloy K. Einheit und Mannigfaltigkeit. Eine Strukturanalyse des «und». Systematische Untersuchungen zum Einheits- und Mannigfaltigkeitsbegriff bei Platon, Fichte, Hegel sowie in der Moderne. Berlin: De Gruyter, 1981.
20.Gouldner A. W. The Coming Cisis of Western Sociology. New York: Basic Books, 1970.
21.Grathoff R. Uber die Einheit der Systeme in der Vielfalt der Lebens-welt. Eine Antwort auf Niklas Luhmann // Archiv fur Rechts- und Sozialphilo-sophie. 1987. Bd. 73. S. 251-263.
22.Greimas A. J. Strukturale Semantik. Braunschweig: Vieweg, 1971.
23.Gunther G. Idee und GrundriB einer nicht-Aristotelischen Logik. Bd. 1: Die Idee und ihre philosophischen Voraussetzungen. Hamburg: Meiner, 1959.
24.Gunther G. Das Problem einer Formalisierung der transzendental-dialektischen Logik. Unter besonderer Berucksichtigung der Logik Hegels // Hegel-Studien. 1962. Beiheft 1. S. 85-123.
25.Gunther G. Logik, Zeit, Emanation und Evolution. Opladen: Wets-deutscher Verlag, 1967.
26.Gunther G. Das Janusgesicht der Dialektik // Hegel-Jahrbuch. 1974. S. 89-117.
27.Gunther G. Selbstdarstellung im Spiegel Amerikas // Philosophic in Selbstdarstellungen / Hrsgg. v. L. J. Pongratz. Bd. 2. Hamburg: Meiner, 1975.
28.Gunther G., Schelsky H. Christliche Metaphysik und das Schicksal des modernen Bewufitseins. Leipzig: Hirzel, 1937.
29.Gunther G., Schelsky H. Die ontologischen Grundlagen der Mehr-wertigkeit. Naturliche Zahlen in einem transklassischen System // Jahres-bericht des Zentrums fur interdisziplinare Forschung der Universitat Bielefeld. Bielefeld, 1970. S. 27-28.
30.Gugel J. Die neuere franzosische Soziologie. Ansatze zueiner Stan-dortbestimmung der Soziologie. Neuwied: Luchterhand, 1961.
31.Gurvitch G. La vocation actuelle de la sociologie. T. 1. Vers la sociolo-gie differentielle. P.: PUF, 1968.
32.Hegel G. W. F. Wissenschaft der Logik П. Werke in 20 Banden. Bd. 8 / Hrsgg. v. E. Moldenhauer und K. Michel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.
33.Helmstetter R. Die weiBen Mause des Sinns. Luhmanns Humorisierung der Wisstnschaft der Gesellschaft // Merkur. 1993. Bd. 47. S. 601-619.
34.Horowitz I. L. The Decomposition of Sociology. N. Y.: Oxford University Press, 1993.
35.Klagenfurt K. Technologische Zivilisation und transklassische Logik. Eine Einfuhrung in die Technikphilosophie Gotthard Gimthers. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995.
36.Lorenzen P. Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik. Korreferat zu einem Vortrag von G. Gunther // Hegel-Studien. 1962. Beiheft 1. S. 125-130.
37.Luhmann N. Reflexive Mechanismen // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1974. S. 92-114.
38.Luhmann N. Soziologie der Moral // Theorietechnik und Moral. / Hrsgg. v. N. Luhmann, S. H. Pfurtner. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978 S. 8-116.
39.Luhmann N. Interaktion in Oberschichten: Zur Transformation ihrer Semantik im 17. und 18. Jahrhundert // Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellscaft. Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1980.
40.Luhmann N. Handlungstheorie und Systemtheorie // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Bd. 3. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981. S. 50-66.
41.Luhmann N. Autopoiesis, Handlung und kommunikative Verstandigung // Zeitschrift fur Soziologie. 1982. Bd. 11. S. 366-379.
42.Luhmann N. Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984.
43.Luhmann N. Helmut Schelsky zum Gedeken // Zeitschrift fur Rechtsso-ziologie. 1984. Bd. 6. S. 1-3.
44.Luhmann N. Die Richtigkeit soziologischer Theorie // Merkur. 1987. Bd. 41. S. 36-49.
45.Luhmann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988.
46.Luhmann N. Neuere Entwicklungen in der Systemtheorie // Merkur. 1988. Bd. 42. S. 291-300.
47.Luhmann N. Arbeitstelung und Moral. Durkheims Theorie // Durk-heim E. Uber soziale Arbeitstelung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. S. 19- 38.
48.Luhmann N. Identitat - was oder wie? // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Bd. 5. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990. S. 14-30.
49.Luhmann N. Uber systemtheoretischen Grundlagen der Gesellschafts-theorie // Deutsche Zeitschrift fur Philosophic. 1990. Bd. 38. S. 277-284.
50.Luhmann N. Am Ende der kritischen Soziologie // Zeitschrift fur Soziologie. 1990. Bd. 20. S. 147-152.
51.LuhmannN. Die Form «Person» //Soziale Welt. 1991. Bd.42.S. 166- 175.
52.Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellscaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992.
53.Luhmann N. «Was ist der Fall» und «Was steckt dahinter?» Die zwei Soziologien und die Gesellschaftstheorie // Zeitschrift fur Soziologie. 1993. Bd. 22. S. 245-260.
54.Merlon R. The Position of Sociological Theory: Discussion // American Soziological Review. 1948. Vol. 13. P. 164-168.
55.Naumann-Beyer W. Annaherung an Derrida - oder: Wer spat kommt, den belohnt das Lesen // Deutsche Zeitschrift fur Philosophic. 1994. Bd. 42. S. 15-33.
56.Plum-wood V. The Politics of Reason: Towards a Feminist Logic // Australasian Journal of Philosophy. 1993. Vol. 71. P. 436-462.
57.Rickert H. Das Eine, die Einheit und die Eins. Bemerkungen zur Rolle des Zahlbegriff. Tubingen: Mohr, 1924.
58.Rickert H. Grundprobleme der Philosophic. Methodologie, Ontologie, Anthropologie. Tubingen: Mohr, 1934.
59.Sahner H. Theorie und Forschung. Zur paradigmatischen Struktur der deutschen Soziologie und zu ihrem EinfluB auf die Forschung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1982.
60.Schelsky H. Zum Begriffder tierischen Subjektivitat // Studium Gene-rale. 1952. Vol. 3. S. 102-116.
61.Schelsky H. Ortbestimmung der deutschen Soziologie. Diisseldorf: Diederichs, 1959.
62.Schelsky H. Auf der Suche nach Wirklichkeit. Dusseldorf: Diederichs, 1965.
63.Schelsky H. Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priester-herrschaft der Intellektuellen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975.
64.Schelsky H. Soziologie - wie ich sie verstand und verstehe // H. Schelsky. Ruckblice eines «Anti-Soziologen». Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981.
65.Schmitz H. Rezension von G. Gimther, Idee und GrundriB einer nicht-Aristotelischen Logik // Philosophische Rundschau. 1961. Bd. 9. S. 283- 304.
66.Sennet R. Das Ende der Soziologie // Die Zeit. 1994. Nr. 40 vom 30. September. S. 61-62.
67.Soentgen J. Der Bau. Betrachtungen zu einer Metapher der Luhmann-schen Systemtheorie // Zeitschrift fur Soziologie. 1992. Bd. 21. S. 456-466.
68.Stierle K. Semiotik als Kulturwissenschaft // Zeitschrift fur frazosische Sprache und Literatur. 1973. Bd. 83. S. 99-128.
69.Wagner G. Geltung und normativer Zwang. Eine Untersuchung zu den neukantianischen Grundlagen der Wissenschaftslehre Max Webers. Freiburg: Alter, 1987.
70.Wagner G. Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwinding der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
71.Wagner G. Am Ende der systemtheoretischen Soziologie. Niklas Luh-mann und die Dialektik // Zeitschrift fur Soziologie. 1994. Bd. 23. S. 275- 291.
72.Wagner G. Zur Rekonstruktion und Kritik einer transzendentalen Soziologie der Gesellscaft: Helmut Schelsky und Wolfgang Schluchter // Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. 1995. Bd. 81. S. 1-25.
73.Weinberger O. Moral als Dual-Code? Kritische Anmerkungen zu Niklas Luhmanns Theorie der Moral // Rechtstheorie. 1993. Bdf. 24. S. 261-280.
74.Weingart P. Provinz ist liberal. Der WeltkongreB fur Soziologie in Bielefeld // Soziologische Revue. 1994. Bd. 17. S. 252-254.
75.WeiflJ. Die Normalitat als Krise. Soziale Welt. 1989. Bd. 40. S. 124- 132.
Фил Макнотен и Джон Урри СОЦИОЛОГИЯ ПРИРОДЫ*
Социология и исследование изменений окружающей среды
* Рукопись предоставлена авторами специально для настоящего издания.
В этой статье мы намерены рассмотреть парадокс: казалось бы социология должна играть центральную роль в исследовании изменений среды обитания, но пока что ее вклад в эти исследования очень скромен. Она не сделала того, что могла бы сделать. Поэтому наше положение весьма щекотливо: мы собираемся показать, что социологии действительно должна принадлежать центральная роль, но почти не имеем эмпирических данных в поддержку этого притязания. Однако пусть достижения социологии в названной области и не впечатляют (особенно по сравнению с некоторыми другими науками, вроде социальной географии или планирования), но ее постановки проблем потенциально могут стать центральными. Чтобы объяснить, почему вклад социологии в понимание изменений окружающей среды недостаточен, мы сперва обратимся к социальному и историческому контексту, в котором социология начинала укореняться, а затем рассмотрим, как это повлияло на характер трактовки «социального» всеми, кто исследует природу окружающей среды и ее изменения.
Логика развития социологии была продуктом конкретного исторического момента, порождением промышленного капитализма в Западной Европе и Северной Америке. Ключевым понятием этой социологии было понятие общества.
Она имела склонность принимать определенные априорные допущения об отношениях следствия между природой и обществом. Принимая как бесспорную данность эффектные успехи современных обществ такого типа в покорении природы, социология сосредоточилась и специализировалась на том, в чем она чувствовала себя сильной, а именно, на описании и объяснении самого характера современных обществ. В таком качестве социология, в общем, приняла соответствущее разделение труда в академической сфере; оно отчасти возникло благодаря желанию выделить (вслед за Э. Дюркгеймом) отдельную область или сферу социального, которую можно было бы изучать и объяснять автономно. В известном смысле социология применяла стратегию самоопределения по образцу биологии, утверждая существование особой и автономной области фактов, в данном случае относящихся к социальному, или обществу. Предполагалось, что такая область отделена от природы и противопоставлена ей.
До совсем недавнего времени это академическое разделение между миром социальных фактов и миром природных фактов в основном не оспаривалось. Между прочим оно было отражено в формулировках понятия времени, допускавших, что время природы и время общества - очень разные сущности (см.: [1; 24, Ch. 9]). Более того, это разделение имело смысл в перспективе профессионализации социологии, поскольку обеспечивало ясную и строго ограниченную область исследования: область параллельную, но не спорящую и не сталкивающуюся с теми естественными науками, которые несомненно имели дело с кажущимся очевидным миром природных явлений.
Именно такая модель социологии и вообще социальных наук наиболее заметна в текущих исследованиях так называемых «глобальных изменений среды». Грубо говоря, роль обществоведа усматривается в том, чтобы заниматься социальным влиянием и последствиями тех проблем окружающей среды, которые первоначально и точно были описаны естественником - род модели «биология сначала» (см.: [19]). Это можно ясно увидеть в ведущих международных исследовательских программах по глобальным изменениям среды, что недавно акцентировал Ньюби [30] в отношении существующей структуры Межправительственных панельных исследований климатических изменений (IPCC) и Программы по человеческому измерению глобальных изменений в окружающей среде (HDP). Ньюби отмечает, насколько обе эти программы воспринимают изменения окружающей среды как множество научных проблем, требующих технических решений. Так, в IPCC линейная модель образована рабочими панелями, построенными на научных данных, средовых и социоэкономических воздействиях и соответствующих стратегиях реагирования (описанных в откровенно технических терминах).
Похожие явления можно найти и в английской исследовательской программе по глобальным изменениям окружающей среды. После ряда значительных событий, включая волну повышения экологической сознательности общественности в конце 80-х гг. и часто цитируемую речь М. Тэтчер перед Королевским научным обществом в 1989 г., возникла новая исследовательская культура, поощряющая изучение процессов, происходящих в окружающей среде. В соответствии с международными моделями направленность этих исследований большей частью тяготела к глобальности и естественнонаучной ориентации. Так, когда в 1990 г. был сформирован Межведомственный комитет Великобритании по глобальным изменениям окружающей среды для координации всех таких исследований в стране, первый его отчет в апреле 1991 г. безусловно имел естественнонаучный оттенок. Более того, когда обществоведческие исследования стали более заметными благодаря правительственному фонду для программы по изучению глобальных изменений окружающей среды в 1990 г., они протекали в политическом климате, где значительные ожидания и политические обязательства связывались с ролью общественных наук в формулировке надлежащих ответов на проблемы, поднятые в процессе сбора естественнонаучных данных. И потому первоначальная задача программы Для общественных наук состояла в том, чтобы «помогать в понимании причин глобального изменения окружающей среды; в предсказании его воздействий и в оценке издержек ч выгод крупных социоэкономических изменений, требуемых для гармонизации общественного развития с окружающей средой» [16, 1].
Вышеописанный политический ландшафт наводит на мысль, что роль обществоведа в анализе глобального изменения окружающей среды до сих пор была в основном ролью социального инженера, манипулятора и «фиксатора», способствующего поддержанию жизнеспособности общества. В такой роли предпочтительнее выглядят «инструмента-листские» дисциплины вроде экономики и социальной географии, тогда как данных о вкладе социологии в решение проблем глобального изменения окружающей среды почти нет (что уже отмечалось выше). Далее в данной статье мы попытаемся отыскать объяснение, почему социология в основном не сумела успешно войти в дебаты по проблемам окружающей среды, даже там, где теперь существуют исследовательские программы с упором на «социальную науку». Мы начнем с возвращения к сложным взаимоотношениям между социальным и природным, прежде чем предложить некоторые области для социологического исследования и разработки. Следует предупредить, что эта статья концентрируется на взаимоотношениях общества и природы в пределах «западного» или североатлантического круга обществ и затрагивает главным образом «инвайронментали-стские», а не «биологические» темы.
Природа: исторический аспект
Исторически сопоставление общества и природы достигло наивысшего развития в XIX в. на Западе. Природа начинала вырождаться в какое-то царство несвободы и враждебности, которое надо было покорять и контролировать. Модерн включал в себя веру в то, что прогресс человечества следует измерять и оценивать в категориях господства человека над «природой», а не через попытки как-то преобразовать взаимоотношения между людьми и природой. Воззрение, согласно которому над природой надо господствовать, предполагало доктрину исключительности человека, т. е. убеждение, что люди глубоко отличаются от всех других видов и превосходят их, что люди способны определять свое предназначение и научаться всему необходимому, дабы оно исполнилось, что мир огромен и предоставляет неограниченные возможности для всех, и что история человеческого общества есть история бесконечного прогресса.
Однако, как указывает Уильяме [41], один из недостатков такой доктрины (который мы теперь хорошо сознаем) состоит в том, что нет ни одной сущности, которую можно было бы, строго говоря, назвать «природой». Мы еще вернемся к этой теме, но здесь можем отметить, что идею природы можно соотнести с сущностным качеством или характером чего-то; со скрытой силой, стоящей за какими-то событиями в мире; со всей совокупностью одушевленных и неодушевленных объектов, особенно таких, которым что-либо угрожает; с физической средой, противополагаемой человеческой культурной среде и ее особой экологии; и с сельским (в противоположность городскому) с его особенными визуальными или рекреационными свойствами (см.: [42, 216; 34, 172; 35]).
В историческом плане проект описания некоторых из ключевых трансформаций в понимании и отношении людей на Западе к природному обрисовал Уильяме [41; 42]. Он показал, что наши теперешние представления о природе происходят из чрезвычайно сложного скопления идей, связанных со многими ключевыми понятиями западной мысли, как то: Бог, идеализм, демократия, модерн, общество, Просвещение, романтизм и т. д. Начиная со средневековой космологии, Уильяме фиксирует социальную значимость, которую имело образование ряда абстрагированных, единичных и персонифицированных «природ». Как только природу отделили от множества других вещей, рассуждает Уильяме, открылась возможность предлагать социальные устроения, связанные с конкретным природным порядком. Так, апелляция к природе как к богине, затем как к божественной матери, абсолютному монарху, министру, конституционному законодателю и, наконец, избирательно производящему источнику соответственно определяло изменяющиеся отношения (часто в жесткой борьбе) между царством природы, царством Бога и человечеством. Однако два решающих изменения произошли в XVI и XVII вв. Оба они включали абстрагирование и отделение царства природы и от Бога, и от человечества, оба успешно отрицали скрытый потенциал идеи всеохватывающего космологического порядка.
Первое изменение повлекло за собой умерщвление царства природы, переход от жизненной силы к мертвой материи, от духа к машине. Фактически через обновленные науки - физику, астрономию и математику - изучение природы стало изучением того, как она построена материально. Природа стала множеством законов, причин и конвенций, открываемых по новым правилам исследования, благодаря таким формам исследования, которые можно было проводить в их собственных понятиях без всякого обращения к божественной цели или плану.
Второе изменение заключалось в истолковании некоего природного состояния как состояния первичного по отношению к человечеству или, по крайней мере, к цивилизованному обществу. Раз природа стала чем-то абстрагированным и фактически отделенным как первичное по отношению к обществу состояние, то возникают споры о сущности естественного состояния по сравнению с общественным. Два варианта этой идеи получили широкое развитие в Просвещении и романтизме. Оба они уходили корнями в спор о том, было ли «дообщественное естественное состояние» ис-точником первородного греха или первородной невинности. Раннее выражение разных позиций в этом споре можно найти у Т. Гоббса и Дж. Локка. Так, если Гоббс описывал дообщественное естественное состояние как состояние «одиночества, бедности, недоброжелательства, грубости и нужды», то Локк изображал его состоянием «мира, доброй воли, взаимопомощи и сотрудничества». Отсюда Гоббс доказывал, что основой цивилизованного общества является преодоление «недостатков природы», тогда как, по Локку, основу справедливого общества надо искать в организации его согласно «законам природы». Эти конструкции относительно природы самым решительным образом повлияли на взаимоотношения между формами социальной деятельности и тем или иным пониманием естественного состояния.
Как сказано выше, космология до эпохи модерна содержала идею всеобъемлющего порядка, внутри которого были связаны воедино человечество, природа и Бог. Моральное суждение большей частью понимали тогда в категориях подчинения человеческого действия этому естественному порядку. Но как только природа отделилась от человечества, стало возможным спрашивать, соответствуют или нет данные виды социальной деятельности предсуществу-ющему естественному порядку. Уильяме поясняет: «Говорить о «вмешательстве» человека (s7'c!) в естественные процессы - это значит, конечно, предполагать, что он имеет возможность не вмешиваться или решать не вмешиваться. Природа должна мыслиться, так сказать, в ее отделенности от человека, прежде чем возникнет какой-либо вопрос о вмешательстве или господстве над ней, а также о методе или этике того и другого» [41, 154].
Эти новые абстрагированные «природы» не только узаконили теоретическое исследование («обособленный разум, взирающий на обособленную материю», «человек, созерцающий природу»), но и оправдали введение новых практик. И действительно, Уильяме [41] показывает, что отделение природы от общества было предпосылкой для появления практик, зависимых от инструментального конституирова-ния природы как некоего множества пассивных объектов, подлежащих использованию и разработке людьми. Мораль обычно оправдывала то огромных масштабов вмешательство в природу, которое началось с XVIII в. и выросло из этой конструкции обособленной природы, чьи законы стали законами физики. А поскольку последние считались законами от Бога, физическое вмешательство начали представлять продолжением божественного творчества. На деле это логически вело к мысли о том, что вторжение людей в природу обосновано и нанесение вреда пассивной материи для человеческой пользы допустимо и целесообразно. И, наконец, это вызвало к жизни не только доводы, провозглашавшие «естественность» вмешательства, но и такие, где вмешательство считалось столь неизбежным, что любую критику такой аргументации саму стали классифицировать как вмешательство.
Приблизительно в то же время появилась еще одна идейная конструкция природы. Как раз тогда, когда «улучша-тели» провозглашали неизбежность своих действий, многие люди начали испытывать на себе последствия деградации окружающей среды и ее усиленной социальной эксплуатации, производные от этого массированного вторжения в «природу». Весь этот процесс в таких его проявлениях, как работные дома и дымные фабрики, дети-трубочисты и армия шахтеров, туберкулез и сифилис стали критиковать как нечеловеческий, несправедливый и «неестественный». Однако, как показывает Уильяме [41], хотя отрицательную сторону индустриализма признать было легко, положительную альтернативу (в категориях «естественной» альтернативы) защищать стало труднее. В самом деле, по мере институционализации рынка в обществе становилось трудным, если не невозможным, критиковать механизм, который был признан созидающей причиной богатства, экономического процветания, прибылей и либеральной демократии. Рынок сам начинал пониматься как «естественное» явление и законы рынка - тоже как естественные, аналогичные законам природного мира и тем самым необоримые и недоступные вмешательству. Уильяме поясняет: «Отражением новых естественных экономических законов, естественной свободы предпринимателя продвигаться в деле без чужого вмешательства стал образ рынка как естественного [sic!] регулятора... Это был остаток... более абстрактных идей о социальной гармонии, в которой могли бы идеально совпадать личный и общественный интересы» [41, 158].
Эта натурализация рынка удивительно хорошо показывала, как перестройка понятия природы в духе «естественной науки» должна была повлиять на человечество и социальный мир. Все виды исследования были одинаково подчинены поиску естественных законов. Альтернативная концепция природы (которая вышла из романтизма, а не из Просвещения) оказалась больше эскапистской, чем визионерской. Вместо усилий возродить мораль и этику в сфере природы, обдумывая новые пути, как вновь сделать природу социальной, ее обособление сохранили, просто удалив из человеческого мира на окраины современного общества: «Природа в совсем другом смысле, чем думали ее улучшате-ли, фактически бежала на окраины цивилизации: на отдаленные, недоступные, относительно неплодородные территории. Природа была там, где не было промышленности, и в таком реальном, но ограниченном значении почти ничего не могла сказать о тех операциях на природе, которые производились в других местах» [41, 159].
В США это привело к созданию национальных парков, где нашла воплощение одна частная концепция природы как дикого состояния. В Англии это породило концепцию более прирученной природы, примером чего может служить кампания У. Вордсворта и других за «консервацию» Озерного края и прочих мест, отдаленных от науки, промышленности и власти.
До сих пор мы относились к природе в точности как к женщине. Теперь мы знаем, что это очень типично: природу часто представляли как «женщину», как богиню или божественную матерь. Дальше будет показано, что покорение природы индустриальной экономикой, разумом и наукой рассматривалось в том числе и как «овладение» ею, так что в некоторых представлениях о природе скрывались сексуализированные мужские установки на ее изнасилование и ограбление. Наконец, в иных версиях эко-феминизма провозглашается, что женщины в некотором смысле более «естественны» и ближе к «природе», чем мужчины, особенно по причине деторождения. Многие феминистские утопии построены вокруг идеи полностью женского общества, которое живет в мире с самим собой и с природной средой.
Следует также отметить, что история «природы» в дальнейшем должна считаться с тем, как колониализм и расовое угнетение повлияли на обособление природы, которая эксплуатировалась Западом и для Запада. Эта природа виделась состоящей и из искусственно обособленных «девственных» земель, и из людей, более «естественных» в качестве работников и объектов колонизаторско-туристского внимания. В русле подобных рассуждений считается, например, что быть определенным в качестве явления «природы»... значит быть определенным в качестве пассивного существа, несамостоятельного деятеля и не-субъекта, в качестве «среды» или незримых первичных условий для «передовых» достижений разума или культуры. Это значит также быть определенным в качестве ресурса, лишенного собственных целей и значения, и потому пригодного для присоединения к целям тех, кого предположительно отождествляют с миром разума или интеллекта (см.: [ЗОа, 43]).
Вывод из этого краткого исторического очерка таков, что не существует никакой «природы» самой по себе - можно говорить только о «природах». И такие природы формируются исторически, географически и социально. Следовательно, не существует естественных ограничений и пределов как таковых. Они не закреплены и не вечны, но скорее зависят от конкретных исторических и географических детерминаций, а также от самих процессов, по которым «природа» строится и поддерживается в культуре, в частности, от процессов, выражающих отношение к «другому» . Более того, раз мы признаем, что идеи о природе были основательно переплетены - и остаются таковыми теперь - с господствующими идеями об обществе, мы должны ясно понимать, что и последние оказываются воспроизводимыми, узакониваемыми, исключаемыми из оборота, общезначимыми и т. д. благодаря обращению к природе или к природному. Проект определения того, что есть природное воздействие, становится социальным и культурным проектом в такой же мере, как и «чисто» научным.
К вопросу о критической инвайронментальной социологии
Предпринятый краткий исторический очерк обеспечивает контекст, благодаря которому можно понять появление новейших концепций природы, понять их историческое (отличать от неизбежного) отделение от общества и продвинуться в критическом анализе допущений, на которые они опираются. Теперешние рассуждения о природе обычно апеллируют к обрисованным выше вариантам различения природного и социального, а социологическое исследование только приступило к объяснению тех способов, какими можно связать эти современные апелляции и с природой вне общества (например, призывами к романтической, до-человеческой, нетронутой природе), и с так называемой естественностью нынешних социальных порядков (например, утилитарными призывами к естественности чисто рыночных отношений). Хотя задачей научного социологического исследования остается более глубокий анализ социального измерения современных призывов к естественному, у социологии есть и другие возможности внести существенный вклад в нынешние дискуссии по проблемам окружающей среды. В частности, эти возможности содержатся в вопросе, как в современных обществах реконструируются «социальное» и «природное». В оставшейся части статьи мы дадим пробный набросок насущных задач для критической, ангажированной и рефлексивной социологии окружающей среды. Такая социология концентрируется на четырех взаимосвязанных областях: социологии экологических знаний; социологическом прочтении существующих «природ»; социологии экологического «вреда»; и проблеме «инвайронментализм и общество»*.
* За последние несколько лет определился ряд социологов, переходящих в проблемную область современного инвайронментализма. Два недавних примера в использовании социальной теории для понимания взаимоотношений между «природой» и «обществом» дают П. Диккенс и Т. Бентон (см.: [10; 7]).
Социология экологических знаний
Во многих отношениях нынешняя роль, приписываемая общественным наукам, предполагает описание природы, явно свойственное эпохе модерна. Правда, наш мир может быть признан имеющим конечные пределы и уже не бесконечно щедрым, но исследовательские программы действуют еще под влиянием глубоко модернистских посылок о материальности мира, о его совершенной доступности научному и рационалистическому исследованию и о принципиальном отделении людей и человеческой культуры от физической среды. Одним из последствий такой постановки вопроса является предположение (ныне большей частью принимаемое в общественнонаучных описаниях окружающей среды), что природу в первую очередь следует рассматривать как нечто устанавливающее пределы тому, чего могут достичь люди. Акцент на абсолютных пределах, как правило, определенных экологической наукой (см.: [29]), перешел из программы немногих мечтателей 1960-х годов в общепринятую повестку дня после Рио*. Так, в нынешних попытках добиться устойчивого развития прежде всего присутствует цель определить способы ограничения человеческой деятельности, так чтобы экономическое и социальное развитие могло протекать в пределах конечных экологических ресурсов планеты. Эта концепция широко распространена в ключевых межправительственных документах (см.: [9; 36]).
* Речь идет о сессии UNCED (Конференции Объединенных Наций по [проблемам] окружающей среды) и развития, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г. Конференция приняла «Риоскую Декларацию об окружающей среде и развитии». В ней, в частности подчеркивается важнейшая роль женщин в роль в контроле над окружающей средой и решении проблем устойчивого развития. Конференция приняла также «Программу действий на XXI в.», где много говорится о роли женщин и женских групп, а также тендерного равенства и равенства возможностей для мужчин и женщин.
И все же, вопреки такой программе и несмотря на реальность определенного рода материальности мира, «природы» могут не только ограничивать, но и поощрять человеческую деятельность. В ряде случаев идея «природы» оказалась относительно благотворной и способствовала деятельности, не разрушающей окружающую среду. Например, популярное ныне обращение к «экологии» можно рассматривать не просто как отражение заинтересованности в физическом состоянии окружающей среды, но и как расширение благоприятных возможностей для развития иного базиса общества. В таком случае на «природу» не должно взирать как на что-то, чем надо «овладеть» или что следует покорить, или как на что-то, обязательно находящееся не в ладах с человеческой предприимчивостью. В самом деле, постоянное акцентирование пределов в связи с рядом решений не делать что-то или делать поменьше может внушить убеждение, будто ответственность за состояние среды - это нечто предельно ограничительное и дисциплинарное. В другом месте мы уже проанализировали, каким образом появление программы охраны окружающей среды в английской сельской местности связано с парадоксальным усилением дисциплинарной регуляции ее посещений любителями природы (см.: [27]). Более того, определение пределов в категориях материальных количеств переносит политический центр тяжести на получение обязательств просто ограничить экономическое поведение вместо решения более фундаментальных вопросов о самом отношении между природным и социальным, на которое опирается текущее экономическое поведение. Другими словами, вместо того, чтобы определять сегодняшние «инвайронменталистские знания» как набор параметров социального поведения, социология может поставлять информацию для решения проблем окружающей среды в такой ключевой области, как исследование социальных источников, участвующих в производстве упомянутых знаний, и их вкладов в формирование характера последующих дебатов.
Этот тип социологического исследования начинает приносить плоды в направлении «деконструкции» методик и методологий, которые в настоящее время употребляются при изучении экологической проблематики. Существующая в Ланкастере исследовательская программа включает изучение социологии научных знаний, информирующих о глобальном изменении окружающей среды. Посвященная рассмотрению принципиальных экологических проблем, включая глобальное потепление, кислотные дожди, охрану естественной среды обитания и восприятие экологического риска, эта программа сосредоточилась на культурно зависимом характере разных форм экологических знаний. Первые результаты показывают: то, что считается авторитетным научным знанием, в значительной степени представляет собой продукт активных взаимодействий и переговоров между учеными и политическими деятелями. К примеру, модели глобального изменения климата, центральные в спектре международных политических реакций на угрозы глобального потепления, скрыто опираются на сомнительные предположения о человеческом, институциональном и рыночном поведении.
Вторую область, где социология способна критически и конструктивно заниматься «культурными зависимостями» официальной науки, можно усмотреть в нынешних дебатах о восприятии риска. Например, в докладе «Риск» Королевского научного общества (1992 г.), особенно в пятой главе, дается довольно полное обозрение разных психологических, социальных и культурных подходов к проблеме восприятия риска (см.: [33]). Традиционно роль обществоведа в осмыслении восприятий риска публикой была близка к роли поставщика методик, позволяющих определить, как общество воспринимает риск конкретных опасных технологий при «объективной» оценке реального риска их использования (возможно, первейший пример здесь - ядерные технологии). Но появляется и более четко выраженный социологический подход, который отличается от других методологий (например, экономического анализа затрат и выгод, анализа принятых решений и математического анализа риска), используемых для определения восприятий риска, а также от ценностно-нагруженных суждений, на которые они опираются. Первый вызов ортодоксальным психологическим подходам бросила М. Дуглас (см.: [11; 12; 13]), в расширенном виде ее идеи получили название «культурной теории». В теории Дуглас доказывается, что необходимо определить культурное место индивидуальных восприятий риска в сети социальных и институциональных взаимоотношений, которые накладывают конкретные ограничения и обязательства на социальное поведение индивидов. В социологических понятиях культурная теория предлагает описывать отношение людей к риску через их образ жизни. Однако этот подход, ограничивший рассмотрение культурных процессов Двумя измерениями (в общей сети отношений и в группе), тоже критиковался за чрезмерные эссенциализм и упрощение более сложных оттенков в социальных различиях (см.: [23]). Менее детерминистскую схему для исследования социальных рамок, определяющих восприятие риска, развили Б. Уинн [44; 45; 47] и С. Джазанофф [22]. Они выступают за то, чтобы в расчет принимались более широкие социальные и культурные измерения, выраженные в озабоченности людей проблемой риска. Сосредоточиваясь на предположениях, которые делают эксперты при выборе основания для качественной и количественной оценки риска (по таким переменным как кредит доверия, двойственность и неопределенность в отношениях к риску), Уинн [47] показывает, что оценки экспертов зачастую резко расходятся со взглядами непрофессионалов и что, следовательно, «эксперты» неправильно понимают, как в действительности люди относятся к своей насыщенной риском окружающей среде.
С этим связан вопрос, каким образом более критически настроенная социология может бросить вызов техническим и естественным наукам, демонстрируя, что эти строгие науки сами держатся на каких-то социальных предпосылках, которые в «реальном мире» означают, что предсказания теории лабораторного происхождения не всегда работают в конкретных обстоятельствах этого «реального мира». Этот момент хорошо показан Уинном на примере воздействия осадков из Чернобыля на овцеводство в английском Озерном крае. Он так суммирует свои наблюдения: «Хотя фермеры признали необходимость ограничений, они не смогли принять, что эксперты явно игнорируют особенности их подхода при нормально гибкой и неформальной системе ведения дел в условиях контурного земледелия*. Эксперты полагали, что научное знание можно применять к контурному земледелию, не приспосабливаясь к местным условиям... Эксперты были невеждами в реальных тонкостях фермерства и пренебрегали местным знанием» [46, 45].
* То есть земледелия на склонах холмов.
Вышеупомянутые исследовательские программы указывают на появление новой роли социологии: давать более социально осведомленные и содержательные описания науки и других «авторитетных» источников знания, которые «пишут» теперь для нас экологическую программу. Описывая социальные, человеческие и культурные случайности так называемой объективной науки, социология может помочь не только лучшему пониманию этой программы, но и социально информированной политике, сознающей социальные предпосылки, на которые она опирается.
«Чтение природ» с социологической точки зрения
Начнем с замечания, что социология способна помочь в освещении множества социально разнообразных способов оценки окружающей среды. Что рассматривается и критикуется как противоестественное или экологически вредное в одну эпоху или в одном обществе, не обязательно считается таким в другое время или в другом обществе. Например, ряды стандартных домов, наспех возведенные во время капиталистической индустриализации в Британии XIX в., теперь рассматриваются не как оскорбление для глаз и разрушение визуальной среды, а как традиционные, затейливые и уютные образчики человеческой деятельности, вполне достойные сохранения. Сдвиги в восприятии даже более поразительны в случае с паровозом в Британии, столб дыма которого почти везде считают «естественным». Таким образом, «чтение» и производство природы есть то, чему учатся, и процесс обучения очень сильно варьируется в разных обществах, в разное время и в разных социальных группах одного общества.
Более того, социология может сделать непосредственный вклад в анализ и понимание социальных процессов, породивших определенные проблемы, которые принято считать «экологическими». В отличие от точки зрения наивного реализма, в соответствии с которой экологические проблемы появляются на свет последовательно по мере расширения научных знаний о состоянии среды, социологически ориентированное исследование смотрит на социальный и политический контекст, из которого приходят в мир экологические идеи, и тем самым дает более обоснованную оценку их социального значения.
Социальная и политическая канва современного инвай-ронментализма сложна. Она скрепляется с другими социальными движениями (см.: [17 ; 28]) и с разнообразными глобальными процессами. Так, теоретики отождествили инвайронментализм с новым полем борьбы против «саморазрушительного процесса модернизации» [15], тем связывая инвайронментализм с развивающейся критикой глобально планируемого общества (нечто похожее первоначально отражено в контркультуре 1960-х годов). Р. Гроув-Уайт [18] показывает, что самые понятия, которые ныне составляют ядро экологической программы, были связаны с процессом активного словотворчества в экологических группах 1970-1980-х годов в ответ на относительно более универсальные тревоги современного общества. Приводя конкретные примеры отношения к автострадам, ядерной энергетике, сельскому хозяйству и охране среды, Гроув-Уайт утверждает, что определенные формы экологического протеста были в такой же мере связаны с широко распространенным в обществе ощущением какого-то беспокойства из-за крайне технократизированной и неотзывчивой политической культуры, как и с любыми специальными оценками здоровья физической среды, т. е. того, что находится вне человека. Так что проблема «окружающей среды» осознавалась через ряд тем и политических событий, которые напрямую с нею как таковой и не были связаны.
Шершинский отмечает еще два обстоятельства. Во-первых, увеличился диапазон эмпирических явлений, которые начали считаться экологическими проблемами, а не просто показателями изменения окружающей среды. Так, автострады или атомные станции стали считаться разрушительными нововведениями, а не нормально продолжающимися изменениями, которые были бы в известном смысле «естественной» частью современного проекта (каковой в основном продолжали считать топливную энергетику [35, 4]). И, во-вторых, целый ряд событий оказался связанным воедино, так что их стали рассматривать как часть всеохватывающего экологического кризиса, поразительное число разных проблем которого одновременно считаются и частью самой этой окружающей среды и тем, что ей угрожает (см. также: [32]).
Дополнительно необходимо исследовать те наиболее фундаментальные социальные практики, которые способствовали социальному прочтению физического мира как экологически поврежденного. Существует, например, небольшая специальная работа о значении путешествий, которые в некоторых случаях могут обеспечить людей «культурным капиталом» для сравнения и оценки экологически различных состояний среды и развивать в них чувствительность к проявлениям деградации среды [38]. В ней подчеркивается, что именно недостаток путешествий в том пространстве, что называлось Восточной Европой, отчасти объясняет явную слепоту людей ко многим видам «повреждения» окружающей среды, как мы теперь знаем, очень распространенным во всем этом регионе. К другим социальным явлениям, которые могли бы внести свой вклад в становление экологического сознания, относится появление недоверия к науке и технике, а также сомнения по поводу когда-то принятого на веру значения больших организаций для современных обществ.
Хотя инвайронментализм может выглядеть как движение, большей частью противоречащее основным компонентам эпохи модерна, имеются, однако, такие черты последней, которые способствовали повышению экологической чуткости, особенно в прочтении природы как углубляющейся глобальной проблемы. Так, например, появление мировых институтов вроде ООН и Всемирного банка, глобализация деятельности групп защитников среды обитания таких, как «Всемирный фонд сохранения дикой природы», «Гринпис» и «Друзья Земли», а также развитие глобальных объединений по производству информации - все это помогло ускорить рождение чего-то вроде нового глобального самосознания, в котором процессы изменения окружающей среды все больше осознаются как всемирные и планетарные. Конечно, можно спорить, действительно ли эти процессы глобальнее по масштабам, чем многие прежние экологические кризисы, которые люди были склонны толковать как локальные или национальные. Определение «глобальное» в глобальном изменении окружающей среды - это отчасти политическая и культурная конструкция (см.: [48]).
Итак, мы приняли как данность, что, строго говоря, не существует такой вещи как природа вообще, имеются только «природы». В сравнительно недавнем исследовании Шершинский описывает два ключевых направления, в которых в последние годы предпринимались попытки концептуализировать природу (см.: [35], а также кое-какие данные в: [10]). Во-первых, ныне принято употребление понятия природы для обозначения феномена, которому угрожает опасность. Этот смысл можно усмотреть в панических высказываниях по поводу редких и вымирающих видов, особенно зрелищных и эстетически приятных; в восприятии природы как набора ограниченных ресурсов, которые надо беречь для будущих поколений; в представлении о природе как собрании правовых субъектов, особенно животных, но также и некоторых растений (см.: [7; 31]); и в образе природы как здорового и чистого тела, находящегося под угрозой и страдающего от загрязнения, той самой природы, которая, по словам Р. Карсон, быстро становится «морем канцерогенов» [35, 19-20; 8].
Второй комплекс представлений о природе строится на понятии о ней как об источнике чистоты и моральной силы. Здесь природу толкуют как объект любования, прекрасный и возвышенный; как пространство для отдохновения и вольных скитаний; как возможность возврата из современного общества отчуждения в органическое малое сообщество; и как целостную экосистему, которую надо сохранить во всем ее разнообразии и взаимозависимости, включая, конечно, влиятельную гипотезу «Геи»*[26].
* Гипотеза, в которой Земля рассматривается в качестве более или менее сознательного индивида - Прим. перев.
Эти разные концепции природы частично обеспечили культурную оснастку для развития современного экологического движения; как уже отмечалось выше, они смогли функционировать в этом качестве лишь тогда, когда была открыта «окружающая среда» как таковая. Следует отметить еще, что первоначальная концептуализация многих из этих «природ» проходила в контексте национального государства. Аргументация в пользу консервации, сохранения, восстановления и т. д. строилась на основе национальных ресурсов, которые поддавались планированию и управлению. С другой стороны, современный инвайронментализм должен был «изобрести» цельный земной шар или единую землю, которая вся целиком видится как находящаяся в опасном положении или, иначе, рассматривается через отождествление с природой как некий моральный источник. Наша дальнейшая исследовательская задача состоит в том, чтобы определить, были ли (и в какой мере) условия для появления этого «глобального дискурса» вокруг природы заложены самими модернистскими процессами глобализации, или же все это было скорее результатом чисто мыслительных сдвигов, осуществленных движением интеллектуалов, вырабатывающих идеи и образы, вроде «голубой планеты», которые все более становятся разменной монетой в нашем нынешнем «хозяйстве знаков» (см.: [35, Ch. 1; 24]).
Социология экологического «ущерба»
Третье направление, в котором социология может способствовать пониманию экологических вопросов, - это исследование социальных процессов, которые в настоящее время производят то, что признается обществом вредным для окружающей среды. О многих из этих процессов ныне теоретизируют в социологии, но редко в их экологических аспектах (таких как потребительство, туризм и глобализация). Почти все проблемы «окружающей среды» вытекают из конкретных образцов социального поведения, связанных с доктриной человеческой исключительности и разделением «природы» и «общества».
Потребительство представляет собой особенно существенный социальный феномен. Теперь достаточно хорошо установлено, что в структурной организации современных обществ произошел какой-то сдвиг, в результате чего сильно изменились формы массового производства и массового потребления. Этим мы не хотим сказать ни того, что вся экономическая деятельность когда-то была «фордистской» (большая часть индустрии обслуживания таковой не была), ни того, что сегодня будто бы остаются не очень значительные элементы «фордистского» производства. Однако для нас важны четыре сдвига в структурном значении и характере потребления: огромное расширение спектра доступных ныне товаров и услуг, благодаря существенной интернационализации рынков и вкусов; возросшая семиотизация продуктов, так что знак, фирменная марка, а не потребительская стоимость становится ключевым элементом в потреблении; крушение некоторых «традиционалистских» институтов и структур, почему потребительские вкусы стали более подвижными и открытыми; и возрастание важности образцов потребительского поведения в формировании личности и отсюда некоторый сдвиг от власти производителя ко власти потребителя (см.: [24], а также скептические замечания [40]).
Здесь вполне уместны рассуждения 3. Баумана. Он утверждает, что «в сегодняшнем обществе потребительское поведение (свобода потребителя, приспособившаяся к потребительскому рынку) настойчиво стремится занять положение одновременно познавательного и морального средоточия жизни, стать объединительной скрепой общества... Другими словами, занять такое же положение, какое в прошлом, на протяжении фазы модерна в капиталистическом обществе, занимал труд» [3, 49].
При этом начинает господствовать принцип удовольствия как таковой. Поиски удовольствия превращаются в долг, поскольку потребление товаров и услуг становится структурной основой западных обществ. И потому в процессе социальной интеграции меньше используются принципы нормализации, ограничения и дисциплинарной власти, описанные Фуко, да, впрочем и самим Бауманом для случая массового истребления евреев [2]. Вместо этого интеграция осуществляется путем «соблазнения»* на рынке, через смесь ощущений и чувств, порождаемых созерцанием, осязанием, слушанием, пробованием, обонянием и самим движением сквозь все то необыкновенное разнообразие товаров и услуг, мест и сред, которое характеризует современное потребительство, организованное вокруг особой «культуры природы» (см.: [43]). Это современное потребительство благополучных двух третей населения в главных западных странах порождает стремительно меняющийся огромный спрос на различные продукты, услуги и места. Современные рынки живут на переменах, разнообразии и расхождениях во вкусах, на подрыве традиций и единообразия, на предложении продуктов, услуг и мест, выходящих из моды почти так же скоро, как они входят в моду.
* Возможно, это намек на известную книгу Ж. Бодрияра - Прим. перев.
Мало причин сомневаться, что эти образцы современного потребительства имеют губительные последствия для окружающей среды. Они выражаются в дырах в озоновом слое планеты, глобальном потеплении, кислотных дождях, катастрофах на атомных станциях и омертвению многих местных зон обитания. В своих крайних проявлениях потребительство может повлечь получение или закупку новых частей для человеческого тела - процесс, который подрывает ясный смысл различения естественной телесной внутренней среды, противопоставляемой несродной телу внешней среде (см.: [34]).
Такое западное потребительство, где «природа оказывается превращенной в простые поделки для потребительского выбора» [34, 197], вызвало обширную критику со стороны экологического движения, а она в свою очередь видится как часть еще более широкой критики всей эпохи «модерна» . Но следующий заключенный здесь парадокс состоит в том, что само развитие потребительства способствовало появлению сегодняшней критики, живописующей деградацию окружающей среды, и особой культурной сосредоточенности на «природе». Весь инвайронментализм можно представить как предварение определенного рода потребительства, на том основании, что одним из элементов потребления является усиленное размышление о разных местах и средах, товарах и услугах, «потребляемых» буквально благодаря нежданным социальным встречам с ними, или визуальное знакомство (см.: [38]). По мере того как люди размышляют о таком потреблении, у них развиваются не только обязанность потреблять, но также и определенные права, включая права гражданина как потребителя. Эти права включают уверенность в том, что люди имеют право на определенные качества окружающей среды, воздуха, воды, звукового фона и пейзажа, и что это право в будущем должно распространяться и на все другие (незападные) народы. В современных западных обществах начался сдвиг центра тяжести в самом основании идеи гражданства: от политических прав к правам потребителя, а внутри последних - к экологическим правам, особенно связанным с концепциями природы как зрелища и места отдохновения. Некоторые из этих прав также начинают рассматриваться как международные, поскольку с развитием массового туризма западные люди во все большей степени становятся потребителями окружающих сред вне своей национальной территории и как таковые развивают систематические ожидания соответствующего качества этих сред.
Однако процессы интенсификации, связанные с това-ризацией почти всех элементов общественной жизни, породили и соответствующую интенсификацию нерыночных форм поведения и социальных отношений. Строительство отношений на побуждениях, возможно, более человечных в «классическом» понимании (как у людей, пытающихся вести относительно альтруистическую, неэгоистическую жизнь и действующих по образцам солидаристского, взаимозависимого, нерыночного поведения), приводит к появлению множества напряжений между конфликтующими рациональностями - рыночной и нерыночной. И действительно, в своих крайностях социальная критика потребительски ориентированного общества направлена к новым формам социальной организации (противопоставляемым организации вышеописанных потребительски ориентированных групп), чья сущность выявляется в открытом сопротивлении потребительским принципам. Эти новые социальные движения (типа «Саботажников охоты», «За права животных», «Спасем Землю» и других групп прямого действия), часто возникавшие как ответ на ощущение угрозы экологических злоупотреблений и вытесняемые из леги-тимной сферы государственно регулируемого, потребительски ориентированного действия, ныне испытывают более откровенные притеснения (очень показательный пример этого процесса - предлагаемая реформа уголовного судопроизводства в Англии, специально метящая в эти «проблемные» группы). Поэтому будущей темой исследования становится то, что можно назвать «экологическим отклоняющимся поведением».
Инвайронментализм и общество
Этот последний раздел посвящен вопросу, как может социология помочь пониманию роли экологической программы в структурном формировании и культурном преобразовании современного общества.
Одна из областей, популярных в нынешнем социологическом теоретизировании (особенно после перевода на английский книги У. Бекка «Общество риска» ([5]), - это споры о текущем состоянии постмодернистского общества (или общества позднего модерна) и о культурных последствиях новых форм рефлексивности. Э. Гидденс, к примеру, доказывает, что в эпоху модерна рефлексивность состояла из социальных практик, постоянно проверявшихся и пересматривавшихся в свете информации, поступавшей от самих этих практик, и таким образом изменяла их строение. По его мнению, только в это время распространяется ревизия культурных условностей, радикализированная до приложения (в принципе) ко всем сторонам человеческой жизни, включая технологическое вмешательство в материальный мир*.
* Авторы имеют в виду книгу: GiddensA. Modernity and Self-Identifity. Cambridge: Polity Press, 1991.
Такая рефлексивность направляет методы западной науки, этого истинного воплощения модерна, которая, однако, в качестве деятельности не более легитимна, чем многие другие виды социальной деятельности, каждый из которых включает разные формы самооправдания. Науке не приписывают теперь обязательно цивилизующую, прогрессивную и освободительную роль в открытии того, что есть природа. Во многих случаях наука и связанные с нею технологии рассматриваются сегодня как проблема, а не решение. Особенно это относится к ситуации, где мы фактически имеем дело с масштабными и неконтролируемыми научными экспериментами, лабораторией для которых служит весь земной шар или значительная часть его (как при накоплении ядовитых отходов, использовании химических удобрений, атомной энергии и т. д.). В обществе риска наука выглядит производителем большинства видов риска, хотя они по большей части не воспринимаются нашими чувствами.
Утрата всей наукой «автоматического» общественного авторитета ослабляет и легитимность экологических (и медицинских) «наук». Само признание риска зависит от таких наук по причине «нарастающего бессилия органов чувств» как, например, в случае химического и радиоактивного загрязнения (см.: [4, 156; 14]). В свою очередь это оборачивается проблемой для зеленого движения, поскольку такого рода науки по необходимости оказываются в центре многих кампаний, проводимых экологическими неправительственными организациями, даже если они до сих пор сохраняют склонность использовать здесь науку в тактических целях, возможно, чисто инстинктивно упирая на неопределенность и нежесткость, присущие многим частным наукам (см.: [50]). Недавно Б. Уинн и С. Майер доказывали необходимость более взвешенного и морально защитимого применения науки в формировании и внедрении в жизнь экологической политики [49]. Социология в состоянии продвигать этот спор дальше, изучая вопрос о возможном облике некой более рассудительной «зеленой» науки. Вышеназванные движения предоставляют хорошие возможности для социологического исследования новых форм социального уклада и структуры, вырастающих из реакций общества на инвайронментализм. В дальнейшей разработке нуждается одна из линий аргументации, где вышеупомянутые процессы толкуются как симптомы более широкого культурного процесса индивидуализации и детрадицио-нализации (см.: [5; 6; 21; 24; 39]). Утверждают, что подобные процессы ведут к появлению менее институционали-зированных форм самосознания и социального уклада. Такие институты как наука, церковь, монархия, нуклеарная семья и формальные правительственные структуры, похоже, теряют легитимацию (появление мозгового центра DEMOS - одно из проявлений этого процесса) и все более видятся как часть проблемы, а не найденное решение, ведущее к новым, более свободным формам общественного уклада, включая развитие новых социальных движений или, как мы предпочитаем говорить, «новых социаций»* (см.: [39]). Фактически появление новой сферы политического в форме нежестких, непартийных и самоорганизующихся содружеств и ассоциаций, часто в форме групп самопомощи, коммунальных групп и добровольных организаций, связано с тем, что Бекк описал как новую динамику «субполитизации», в силу которой государство сталкивается со все более разнородным и разнонаправленным множеством групп и социаций меньшинств [6].
* Учитывая, что словом «sociation» в английском языке традиционно передается зиммелевское «Vergesellschaftung», можно говорить здесь о «новых обобществлениях».
Уже имеется ряд характеристик таких социаций [20; 39]. Во-первых, они не похожи на традиционные объединения общинного типа, поскольку люди соединяются в них по собственному выбору и свободны покинуть их в любое время. Во-вторых, люди дорожат членством в них отчасти из-за эмоционального удовлетворения, которое они извлекают из общности целей или общих социальных переживаний. И, в-третьих, поскольку членство зависит от выбора, то состав таких социаций будет обновляться стремительно. Эти характеристики наилучшим образом определяют социаций в качестве современных экспериментальных площадок, где можно опробировать новые виды социальной идентичности. Подобные социаций предоставляют людям определенные возможности, обеспечивая относительно безопасные места для проверки их самоопределения (идентификации) и подходящий контекст для приобретения новых умений. Такие новые детрадиционализированные социаций можно классифицировать по степени децентрализации власти, ее удаленности от центра, по степени формальной спецификации организационной структуры, по степени и формам участия в общественной жизни на местном уровне, по типам действия, возникшим благодаря членству в социаций, и по степени осмысленности членства в организации. Необходимо особое исследование, чтобы понять значение этого нового стиля социальной организации, понять степень его вклада в новые политические реальности и последствия для теперешнего изучения инвайронментализма как нового социального движения. Появление новых социаций вокруг проблем окружающей среды говорит о том, что развиваются особые формы социальной идентичности, которые подразумевают прорыв за пределы относительно изолированных сфер общества и природы и своеобразное восстановление гражданского общества [21, Ch. 7] (о чем свидетельствуют массовые наблюдения за процессами «позеленения» людей).
Существуют интересные связи между такими новыми социациями и обсуждавшимся нами раньше восприятием кризиса окружающей среды как глобального. Данные о «глобальном» или холистском воззрении на природу можно найти в массе межправительственных и правительственных договоров, конвенций и документов, ставших результатом нынешней сосредоточенности на проблеме поддержания ее жизнеспособности* (доклад Брундтланд говорит о «нашем общем будущем» отчасти именно из-за глобального характера определенных угроз природе, начиная с «ядерной» угрозы). Формированию такого восприятия помогло развитие глобальных средств массовой информации, которое породило «воображаемое сообщество»** всех обществ, живущих на единой Земле (отсюда «Друзья Земли»). Однако наряду с массой глобалистских процессов существует и новый набор интересов, касающихся культурно определенных локальных сред. Диапазон этих местных интересов, вокруг которых возможна мобилизация людей, необычайно широк. Если брать примеры из Северной Англии, то это и усилия по консервации шлаковых отвалов в Ланкашире, и кампания с целью запретить разметку желтыми линиями на некоторых дорогах в Баттершире, и сильное сопротивление восстановлению на том же месте сгоревшего рынка в Ланкастере.
* Примеры важнейших стратегических межправительственных документов по проблеме жизнеспособности, которые помогли сформировать и внедрить идею «глобальной» природы, включают «Стратегию консервации мира» (1980), доклад Г. X. Брунтланд «Наше общее будущее» (ООН, 1987), «Программу, инспирированную Всемирным фондом сохранения дикой природы» на сессии UNCED в Рио и пятую программу действий Европейского Сообщества по сохранению среды и поддержанию устойчивого развития.
** Термин взят из названия знаменитой книги: Anderson В. Imagined Communities. L.: Verso, 1983.
Следовательно, в наличии имеется множество экологических идентификаций, локальных и глобальных, рационалистических и эмоциональных, ориентированных пейзажи -стски-созерцательно и утилитарно, и т. д. (более подробно см.: [35]). В обществах постмодерна эти множественные сознания, по-видимому, и дальше будут становиться все более заметными. Поэтому нам нужно развивать социологию, которая изучает этот феномен явно возрастающей значимости «экологических идентичностей» в современных обществах, идентичностей, которые часто несут с собой сложный узел взаимопереплетающихся глобальных и местных интересов. Статистическим доказательством важности этих самосознаний может служить огромное увеличение численности почти всех экологических организаций в 1980-1990-х годах*.
* На конец 1993 г. наиболее признанные экологические организации продолжают расти при уже очень большом числе своих членов. Тогда в Англии «Гринпис» поддерживали 390 тыс. человек, «Друзья Земли» насчитывали 230 тысяч членов, «Национальное доверие» - свыше 2 млн. 200 тыс., «Королевское общество охраны птиц» - свыше 850 тыс. и «Королевское общество охраны природы» - свыше 250 тыс. человек.
Заключение
Итак, мы изложили некоторые задачи социологического подхода к проблеме окружающей среды. Он вырисовывается как долгая и сложная программа исследований, которая охватывает вопросы политической экономии, государства, гендера, науки, культуры, времени, новых социальных движений, проблему «другого» - т. е. фактически все темы, интенсивно изучаемые ныне социологией. Эта экологическая программа предоставляет социологии благоприятную возможность распутать сложные образцы поведения, развивающиеся из сегодняшних реакций на «природу» и на удовлетворительность или неудовлетворительность официальных «авторитетных» отчетов и политических программ.
Пересмотр вопроса о природе по-особому освещает также темы времени и пространства, которые с недавних пор обильно проникают в повестку дня социологии. Б. Адам очень интересно показала, насколько неубедительно обычное в социологии различение природного и социального времени. В этой науке стало общим местом, что социальное время включает изменение, прогресс и упадок, тогда как природные явления мыслимы и вне времени, и с привлечением концепции обратимого времени [1]. Адам доказывает, что указанное различение ныне нельзя удержать, поскольку почти вся наука XX в. выявила, что «природа» тоже описывается понятиями изменения и упадка: «Прошлое, настоящее и будущее время, историческое время, качественное переживание времени... - все эти характеристики времени признаны неотъемлемыми элементами в содержании естественных наук и часового времени, в понятиях инвариантной меры, замкнутого круга, совершенной симметрии и обратимого времени как творений нашего ума» [1, 150].
Общественные науки оперировали концепцией времени, не соответствующей подлинной концепции естествознания - неким почти «обезвремененным» временем. Нововведения науки XX в. сделали различение природного и социального времени несостоятельным и снова привели нас к заключению, что простого и жизнеспособного разграничения между природой и обществом не существует. Они неизбежно переплетены между собой. Поэтому мы имеем много разных времен (как фактически и много разных пространств) и нельзя точно определить социальное время, отдельное от времени природного.
Сказанное связано с нашим более общим замыслом - продемонстрировать разнообразие «природ». М. Стратерн указывает на один существенный парадокс в современных теоретических разработках [34]. Ясно, что с эмпирической точки зрения в них присутствует преувеличенная сосредоточенность на важности «природы», на оценивании «природного», на образах «природного» и на «сохранении природы». Но, как замечает Стратерн, эти преувеличения глубоко опосредованны культурой. Другими словами, культура необходима, чтобы спасать природу. Он указывает на своеобразный «концептуальный коллапс при проведении различий между природой и культурой, когда Природа не может выжить без вмешательства Культуры» [34, 174]. А если так, то остается ли какое-нибудь место «природе», когда она нуждается в культуре для своего, так сказать, воспитания? В прошлом вся сила «природы» заключалась в способе, каким фактически скрывалось от людских глаз ее культурное строение (см.: [25]). Но в современном мире неуверенности и двойственных отношений во всем этого больше недостаточно. И главной задачей общественных наук должна стать расшифровка социальных последствий того, что было всегда, а именно, природы, сложно переплетенной и основательно связанной с социальным.
Однако следует также отметить, что теперь эта природа меньше привязана к отдельным национальным обществам, к национальной «общности судьбы» и гораздо более взаимосвязана с тремя другими концепциями социального: глобального, включающего информационные и коммуникативные структуры; локального; и учитывающего сложные многообразия идентичностей в отношении природы и времени (см. более подробно: [2, Ch. 11]). Расшифровка этих взаимосвязей обещает нам богатую и трудоемкую исследовательскую программу, которая, возможно, выведет социологию с обочины в спорах о «природе».
ЛИТЕРАТУРА
1.Adam B. Time and social theory. Cambridge: Polity, 1990.
2.Bauman Z. Modernity and the holocaust. Cambridge: Polity, 1989.
3.Bauman Z. Intimations of postmodernity. L.: Routledge, 1992.
4.Beck U. An anthropological shock: Chernobyl and the contours of the risk society // Berkeley Journal of Sociology. 1987. Vol. 32. P. 153-165.
5.Beck U. Risk society: towards a new modernity / Trans. by M. Ritter. L: Sage, 1992.
6.Beck U. Individualisation and the transformation of politics // Conference paper. De-traditionalisation: Authority and Self in an age of cultural uncertainty. Lancaster Universoty. Lancaster, 1993.
7.Benton T. Natural relations. L.: Verso, 1993.
8.Carson R. Silent spring. Harmondsworth: Penguin, 1965.
9.Commission of the European Communities. Fifth Environmental Action Programme for the Environment and Sustainable Development. Brussels: CEC, 1992.
10.Dickens P. Society and nature. Hemel Hempstead: Harvester Wheat-sheaf, 1992.
11.Douglas M. Risk acceptability according to the social sciences. N.Y.: Russel Sage Foundation, 1985.
12.Douglas M. Risk as a forensic resource // Daedalus. 1990. Vol. 119. P. 1-16.
13.Douglas M. Risk and blame. L.: Routledge, 1992.
14.Douglas M., Wildavski A. Risk and culture: an essay on the selection of technological and environmental dangers. Berkeley: University of California Press, 1982.
15.Eder K. Rise of counter-culture movements against modernity: Nature as a new field of class struggle // Theory, Culture and Society. 1990. Vol. 17. P. 21-47.
16.ESRC. Global Environmental Change Programme. L.: ESRC, 1990.
17.Eyerman R., Jamison A. Social movements: a cognitive approach. Cambridge: Polity, 1991.
18.Grove-MTiite R. The emerging shape of environment conflict in the 1990’s // Royal Society of Arts. 1991. Vol. 139. P. 437-447.
19.Grove-White R., Szerszynski B. Getting behind environmental ethics // Environmental Ethics. 1992. Vol. 1. P. 285-296.
20.Hetherington К. The geography of the other: lifestyle, performance and identity. Ph. D. Dept of sociology. Lancaster University. Lancaster, 1993.
21.Jacques M. The end of politics // Sunday Times: The culture supplement. L, 1993.
22.Jasanoff S. Contested boundaries in policy-relevant science // Social Studies of Science. 1987. Vol. 17. P. 195-230.
23.Johnson B. The environmentalist movement and grid/group analysis: a modest critique // The social and cultural construction of risk / Ed. by B. B. J. and V. T. Covello. Dordrecht: Reidel, 1987.
24.Lash S., Urry J. Economics of signs and space. L.: Sage, 1994.
25.Latour B. We have never been modern / Transl. by C. Porter. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993.
26.Lovelock J. The ages of Gaia: a biography of our living earth. Oxford: Oxford University Press, 1988.
27.Macnaghten P. M. English landscapes of discipline and transgression / Unpublished paper. CSEC. Lancaster University, 1994.
28.Melticci A. Nomads of the present: social movements and individual needs in contemporary society. L.: Radius, 1989.
29.Newby H. Ecology, amenity and society: social science and environmental change // Town Planning Review. Vol. 61. P. 3-20.
30.Newby H. Global environmental change and the social sciences: retrospect and prospect / Unpublished. 1993.
31.Plumwood V. Feminism and the mastery of nature. L.: Routledge, 1993.
32.Porritt J. Seeing green: the politics of ecology explained. Oxford: Black-well, 1984.
33.Rubin C. Environmental policy and environmental thought: Ruckel-shaus and Commoner // Environmental Ethics. 1989. Vol. 11. P. 27-51.
34.The Royal Society. Risk: analysis, perception, management. L.: The Royal Society, 1992.
35.StrathernM. After nature: English kinship in the late twentieth century. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
36.Szerzynski B. Uncommon ground: moral discourse. Foundamentalism and the environmental movement. Ph.D. Dept of Sociology. Lancaster University. Lancaster, 1993.
37.UNCED. Our common future, UNCED. Switzerland: Conches, 1987.
38.UNCED. Agenda 21. UNCED. Switzerland: Conches, 1992.
39.Urry J. The tourist gase and the «Environment» // Theory, culture and society. 1992. Vol. 9. P. 1-22.
40.Urry J. Social identity, leisure and the countryside // Leisure uses of the countryside / Ed. by R. Grove-White, J. Darrall, P. M. Machaghten, G. Clark, J. Urry. L.: CPRE, 1993.
41.Warde A. Consumers, identity and belonging; reflections on some theses of Zygmunt Bauman // The authority if the consumer / Ed. by R. Keat, N. Whi-teley, N. Abercrombie. L.: Routledge, 1994.
42.Williams R. Ideas of neture // Ecology, the shaping of enquiry / Ed. by J. Rental!. L.: Longman, 1972.
1.Социология природы 291
43.Williams R. Keywords: A vocabulary of culture and society. L.: Fontana, 1976.
44.Wilson A. The culture of nature: North American landscape from Disney to the Exxon Valdez. Cambridge MA: Blackwell, 1992.
45.Wynne B. Rationality and ritual: The windscape inquiry and nuclear decisions in Britain. Chalfont St Giles: British Society for the History of Science, 1982.
46.Wynne B. Understanding public risk perceptions // Environmental threats: Perception, analysis and management / Ed. by J. Brown. L.: Belhaven, 1989.
47.Wynne B. After Chernobyl: Science made too simple // New Scientist. 1991. 1753. P. 44-46.
48.Wynne B. Risk and social learning: Reification to engagement // Theories of risk / Ed. by S. K. and D. Golding.
49.Wynne B. Scientific knowledge and the global environment // Social theory and the global environment / Ed. by E. Benton, M. Redclift. L.: Rout-ledge, 1994.
50.Wynne В., Meyer S. How scienece fails the environment // New Scientist. 1993. 1876. P. 33-35.
51.Yearley S. The green case. L.: Harper Collins, 1991.
Гай Оукс ПРЯМОЙ РАЗГОВОР ОБ ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ ТЕОРИИ*
Сплошь эксцентричное
Для постмодернистского движения на нынешней стадии его эволюции более всего характерно культивирование необычных форм интеллектуализма. Один из наиболее колоритных и свежих продуктов его развития - это «эксцентричная теория», недавно воспетая в дискуссии на страницах журнала «Sociological Theory»[22]**.
* Oakes G. Straight thinking about queer theory.
** Благодарю Бердетт Гарднер за замечания к первому варианту данной статьи.
Социальные теории всегда паразитировали на философии. Об их зависимости от влиятельных направлений академической философии соответствующей эпохи свидетельствует, например, тот факт, что Маркс многим обязан Гегелю, а неокантианское движение оказало сильное влияние на Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма и М. Вебера. Следует также упомянуть взаимоотношения американского прагматизма и Чикагской социологической школы, попытки в рамках ведущих направлений социальной теории удовлетворить суровым требованиям логического позитивизма, а также связи между критической социальной теорией и европейской неомарксистской философией. Эксцентричная теория - продукт вульгаризации совсем недавнего европейского (преимущественно французского) постфилософского критицизма, в основном, произведенный американскими академическими защитниками антигетеросексуальной (т. е. противниками разнополой) политики в самоопределении, или идентификации индивида*.
Эксцентричные теоретики изображают свой проект как сознательную и бескомпромиссную программу теоретической критики, или трансгрессии**. С пылом молодого Маркса лево гегельянского периода эксцентричная теория проповедует беспощадную критику всего существующего. «Эксцентричность, - говорят нам, - это всеобъемлющая идентичность, которая бросает вызов и сопротивляется окостенению частных определений человеческой индивидуальности и категорий познания» [11, 243], а эксцентричная теория подразумевает «теоретическую чувствительность к проблематике трансгрессии или вечного мятежа» [17, 173]. Цель эксцентричной теории - предпринять «массированное нарушение границ всех условных категорий познания и способов анализа» [19, 182]. «Переступательный» порыв эксцентричной теории с особой страстью обрушивается на принятую таксономию сексуальности, строящуюся вокруг противоположения гетеро- и гомосексуального - полярности, само существование которой эксцентричные теоретики приписывают нахальной самонадеянности XIX в. Отсюда их обязательства «расстроить гетеросексуальную гегемонию», «сдвигая с привычного места гетерооексуальность, гомосексуальность и отношения между ними» [15, 230].
* Участники симпозиума, кажется, особенно благосклонны к следующим авторам: [2; 14; 3; 10; 13]. Лайза Дагген характеризует Седжуик - весело, но также и совершенно серьезно - как «Джуди Гарленд» гомосексуальных исследований (см.: [4, 24]).
** В данном случае «трансгрессию» можно истолковать как «систематическое переступание границ». - Прим. перев.
Оспаривая устойчивые на вид категории, эксцентричные теоретики применяют свое оружие не только против господствующей гетеросексуальности, но и против лесби-янства и мужской гомосексуальности. Фактически эксцентричная теория нападает на существующий «режим сексуальности как таковой» [17, 174]. Ее приверженцы утверждают, что конечный принцип, на который этот режим опирается, - это исчерпывающая бинарная оппозиция гомосексуальности и гетеросексуальности. И потому в итоге и универсализация эксцентричности», и построение эксцентричной теории зависят от того, удастся ли оспорить предположение, что эта дихотомия дает достаточное основание для объяснения сексуальности.
Вероятно из-за иконоборческого рвения эксцентричных теоретиков, горячо убежденных в своей причастности к героическому штурму цитадели гетеросексуальности, у них возникают фантазии, свойственные герметическим сектам посвященных: иллюзии относительно своей оригинальности и отваги - будто бы ими сказано новое слово, которого никто прежде не произносил, и раскрыто нечто остающееся скрытым от непосвященных. Эту веру в теоретическую оригинальность эксцентричного воображения можно поддерживать, только практикуя подозрительные «умолчания» о классических социологических подходах к анализу модерна. По-видимому, эксцентрическим теоретикам понадобится еще и обвинять авторов таких подходов в невежестве или предрассудках, помешавших им адекватно исследовать, как сформировалась современная концептуализация и организация сексуальности, где аналитики приписывают привилегированный статус собственному биологическому (sex) и социокультурному (gender) полу. Заявления, будто социологические классики молчат о поле и тендере, будто они «никогда не рассматривали социальное формирование современного порядка регуляции тела и сексуальности» [17, 167], безусловно ложны. Например, Георг Зиммель, ни разу не упомянутый ни участниками симпозиума, ни их излюбленными авторами, пространно, систематически и на протяжении всей карьеры писал о немецком женском движении своего времени, социальном производстве альтернативных кодов и концепций женственности, мужественности и эротизма, а также о теориях формирования половой идентичности, называемых теперь «эссенциализмом» и «конструктивизмом» (см. следующие работы Зиммеля [20]*).
* Некоторые из этих материалов стали доступны десять лет назад на английском языке (ел.: [21]).
Абсолютной убежденностью в правоте воображаемого этически просвещенного авангарда, атакующего морально обанкротившуюся ортодоксию, можно объяснить и курьезную предрасположенность эксцентричных теоретиков хвалить друг друга за «смелость» [17, 174; 9, 203; 13, IX- X], судя по всему - без малейшей иронии. Эксцентричные теоретики вращаются в кругу самых престижных американских институтов высшего образования, включая Ам-херст, Корнелл, Дьюк, университеты Джонса Хопкинса и Уэсли, Принстон и Йель. Их исследования публикуют ведущие журналы и академические издания и поддерживают такие организации, как «Американский совет научных обществ», «Институт высших исследований» и «Фонд Гуг-генхейма». Вероятно эти триумфы в устройстве карьеры должны оставлять всех не столь щедро взысканных институционной благодатью с открытым ртом от восхищения, удивления и зависти. Несмотря на приличные ассигнования на преподавание, интерес студентов, поощрительное отношение коллег и щедрое финансирование отпусков на разные внеучебные путешествия и исследования, эксцентричные теоретики упорно подчеркивают «риск», которому они подвергаются. Такое нагнетание псевдоопасностей, видимо, только и возможно на почве экстравагантного этического нарциссизма или колоссального самообмана.
Философский молот, которым размахивает эксцентричная теория, угрожая деструкцией принятым сексуальным таксономиям, - это радикальное истолкование доктрины социального конструктивизма. Оно заключается в том, что социальная реальность не является неким ансамблем объектов, существующих независимо от человеческих намерений, целей и интересов. Социальный мир надо понимать как артефакт, сконструированный или конституированный в процессе дискурсов и практик, продуцирующих социальные категории и таксономии. Поскольку социальные категории суть продукты человеческой деятельности, их можно считать просто «изобретениями». Социальные категории всегда искусствены и ни одна из них не обладает привилегией на окончательную «подлинность» или общезначимость. Все они контингентны*, произвольны, подвижны и неустойчивы, «постоянно открыты и оспоримы». Фактически нам говорят, что дестабилизация социальных категорий влечет за собой не только их произвольность и текучесть, но и их внутреннюю несовместимость, взаимопротиворечивость. Так как выбор среди социальных категорий нельзя обосновать логически или эмпирически, он Должен быть понят как «прагматическое» решение, основанное на соображениях «ситуационного преимущества, политического выигрыша и концептуальной полезности» [17, 173; 11, 241, 243]**.
* То есть способны быть замененными и другими. - Прим. перев.
** О роли социального конструктивизма в эксцентричной теории см.: [7; 8; 12]. Стивен Эпстайн, один из участников симпозиума, организованного журналом «Sociological Theory», утверждает в другом месте: «Поскольку существует логически когерентный теоретический взгляд на гомосексуальность именно как на гомосексуальность, он превращается в конструктивизм» (см.: [6, 13п]). О радикализации коструктивистской концепции социальной реальности см.: [16].
Если же «все культуры исторически контингентны и придуманы» и если социальный мир с определяющими его категориями пребывает в вечном движении, тогда то же самое должно быть верным и для сексуальных категорий и таксономии. Поэтому дестабилизация социального знания вдобавок ко всему прочему «проблематизирует гетеросексуальную точку отсчета», подвергая сомнению и ге-теросексуальность как всеобщую норму, и общезначимость дихотомии гетеросексуальное/гомосексуальное [19, 185; 11,241].
Вопреки навязчивым повторам своих утверждений об искусственности, контингентности и нестабильности социальных категорий, эксцентричные теоретики настаивают на уникальном концептуальном статусе сексуальности и наивысшей важности пола как главного ключа к социальной идентичности. Даже если «все культуры конструируются» и значения устанавливаются как результат «вечных притирок» социальных категорий друг к другу, «сексуальность и культура и далее будут центральными социальными темами». Отсюда следует, что категория сексуальности удержится «на переднем плане социальной теории» [11, 245].
Нижеследующий анализ сосредоточен на нескольких догматах эксцентричной теории: доктрине радикального конструктивизма; концепции социальной идентичности; принципе трансгрессии и эксцентричной концепции культуры.
Парадоксы радикального конструктивизма
Эксцентричная теория утверждает, что все социальные категории и концептуальные схемы суть социальные конструкты, произвольные измышления, не имеющие никакой обязывающей достоверности. Разумеется, радикальным конструктивизмом можно назвать также и концептуальную схему, придуманную социальными теоретиками, которые отвергают эмпирицистскую и реалистскую эпистемо-логию. Но если радикальный конструктивизм признает лишь чистые социальные конструкты, он не может притязать на какую-либо общезначимость. А это значит, что нет разумных оснований для предпочтения радикального конт-руктивизма любым другим способам анализа социальной реальности, включая и те, с которыми он несовместим. Радикальный конструктивизм, этот философский молот эксцентричной теории, рассыпается в пыль при попытке им воспользоваться.
Своим радикальным конструктивизмом эксцентричные теоретики намерены подорвать легитимность определенных «гегемонистских» категорий и дихотомий (вроде гете-росексуальности и бинарной оппозиции «гетеросексуальное/гомосексуальное»), попросту доказав, что они являются социальными конструктами. Но похоже, что эти теоретики недооценивают саморазрушительную силу собственной аргументации. По той же логике, наряду со всеми прочими социальными конструктами, лишается всякой достоверности и сам радикальный конструктивизм. Положение эксцентричной теории здесь безвыходное. Из посылок радикального конструктивизма следует, что он сам всего лишь социальный конструкт, после чего рушится его общезначимость и база эксцентричной теории.
Радикальный конструктивизм порождает также бесконечный регресс. Он предполагает, что данная социальная категория, например «гетеросексуальность», социально сконструирована из определенных практик и дискурсов. Эти практики и дискурсы, в свою очередь, социально сконструированы из других практик и дискурсов, которые сами сконструированы и т. д. Гетеросексуальность, практики и дискурсы, на которые она опирается, а также более отдаленные практики и дискурсы как основа первых - все это разоблачается как произвольные изобретения простым указанием на их социальную сконструированность. В принципе эта цепь доказательств бесконечна. Она либо уводит в дурную бесконечность, подрывая в этом попятном движении значимость каждой очередной категории, либо произвольно обрывает его, приписывая некую несоциально обусловленную значимость особо предпочитаемой категории, которая становится эпистемологическим неподвижным двигателем. Однако такое произвольное решение несовместимо с радикальным конструктивизмом. Вышеупомянутый регресс фатален для него, ибо и этот способ рассуждения не может уйти от судьбы любой другой концептуальной схемы. Он построен из социальных практик и дискурсов, которые также построены из других социальных практик и дискурсов, имеющих тот же гносеологический статус. Регресс к какой-то общезначимой практике или дискурсу, которые смогли бы обеспечить достаточную обоснованность радикальному конструктивизму, не может иметь успеха, так как, согласно самой же этой доктрине, такой практики или дискурса не существует. Поэтому радикальный конструктивизм может избежать подобного регресса и провозгласить свою общезначимость (тем самым отделяя себя от всех других концептуальных схем и освобождая себя от последствий собственных посылок), только если он решится противоречить самому себе. Выход не слишком удачный. Радикальный социальный конструктивизм либо порождает бесконечный регресс, отрицающий его притязания на общезначимость, либо, дабы пресечь эту нескончаемую редукцию, соглашается на противоречие самому себе.
Наконец, радикальный конструктивизм рефлексивно наносит удар по собственным притязаниям не только на общезначимость, но и на простую понятность. Если значимость всех социальных категорий подрывается указанием на то, что они социально сконструированы, то это распространяется и на категории, существенные для описаний строения общества, такие как понятия социального действия, социального смысла и социальных отношений. Если эти понятия лишить значимости, то понятие общества нельзя будет даже членораздельно выразить. В таком случае радикальный конструктивизм, который возможен лишь на базе какого-то понятия общества, недоступен разумному пониманию. В результате эта доктрина подрывает собственную логическую согласованность.
Парадоксы эксцентричной теории
Эксцентричные теоретики описывают свой проект на объективистском языке эпистемологического реализма, пытаясь тем самым охранить эксцентричную теорию от разрушительных следствии радикального конструктивизма. С одной стороны, эксцентричная теория проявляет особое нерасположение к бинарным оппозициям и, по-видимому, осуждает их все скопом, отдавая на расправу неумолимой логике радикального конструктивизма. С другой стороны, очевидно, что эксцентричная теория, в свою очередь, возможна лишь на базе оппозиций «эксцентричное/прямое» или «эксцентричное/ конвенциональное». Без этих или равноценных дихотомий эксцентричная теория не имела бы никакой опоры, чтобы начать свою атаку против общепринятой мудрости, и никаких позиций, с которых можно критиковать условные категории и переступать правила. Без какого-то эпистемологически привилегированного различения, на основе которого формируется понятие эксцентричности, соответствующая теория была бы невозможна [3, XV-XIX]. Эта теория вынуждена оберегать «универсализм эксцентричности» и предпосылки, на которые он опирается (включая центральное теоретическое положение категории сексуальности), от понятийного опустошения, производимого радикальным конструктивизмом. Короче говоря, эксцентричная теория проявляет пламенный энтузиазм, характеризуя на языке радикального конструктивизма все позиции, кроме одной. И эта одна позиция, конечно, та, которую она занимает сама.
Переиначив остроту Шопенгауэра, скажем, что радикальный конструктивизм - это не такси, из которого каждый может выйти, когда заблагорассудится. Цена, которую эксцентричная теория платит за свое освобождение из-под власти радикального конструктивизма, - непоследовательность. Из-за этой внутренней непоследовательности эксцентричная теория не в состоянии дать связный отчет о самой себе. Как могут эксцентричные теоретики избежать противоречия самим себе? Только оставаясь верными своим предпосылкам. Эксцентрики обязаны допускать, что бинарная оппозиция «эксцентричное/прямое» и понятие сексуальности - это просто социальные конструкты. То же самое верно для всех теоретических посылок эксцентричной теории, для понятий, используемых при построении этих посылок, и для критериев истинности и значимости, на которых основаны и ее посылки и понятия. Если строго следовать конструктивной логике и применять ее к самой эксцентричной теории, тогда проект такой теории предстанет всего лишь еще одним произвольным социальным изобретением. С логической точки зрения он имеет такой же непоследовательный теоретический статус как и все остальные позиции, отвергаемые эксцентриками. Результат? Эксцентричная теория оказывается либо самопротиворечивой, либо рефлексивно самоубийственной.
Парадокс идентичности
Чтобы свергнуть гегемонию гетеросексуальной идентичности в модернистской нормативной системе сексуальности, представители эксцентричной теории используют оружие радикального конструктивизма и предпринимают генеральное наступление против самого понятия социальной идентичности. Следуя логике радикального конструктивизма, они утверждают, что любая идентификация искусственна произвольна, непостоянна и самопротиворечива. Однако это мнимо универсальное развенчание понятия идентификации подрывает также идентичность самой эксцентричности и эксцентричного теоретика. Можно привести правдоподобные доводы в пользу того, что эксцентричная теория на ее теперешней программной и «прагматической» стадии служит, в основном, средством выделения, легитимации и навязывания идентичности эксцентричного теоретика. Это предположение способно объяснить примечательную склонность таких теоретиков к автобиографическим отступлениям и исповедальным примечаниям в их достаточно компактных, в остальном, теоретических писаниях. Эти личные добавки, как правило, затрагивают темы «Что я такое и как я вступил на этот путь» или «Во что я верю и почему это так важно» (см.: [19, 179 п2; 13, 54-63; 18])*
* Сидман признается в своей приверженности к «постмодерну», «прагматическим, оправдательным стратегиям, которые подчеркивают практический и риторический характер социального дискурса», а также прибегают к «генеалогиям, историческому деконструктивистскому анализу и социальным повествованиям местных рассказчиков», не задерживаясь ни для объяснений, зачем введены эти разнообразные элементы, ни для разбора их логической совместимости, по отдельности или в совокупности (см.: [18, 142 п58]). Если суть этого сидмановского исповедания веры в произнесении ритуальных заклинаний, по которым члены секты опознают друг друга, тогда вопросы логической согласованности и совместимости, необходимые при заявлении любой интеллектуально защитимой позиции, здесь, конечно, неуместны.
Но если всякая идентификация - это просто произвольный конструкт, почему мы должны всерьез воспринимать эксцентричную теорию и ее страдальцев?
На основании посылок самой эксцентричной теории, эксцентричный теоретик должен бы выглядеть как исторически контингентная, но очень свойственная концу XX в. разновидность экономически привилегированного и праздного интеллектуала, посвятившего себя профессиональному самоутверждению, поискам безопасности и престижа. Из-за преходящего и переменчивого характера всякой человеческой идентификации эксцентричные теоретики исчезнут, когда сойдут на нет удовлетворяющие их исторические условия существования. Эксцентричный тезис о самопротиворечивости идентичностей (нацеленный на изничтожение конвенциональных половых идентичностей, основанных на дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное») влечет даже более разрушительные последствия, чем названное выше. С таких позиций невозможно никакое последовательно проведенное понятие социальной идентичности, потому, что любое такое понятие будет противоречить самому себе. Этот тезис разрушает социальную идентичность эксцентричного и само понятие эксцентричности, на котором держится проект эксцентричной теории.
Парадокс трансгрессии
Главное критическое устремление эксцентричной теории - трансгрессия как беспощадная война со всеми социологическими категориями. Этот принцип влечет саморазрушительные последствия для программы эксцентричной теории. Атакуя все социологические категории, эксцентрическая теория неосторожно поражает и себя. Подобно теории Л. Троцкого о перманентной революции эксцентричная теория перманентного теоретического бунта самоубийственна в этой своей оргии многократного уничтожения всего без разбора. Например, ее представители отрицают положение, согласно которому сексуальность необходимо организована вокруг дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное». Они даже бросают вызов «режиму» сексуальности. Обе атаки предпринимаются от имени «всеобщей эксцентричности». Но она в эксцентричной теории имеет статус социологической категории - аксиоматической социологической категории par excellence. И, следовательно, «всеобщая эксцентричность» тоже становится жертвой всеобщего разорения, которым грозит социологии принцип трансгрессии.
Эксцентричная теория пускается в критику социологических категорий, чтобы лишить силы господствующие сексуальные таксономии. Из-за универсальных претензий этой критики она распространяется и на эксцентричную теорию. Поэтому, если воспринимать эту теорию серьезно, ее собственный принцип трансгрессии, дестабилизируя категории, обесценивает и саму теорию. В самом деле, если все социальные категории находятся в постоянном движении и не могут претендовать на общезначимость, то это же будет верным и для категорий, устанавливающих принцип трансгрессии. И опять эксцентричные теоретики поставлены здесь перед выбором между отречением от собственных предпосылок или принятием их самоубийственных следствий. Подобно философской доктрине радикального скептицизма, ставящей под сомнение все суждения, эксцентричная теория опровергает себя и тем самым не в состоянии породить никаких значимых критических последствий.
Парадокс эксцентричной культуры
Эксцентричная теория представляет культуру как изобретение. Все культурные артефакты суть исторически специфичные и произвольные продукты человеческой деятельности, ни один из которых не может притязать на общезначимость. По духу этой теории культуры каждая посылка эксцентричной теории осуждена на произвольность и познавательную бессвязность чистой выдумки. Радикальный конструктивизм, доктрина социальной идентичности, устанавливаемой путем «переговоров», и принцип трансгрессии - все это культурные изобретения, результаты особенных исторических условий, воздействующих на конкретных проводников эксцентричности. Как следствие, их притязания на общезначимость не более весомы, чем притязания отрицаемых ими позиций.
Так как сама эксцентричная теория культуры - тоже изобретение, она обесценивается подобной логикой рассуждения. Если культурные артефакты суть простые фабрикации, которым нельзя приписывать никакой общезначимости, тогда то же справедливо и для эксцентричной теории культуры. Она, подобно всем другим положениям эксцентричной теории, внутренне непоследовательна и не может быть изложена без самоопровержения.
Предостережение и заключение
Эксцентричные теоретики не смогут разделаться с этой критикой, сетуя, что она мол выражена в «фаллоцентрической» логике господства, являющейся продуктом модернистской гетеросексуальной интеллектуальности, что она несоизмерима с логикой эксцентричной теории и т. п. Вышеприведенные аргументы представляют собой имманентную критику, поражающую эксцентричных теоретиков их же собственным оружием, которое они выковали для битвы с империей зла, созданной гетеросексуальной социальной наукой. Разрабатывая лишь те предпосылки, которые извлечены из самой эксцентричной теории, мы атакуем ее согласно законам стратегии, установленным ее представителями для расправы со своими критиками. Эксцентричные теоретики торжественно возвещают также о своих ожиданиях, что их будут воспринимать всерьез, и пытаются определенными аргументами обосновать эти ожидания. Данный очерк, заимствуя их теоретический инструментарий, доказывает их полную несостоятельность.
Эксцентричную теорию губит то, что она нарушает некое правило, достаточно важное для всех социокультур-ных наук, чтобы заслуживать особого имени. Назовем его правилом теоретической рефлексивности и сформулируем так: любой теоретический принцип в социокультурных науках, претендующий на всеобщность, рефлексивен в том смысле, что он должен быть истинным и для самого себя. Такой принцип следует применять к нему самому, т. е. референты или объекты в сфере его действия должны включать сам этот принцип. Это правило основывается на том соображении, что всякое теоретическое утверждение в социокультурных науках, наделенное свойством неограниченной всеобщности, будет вынуждено ссылаться на самое себя. Поскольку социокультурные теории тоже суть социокультурные артефакты, то теория, притязающая на неограниченную всеобщность, должна обладать этим свойством самореферентности: объекты, охватываемые данной теорией, включают саму теорию. Именно в этом смысле истинность такой теории зависит от ее рефлексивности. Правило теоретической рефлексивности определяет источник саморазрушительных следствий эксцентричной теории. Так как ее посылки не могут ссылаться на самих себя, не порождая парадоксов, они не выдерживают проверки на рефлексивность.
Без сомнения существует некая причина, оправдывающая «эксцентричную манеру теоретизирования». В принципе, однако, она обязывает к практическому воплощению не больше, чем причина, побуждающая делать теорию увечной, неполноценной или ослабленной. Возможных направлений для развития социальной теории, хотя и не бесконечно много, но все-таки столько, что это поистине способно вызвать ужас. Вебер писал: «Жизнь в ее иррациональной действительности и содержащиеся в ней возможные значения неисчерпаемы...» [1, 413]. Что из этого следует? «Меняются мыслительные связи, в рамках которых «исторический индивидуум» рассматривается и постигается научно. Отправные точки наук о культуре будут и в будущем меняться до тех пор, пока китайское окостенение духовной жизни не станет общим уделом людей и не отучит их задавать вопросы всегда одинаково неисчерпаемой жизни» [1, 383].
Применительно к любого рода создаваемой теории, каковы бы ни были ее внетеоретические интересы и ее ценность в деле достижения каких-то политических целей, подтверждения социальной идентичности или карьерного продвижения, элементарный урок данного очерка гласит: теоретик должен располагать концептуальным аппаратом, который не рушится под тяжестью собственных противоречий.
ЛИТЕРАТУРА
1.Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
2.Butler J. Gender trouble. N.Y., 1990.
3.Doty A. Making things perfectly queer. Minneapolis, 1993.
4.Duggen L. Making it perfectly queer // Socialist Review. 1992. № 22.
5.Epstein S. A queer encounter: Sociology and the study of sexuality II Sociological Theory. 1994. № 12. P. 188-202.
6.Epstein S. Gay politics, ethnic identity: The limits of social constructionism // Socialist Review. 1987. Vol. 17. P. ‘l3n.
7.Greenberg D. The construction of homosexuality. Chicago, 1988.
8.Halperin D. One hundred years of homosexuality. N.Y., 1990.
9.Ingraham C. The heterosexual imaginary: Feminist sociology and theories of gender // Sociological Theory. 1994. №>’l2. P. 203-219.
10.Inside/out / Ed. by Fuss D. N.Y., 1991.
11.IrvineJ. M. A place in the rainbow: Theorizing lesbian and gay culture // Socilogical Theory. 1994. No 12. P. 232-248.
12.Kitzinger C. Social construction of lesbianism. L., 1987.
13.Kosofsky-Sedgwick E. Epistemology of the closet. Berkley; Los Angeles, 1990.
14.Lauretis T. de. Queer theory: Lesbian and gay sexualities // Differences. 1991. №3. P. Ш-XVIII.
15.Namaste K. The politics of inside/out: Queer theory, post-structuralism, and a sociological approach to sexuality // Sociologi-cal Theory. 1994. № 12. P. 220-231.
16.Pollner M. The reflexivity of constructionism and the construction of reflexivity // Constructionist controversies: Issues in social problem theory / Ed. by Gale Miller, James A. Holstein. N.Y., 1993.
17.Seidman S. Symposium: Queer theory/sociology (A dialogue) // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-177.
18.Seidman S. Identity and politics in a «postmodern» gay culture: Some historical and conceptual notes // Fear of queer pla-net: queer politics and social theory / Ed. by Michael Warner. Min-neapolis, 1993. P. 105-142.
19.Stein A., Plummer K. «I can’t even think straight»: «Queer» theory and the missing sexual revolution in sociology // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 178-187.
20.Simmel G. Die Verwandtenehe // Georg Simmel: Aufsatze und Abhand-lungen, 1894 bis 1900 / Ed. by Heinz-Jurgen Dahme, David P. Frish by. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 5. Frankfurt, 1992 [1894]. S. 9-36; Idem. Der Militarismus und die Stellung der Frauen // Ibid. S. 37-51; Idem. Der Frauenkongress und die Sozialdemokratie //Die Zukunft. 1896. Bd. 17. S. 80- 84; Idem. Die Rolle des Geldes in den Beziehungen der Geschlechter. Fragment aus einer «Philosophic des Geldes» // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1894 bis 1900 [1898]. S. 246-265; Idem. Philosophic der Geschlechter. Fragmente 7 Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen. 1901-1908 / Ed. by Alessandro Cavalli, Volkhard Krech. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 8. Frankfurt. 1993 [1906]. S. 74-81; Idem. Die Frau und die Mode // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1901-1908. [1908]. S. 344- 347; Idem. Das Relative und das Absolute im Geschlechterproblem •” Idem. Philosophische Kultur. Leipzig, 1911. S. 67-100; Idem. Die Koketterie // Ibid. S. 101 - 123; Idem. Weibliche Kultur // Ibid. S. 278-319; Idem. Uber die Liebe (Fragment) // Fragmente und Aufsatze aus dem Nachlass und Ve-roffentlichungen der letzten Jahre. Mimchen, 1923. S. 47-123; Idem. Der platonische und der moderne Eros // Ibid, S. 125-145.
21.Simmel G. On women, sexuality, and love / Translated by Guy Oakes. New Haven, 1984.
22.Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-248: [17; 19; 5; 9; 15; 11].
Из социологической классики
Георг Зиммель ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕГ
ПРЕДИСЛОВИЕ
У всякой области исследований имеются две границы, пересекая которые мысль в своем движении переходит из точной формы в философскую. Демонстрация и проверка предпосылок познания вообще, а также аксиом каждой специальной области [знания] происходит уже не в пределах такой специальной сферы, но в некоторой более принципиальной науке, бесконечно удаленной целью которой является беспредпосылочное мышление (отдельные науки, и шага не могущие сделать без доказательства, то есть без предпосылок содержательного и методического характера, не ставят себе такой цели). Поскольку философия демонстрирует эти предпосылки и исследует их, она не может устранить таковые и для себя самой; однако именно здесь всякий раз находится конечный пункт познания, где и вступает в силу и властно повелевает нами призыв к недоказуемому, тот пункт, который - в силу прогресса доказуемости - никогда не фиксирован безусловно. Если начала сферы философской здесь как бы обозначают нижнюю границу области точного [знания], то верхняя ее граница проходит там, где содержания позитивного знания, всегда фрагментарные, восполняются завершающими понятиями, [образуя вместе с ними] некую картину мира, и [здесь же они] востребуют соотнесения с целостностью жизни. Если история наук действительно показывает, что философский род познания примитивен, что это - не более чем приближение <Uberschlag> к явлениям в общих понятиях, то все-таки этот предварительный процесс еще неизбежен по отношению к некоторым вопросам, в особенности, касающимся оценок и самых общих связей духовной жизни, [т. е. вопросам,] на которые у нас до сих пор нет точного ответа, но от которых невозможно отказаться. Наверное, даже самая совершенная эмпирия никогда не заменит философию как толкование, окрашивание и индивидуально избирающее акцентирование действительного, подобно тому, как совершенство механической репродукции явлений не сделает излишним изобразительное искусство.
Из этого определения местоположения философии в целом вытекают и те права, которыми она пользуется применительно к отдельным предметам. Если философия денег должна существовать, то располагаться она может только за пределами обеих границ экономической науки. С одной стороны, она может продемонстрировать те предпосылки, заложенные в душевной конституции, в социальных отношениях, в логической структуре действительностей и ценностей, которые указывают деньгам их смысл и практическое положение. Это - не вопрос о происхождении денег, который относится к истории, а не к философии. И как бы высоко ни ставили мы те выгоды, которые понимание некоторого явления извлекает из исторического становления последнего, все-таки содержательный смысл и значение ставшего часто основывается на связях понятийной, психологической, этической природы, которые не временны, но чисто объективны* и, хотя и реализуются историческими силами, но не исчерпываются случайностью последних. Например, значимость, достоинство, содержание права или религии, или познания всецело находятся за пределами вопроса о путях их исторического осуществления. Таким образом, в первой части этой книги деньги будут выводиться из тех условии, на которых основывается их сущность и смысл их наличного бытия.
* В оригинале: «sachlich», от многозначного «die Sache» - «вещь», «предмет», «дело». «Sachlich» было бы правомерно переводить как «вещный», «вещественный», «объективный», «предметный» и «деловой». Как правило, ради сохранения единства словоупотребления, мы используем термин «вещественный». Предложенный перевод имеет, разумеется, тот недостаток, что собственно вещь - осязаемая, вожделеемая и т. п. - обозначается у Зиммеля словом «Ding», от которого есть и соответствующие прилагательные («dinglich», «dinghaft»). Кроме того, Зиммелю, особенно в последних главах его сочинения, отнюдь не чуждо использование «Sach-lichkeit» в смысле деловитости и объективности. Однако, в тех главах, где трактуется фундаментальная философская проблематика, образование прилагательного от «вещь» нам показалось, в общем, более адекватным, нежели чем от «объект» или «предмет». В ряде случаев перевод оговаривается.
Что же касается исторического явления денег, идею и структуру которого я пытаюсь вывести из ценностных чувств, практики, имеющей дело с вещами <Dinge>, и взаимоотношений людей как предпосылки этого явления, то вторая, синтетическая часть прослеживает его воздействие на внутренний мир: жизнечувствие индивидов, сплетение их судеб, общую культуру. Здесь, таким образом, речь идет, с одной стороны, о связях, которые по своей сути точны и могли бы быть исследованы по отдельности, но при нынешнем состоянии знания недоступны для такого исследования и потому должны рассматриваться только в соответствии с их философским типом: в общем приближении, через изображение отдельных процессов отношениями абстрактных понятий. С другой стороны, речь идет о душевном причинении, которое для всех эпох будет делом гипотетического толкования и художественного воспроизведения, неотделимого в полной мере от его индивидуальной окраски. Таким образом, переплетение <Verzweigung> денежного принципа с развитиями и оценками внутренней жизни находится столь же далеко позади экономической науки о деньгах, насколько далеко впереди нее была первая проблемная область, которой посвящена первая часть книги. Одна из них должна позволить понять сущность денег, исходя из условий и отношений жизни вообще, другая же, наоборот, - понять сущность и форму последней, исходя из действенности денег.
В этих исследованиях нет ни строчки, написанной в духе национальной экономии. Это значит, что явления оценки и покупки, обмена и средств обмена, форм производства и стоимости состояний, которые национальная экономия рассматривает с одной точки зрения, рассматриваются здесь совершенно с другой. Лишь то, что обращенная к национальной экономии сторона их более всего интересна практически, основательнее всего разработана, доступна Для самого точного изображения, - лишь это обосновало мнимое право рассматривать их просто как «факты национальной экономии». Но точно так же, как явление основателя религии отнюдь не только религиозно, но может быть исследовано и в категориях психологии, а возможно Даже и патологии, всеобщей истории, социологии; подобно тому, как стихотворение - это не только факт истории литературы, но и факт эстетический, филологический, биографический; подобно тому, как вообще точка зрения одной науки, всегда основанной на разделении труда, никогда не исчерпывает реальности в целом - так и то, что два человека обмениваются своими продуктами друг с другом, отнюдь не есть только факт национальной экономии, ибо такого факта, содержание которого исчерпывал бы его национально-экономический образ, вообще не существует. Напротив, всякий обмен может столь же легитимно рассматриваться как факт психологический, факт истории нравов и даже как факт эстетический. И даже будучи рассмотрен с точки зрения национальной экономии, он не заводит в тупик, но и в этой форме <Formung> становится предметом философского рассмотрения, которое проверяет свои предпосылки - на нехозяйственных понятиях и фактах, а свои следствия - для нехозяйственных ценностей и взаимосвязей.
Деньги в этом круге проблем представляют собой лишь средство, материал или пример изображения тех отношений, которые существуют между самыми внешними, реалистическими, случайными явлениями и идеальными потенциями бытия, глубочайшими течениями индивидуальной жизни и историей. Смысл и цель целого состоит лишь в том, чтобы с поверхности хозяйственных явлений прочертить линию, указывающую на конечные ценности и значимости <Bedeutsamkeiten> всего человеческого. Абстрактное философское построение системы держится на такой дистанции от отдельных явлений, особенно практического существования, чтобы, собственно, лишь постулировать их избавление от, на первый взгляд, изолированности, недуховности и даже отвратности <Widrigkeit>. Нам же придется совершить это высвобождение на примере такого явления, которое, как деньги, не просто демонстрирует безразличие чисто хозяйственной техники, но, так сказать, есть самое индифференция, поскольку все его целевое значение заключено не в нем самом, но в его переводе в другие ценности. Итак, поскольку здесь предельным образом напрягается противоположность между, по видимости, самым внешним и несущностным и внутренней субстанцией жизни, то и примирение ее должно быть самым действенным, если эта частность не только переплетается со всем объемом духовного мира как его носитель и несомое, но и открывает себя как символ существенных форм его движения. Итак, единство наших исследований состоит совсем не в утверждении о единичном содержании знания и постепенно вырастающих его доказательств, но в предлагаемой возможности в каждой частности жизни обнаруживать целостность ее смысла. - Необыкновенное преимущество искусства перед философией состоит в том, что оно каждый раз ставит перед собой частную, узко очерченную проблему: некоторого человека, ландшафт, настроение - и затем заставляет ощущать всякое расширение таковых до [степени] всеобщего, всякое прибавление великих черт мирочувствия как некое обогащение, подарок, словно бы как незаслуженное счастье. Напротив, философия, проблемой которой сразу же является вся совокупность существования, обычно сужается по отношению к последней и дает меньше, чем она, как кажется, обязана давать. Итак, здесь, напротив, проблему пытаются умалить и ограничить, чтобы отдать ей должное, расширяя ее и выводя к тотальности и самому всеобщему.
В методическом аспекте это намерение можно выразить так: под исторический материализм следует подвести еще один этаж, таким образом, чтобы обнаружилась объяснительная ценность включения хозяйственной жизни в [число] причин духовной культуры, но сами эти хозяйственные формы постигались как результат более глубоких оценок и течений, психологических и даже метафизических предпосылок. Для практики познания это должно разворачиваться в бесконечной взаимообразности: к каждому истолкованию некоторого идеального образования через некоторое экономическое должно присоединяться требование понимать это последнее, исходя, в свою очередь, из более идеальных глубин, в то время как для них опять-таки должен быть найден всеобщий экономический фундамент, и так далее до бесконечности. В такой альтерации и взаимопоглощении принципов познания, категориально противоположных друг другу, единство вещей, кажущееся нашему познанию неуловимым и все же обосновывающее их взаимосвязь, становится для нас практическим и Жизненным.
Обрисованные таким образом намерения и методы не могли бы претендовать ни на что принципиальное, если бы не способны были послужить содержательному многообразию основных философских убеждений. Подключение частностей и поверхностных явлений жизни к ее глубочайшим и сущностнейшим движениям и истолкование их в соответствии с ее совокупным смыслом может совершаться и на почве идеализма, и на почве реализма, рассудочной или волевой, абсолютизирующей или релятивистской интерпретации бытия. То, что нижеследующие исследования выстраиваются на [фундаменте] одной из этих картин мира, которую я считаю самым адекватным выражением современного содержания знания и направления чувств, а противоположная картина мира самым решительным образом исключается, может в худшем случае [привести к тому, что] им будет отведена роль школьного примера, хотя и неудовлетворительного в содержательном отношении, но именно поэтому позволяющего выступить на передний план их методическому значению как форме того, что в будущем окажется правильным.
В этом новом издании изменения нигде не касаются существенных мотивов. Однако я все-таки попытался, приводя новые примеры и разъяснения, а прежде всего, - углубляя основоположения, увеличить шансы на то, что мотивы эти будут поняты и приняты.
Глава первая ЦЕННОСТЬ И ДЕНЬГИ
I
Вещи как естественные реальности включены в порядок, основу которого составляет предпосылка о единстве сущности как носителе всего многообразия их свойств: равенство перед законом природы, постоянство сумм вещества и энергии, преобразование друг в друга самых разных явлений примиряют их, на первый взгляд, удаленность друг от друга, превращая ее в совершенное родство, в равноправие всех. Правда, при более близком рассмотрении это понятие означает только, что произведенное механизмом природы находится, как таковое, за рамками вопроса о каком бы то ни было праве: их [вещей] несомненная определенность не оставляет места какому бы то ни было выделению, могущему служить подтверждением или умалением <Abzug> их бытия или так-бытия. Однако мы не удовлетворяемся этой равнодушной необходимостью, составляющей естественнонаучный образ вещей. Совсем наоборот: невзирая на их порядок в этом ряду, мы сообщаем их внутреннему образу некий иной порядок, в котором всеобщее равенство полностью нарушено, в котором наибольшее возвышение одного пункта соседствует с самым решительным унижением другого и глубочайшая сущность которого состоит не в единстве, но в различии, ранжировании по ценностям. То, что предметы, мысли, события Ценны, совершенно нельзя прочитать по их чисто естественному существованию, а их порядок согласно ценностям сильнее всего отклоняется от порядка естественного. Природа бесчисленное множество раз уничтожает то, что, с точки зрения его ценности, могло бы требовать наибольшей продолжительности [существования], и она консервирует самое неценное и даже то, что отнимает у ценного жизненное пространство <Existenzraum>. Тем самым не утверждается, будто два этих ряда враждебны друг другу и полностью исключают один другой. Такое утверждение означало бы, что они все же как-то соотносятся между собой - а результатом был бы мир дьявольский, но, с точки зрения ценности, определенный, хотя и с противоположным знаком. Нет, как раз наоборот: отношение между ними абсолютно случайно. С тем же безразличием, с каким природа предлагает нам предметы наших ценностных оценок, она в другой раз отказывает нам в них, так что именно возникающая иногда гармония обоих рядов, реализация рядом действительности требований, источником которых является ряд ценности, обнаруживает всю беспринципность их отношения не менее, чем прямо противоположный случай. Мы можем осознавать одно и то же жизненное содержание и как действительное, и как ценное; но его внутренний удел в первом и во втором случае имеет совершенно разный смысл. Ряды естественных событий можно было бы описать с совершенной, без пробелов, полнотой, но при этом ценность вещей не обнаружится нигде - и точно так же шкала наших оценок сохраняет свой смысл, независимо от того, как часто их содержание обнаруживается в действительности и происходит ли это вообще. К, так сказать, готовому, всесторонне определенному в своей действительности, объективному бытию только добавляется оценка, как свет и тень, источником которых не может быть оно само, но только что-то еще. Однако отсюда вовсе не следует делать вывод, будто бы образование ценностного представления как психологический факт тем самым уже не подвластно становлению в соответствии с законами природы. Сверхчеловеческий дух, который бы с абсолютной полнотой понимал мировой процесс <Weltgeschehen> в соответствии с законами природы, нашел бы среди фактов этого процесса также и тот, что у людей есть ценностные представления. Но эти последние не имели бы для него, познающего чисто теоретически, никакого смысла и никакой значимости, помимо своего психического существования. За природой как механической каузальностью [мы] отрицаем здесь только вещественное, содержательное значение ценностного представления, в то время как душевный процесс, делающий это содержание фактом нашего сознания, все равно принадлежит природе. Оценка как действительный психологический процесс <Vorgang> есть часть природного мира; но то, что мы имеем в виду, [совершая оценку,] ее понятийный смысл, есть нечто независимо противостоящее этому миру, столь мало являющееся частью его, что, напротив, само оно, будучи рассмотрено с особой точки зрения, представляет собой целый мир. Редко отдают себе отчет в том, что вся наша жизнь, со стороны сознания, протекает в чувствах ценности и соображениях о ценности и вообще обретает смысл и значение лишь благодаря тому, что механически развертывающиеся элементы действительности, помимо своего вещественного содержания <Sachgehalt>, имеют для нас бесконечно многообразные меры и виды ценности. Всякий миг, когда душа наша не просто незаинтересованно отражает действительность (чего она, пожалуй, не делает никогда, ибо даже объективное познание может проистекать лишь из некоторой оценки этой действительности), она обитает в мире ценностей, который заключает содержания действительности в совершенно автономный порядок.
Тем самым ценность в некотором роде образует противоположность бытию, именно как охватывающую форму и категорию картины мира ее можно многократно сравнивать с бытием. Кант подчеркивал, что бытие не есть свойство вещей; ибо если я говорю об объекте, который прежде существовал только в моих мыслях, что он существует, то он тем самым не обретает новых свойств; потому что иначе существовала бы не та же самая вещь, которую я прежде мыслил, но иная. Так и благодаря тому, что я называю некую вещь ценной, у нее не возникает никаких новых свойств; ибо она только и ценится за те свойства, которыми обладает: именно ее бытие, уже всесторонне определенное, восходит в сферу ценности. Основанием здесь служит одно из тех [совершаемых] нашим мышлением членений, которые достигают наибольшей глубины. Мы способны мыслить содержания картины мира, полностью отвлекаясь от их реального существования или несуществования. Комплексы свойств, которые мы называем вещами, со всеми законами их взаимосвязи и развития, мы можем представлять себе в их чисто вещественном, логическом значении и, совершенно независимо от этого, спрашивать, осуществлены ли эти понятия или внутренние созерцания, [и если да,] то где и как часто. Подобно тому, как этого содержательного смысла и определенности объектов не касается вопрос о том, обнаруживаются ли они затем в бытии, так же и не затрагивает их и другой [вопрос]: занимают ли они место, и какое [именно], на шкале ценностей. Если же, с одной стороны, речь у нас должна идти о теории, а с другой, - о практике, то мы должны вопрошать эти содержания мышления и о том, и о другом, и в обоих аспектах ни одно из них не может уйти от ответа [на эти вопросы]. Напротив, надо, чтобы можно было недвусмысленно высказаться о бытии или небытии каждого из них, и каждый должен для нас занимать совершенно определенное место на шкале ценностей - начиная от высших и, далее, через безразличие - к негативным ценностям; ибо безразличие есть отказ от оценки, который по существу своему может быть очень позитивным, но за этим отказом всегда кроется возможность интереса, которой только не пользуются в данный момент. Конечно, в принципиальном значении этого требования, обусловливающего всю конституцию нашей картины мира, отнюдь ничего не меняется оттого, что наших средств познания очень часто не хватает, чтобы решить, насколько реальны понятия, и столь же часто [недостаточны] объем и надежность наших чувств для ценностного ранжирования вещей, особенно устойчивого и общезначимого. Миру только понятий, вещных качеств и определений противостоят великие категории бытия и ценности, всеохватные формы, которые берут свой материал из этого мира чистых содержаний. Общий характер обоих миров - фундаментальность, т. е. несводимость одного к другому или к более простым элементам. Поэтому непосредственно бытие какой-либо вещи совершенно невозможно доказать логически; напротив, бытие есть изначальная форма наших представлений, которая воспринимается, переживается, принимается на веру, но не может быть дедуцирована для того, кто еще не знает о ней. Если только однажды неким деянием, внеположным логическому, эта форма ухватила отдельное содержание, то логические связи вбирают и несут ее дальше, докуда достают они сами. Так что мы, как правило, можем, конечно, сказать, почему мы принимаем некую определенную действительность: потому что мы уже приняли некую иную действительность, определенность которой связана с первой через ее содержание. Однако действительность этой последней может быть доказана подобного же рода сведением <Zuruckschiebung> к действительности еще более фундаментальной. Но у этого регресса должен быть последний член, бытие которого дано только непосредственным чувством убеждения, утверждения, признания, точнее говоря: [оно дано именно] как такое чувство. Точно так же относится и ценность к объектам. Все доказательства ценности последних означают лишь принуждение признать уже предполагаемую для какого-либо объекта и в настоящий момент несомненную ценность также и за другим, ныне сомнительным объектом. О мотивах, по которым мы это делаем, следует сказать ниже; здесь же мы ограничимся только следующей констатацией: то, что мы усматриваем путем доказательств ценности, есть всегда лишь перенос определенной ценности на новые объекты; напротив, ни существо самой ценности, ни основание Того, почему она изначально прилепилась <geheftet> к этому объекту, который затем излучает ее на другие объекты, мы не усматриваем.
Если только имеется некоторая ценность, то пути ее осуществления, ее дальнейшее развитие можно понять рассудочным образом, ибо теперь она следует - по крайней мере, частично <abschnittsweise> - структуре содержаний действительности. Но что она вообще имеется, - это есть первофеномен. Все дедукции ценности позволяют лишь понять условия, при которых она появляется*, в конечном счете, без какого бы то ни было посредства, не будучи, однако, продуктом этих условий, - подобно тому, как все теоретические доказательства могут только подготовить условия, при которых наступает это чувство утверждения или бытия-присутствия <Dasein>.
* В оригинале: «auf diehiner sich [...] einstellt». «Sicheinstellen» может быть переведено как «наступать», «появляться», но не в смысле возникновения из ничего, атак, как наступает весна или приходят гости. «Sicheinstellen auf» обычно переводится как «настраиваться на», «приспосабливаться к». Поскольку ценности противоположны бытию, нельзя сказать, что они «появляются» или «возникают». Они также и не «приспосабливаются» к ситуациям. Но только при определенных условиях можно сказать, что «имеется» («gibt es») ценность.
Сколь мало умели сказать, что же есть собственно бытие, столь же мало могут ответить на этот вопрос и применительно к ценности. И именно поскольку они [(бытие и ценность)] относятся к вещам формально тождественным образом, постольку они так же чужды друг другу, как, по Спинозе, [чужды друг другу] мышление и протяжение: так как оба они выражают одно и то же, абсолютную субстанцию, но каждое своим собственным образом и каждое само по себе полностью, то одно никогда не сможет перейти в другое. Они никогда не соприкасаются, потому что вопрошают понятия вещей о совершенно различном. Но этим рядоположением без соприкосновения мир отнюдь не разорван, [не превращен в] в стерильную двойственность, которая не позволяет потребностям духа успокоиться в единстве - даже если его судьбой и формулой его поисков было бы бесконечное движение от множества к единству и от единства к множеству. Выше ценности и действительности расположено то, что обще им обеим: содержания, - то, что Платон, в конечном счете, подразумевал под «идеями». Это нечто такое в действительности и в наших оценках, что может быть обозначено, нечто качественное, непременно выражаемое в понятиях, то, что равным образом может войти как в тот, так и в другой порядок. Однако ниже ценности и действительности располагается то, чему общи оба этих порядка: душа, которая вбирает и то, и другое в свое таинственное единство или порождает их из него. Действительность и ценность - как бы два различных языка, на которых логически взаимосвязанные содержания мира, значимые в его идеальном единстве, как говорят, его «что», делаются понятными единой душе - или же языки, на которых может выразить себя душа как чистый, еще вне этой противоположности находящийся образ этих содержаний. И, быть может, оба совокупных представления <Zu-sammenfassungen> этих содержаний, познающее и оценивающее, еще раз охватываются метафизическим единством, для которого нет подходящего слова в языке, разве что среди религиозных символов. Быть может, имеется основание мира, с точки зрения которого воспринимаемые нами чуждость и расхождения между действительностью и ценностью, уже не существуют, где оба ряда обнаруживают себя как один и тот же - потому ли, что это единство вообще не затрагивается данными категориями и с благородным безразличием возвышается над ними, либо же потому, что оно означает совершенно гармоническое, во всех точках однородное переплетение обоих, которое искажается лишь нашим способом постижения, словно бы испорченный зрительный аппарат разнимает его на отдельные куски и противоположные ориентации.
Обычно характер ценности, как он до сих пор проявлялся по контрасту с действительностью, называют ее субъективностью. Поскольку один и тот же предмет может в одной душе обладать ценностью наивысшей степени, в другой же - самой низшей, а, с другой стороны, всестороннее, исключительное многообразие объектов прекрасно совмещается с их равноценностью, то кажется, будто основанием оценки может тогда служить только субъект с его нормальными или совершенно особенными, постоянными или меняющимися настроениями и способами реагирования. Вряд ли стоит упоминать о том, что эта субъективность ничего не имеет общего с той, которой препоручен был весь мир как «мое представление». Ибо субъективность, о которой говорят применительно к ценности, противопоставляет ее готовым, данным объектам, все равно, каким образом они появились. Иными словами, субъект, объемлющий все объекты, есть иной, чем тот, который противопоставляет себя им, та субъективность, которую ценность разделяет со всеми объектами, при этом вообще не учитывается. Субъективность ценности не может также иметь смысл произвола: вся эта независимость от действительного не означает, что воля с необузданной и прихотливой свободой могла бы распределять ценность, [помещая ее] то туда, то сюда. Напротив, сознание предна-ходит ее как факт, в котором он непосредственно может изменить столь же мало, как и в действительностях. Если исключить эти значения, то субъективность ценности первоначально сохранит лишь значение негативное: то, что ценность не в том же смысле присуща самим объектам, как цвет или температура; ибо эти последние, хотя и чувственными свойствами <Sinnesbeschaffenheiten>, все-таки сопровождаются чувством непосредственной зависимости от объекта - чувством, легко отказываться от которого по отношению к ценности нас научает видимое безразличие между рядами действительности и ценности. Однако более существенны и более плодотворны, чем это определение, те случаи, когда психологические факты их, как кажется, все-таки опровергают.
В каком бы эмпирическом или трансцендентальном смысле ни говорили о «вещах» <Dinge> в отличие от субъекта - «свойством» их является отнюдь не ценность, но пребывающее в субъекте суждение о них. Однако ни более глубокий смысл и содержание понятия ценности, ни его значение в пределах индивидуальной душевной жизни, ни практически-социальные события и формы <Gestaltungen>, которые сопряжены с ним, не понимаются сколько-нибудь удовлетворительным образом, если отвести этому понятию место в «субъекте». Путь к такому пониманию лежит в слое <Schicht>, с точки зрения которой эта субъективность кажется чем-то всего лишь преходящим и, собственно, не очень существенным.
Размежевание субъекта и объекта далеко не столь радикально, как можно подумать, исходя из вполне оправданного членения по этим категориям и мира практического, и мира научного. Напротив, душевная жизнь начинается с состояния неразличенности, в котором Я и его объекты еще покоятся в нераздельности, в котором впечатления или представления наполняют сознание, причем носитель этих содержаний еще не отделяет себя от них. Что в актуально определенном, действительном в данный момент состоянии обладающий субъект может быть отличен от содержания, которым он обладает, есть только вторичное сознание, дополнительное разделение. Развитие явно ведет part passu* к тому, что человек говорит самому себе «Я» и признает сущие для себя** объекты вне этого Я. И если в метафизике иногда бытует мнение, что трансцендентная сущность бытия абсолютно едина, [что она -] по ту сторону противоположности субъекта и объекта, то для этого обнаруживается психологический pendant***, [когда душа бывает] просто, примитивно заполнена содержанием представлений, что можно наблюдать у ребенка, который еще не говорит о себе «Я», и что в рудиментарной форме, видимо, сопутствует нам всю жизнь. Единство, из которого категории субъекта и объекта развиваются сначала в связи друг с другом, в ходе процесса, который еще нуждается в объяснении, - это единство лишь потому кажется нам субъективным, что мы подходим к нему с понятием объективности, которое вырабатывается лишь вполедствии, а для единств такого рода у нас вообще нет правильного выражения, и мы имеем обыкновение называть их по одному из односторонних элементов, взаимодействием которых они кажутся в последующем анализе. Так, утверждали, что действование по своей абсолютной сущности всегда совершенно эгоистично - в то время как эгоизм имеет понятное содержание лишь в рамках действования и в про-тивоположность альтруизму как своему корреляту; так, пантеизм назвал всеобщность бытия Богом, позитивное понятие которого можно обрести, однако же, только дистанцировавшись от всего эмпирического. Это эволюционистское соотнесение субъекта и объекта повторяется, наконец, в самых крупных размерах: духовный мир классической древности существенным образом отличается от Нового времени, поскольку лишь это последнее привело, с одной стороны, к самому глубокому и отчетливому понятию «Я», предельно заостренному в том неведомом древности значении, [какое придается] проблеме свободы, а с другой стороны, - к самостоятельности и мощи понятия «объект», выраженному в представлении о нерушимой законосообразности природы. Древность еще не так далеко, как последующие эпохи, отошла от состояния нераз-личенности, в котором содержания представляются просто, без расчленяющего их проецирования на субъект и объект.
* «В той же мере», «равным образом» (лат.).
** «Для себя» и «в себе» - устойчивые переводы для немецких «fur sich» и «an sich». Тем не менее в ряде случаев Зиммель явно использует эти выражения, не вкладывая в них большой философский смысл, что позволило предложить более удобочитаемый перевод: «сам (сама, само) по себе». Однако, выражение «в себе и для себя» переводится только традиционным образом.
*** Здесь: «пара», «соответствие» (фр.).
Основанием этого расходящегося развития представляется один и тот же, но словно бы действующий в различных слоях мотив. Ибо осознание субъектности само уже есть объективация. Здесь заключен первофеномен личностной формы духа; то, что мы можем сами себя наблюдать, знать, оценивать как некий «предмет», что мы все-таки разлагаем Я, воспринимаемое как единство, на представляющий Я-субъект и представляемый Я-объект, причем оно из-за этого отнюдь не теряет своего единства, а, напротив, собственно, только и осознает себя в этой внутренней игре противоположностей <Gegenspiel>, - именно это и является фундаментальным деянием нашего духа, определяющим все его формообразование <Gestammg>. Обоюдное требование субъектом объекта и объектом субъекта здесь словно бы сходится в некоторой точке, оно овладевает самим субъектом, которому обычно весь мир противостоит как объект. Таким образом у человека, коль скоро он осознает сам себя, говорит сам себе «Я», имеется основополагающая форма <Form> отношения к миру, так реализует он свое восприятие мира. Но прежде нее, как по смыслу, так и по душевному развитию, имеет место простое представление содержания, не вопрошающее о субъекте и объекте и еще не разделенное между ними. А с другой стороны, само это содержание как логическое, понятийное образование, ничуть не менее внеположно решению, выбирающему между субъективной и объективной реальностью. Мы можем мыслить любой и каждый предмет исключительно в соответствии с его определениями и их взаимосвязью, совершенно не задаваясь вопросом, дан ли или может быть дан этот идеальный комплекс качеств также и как объективное существование. Конечно, поскольку такое чистое вещественное содержание бывает помыслено, оно является представлением, а значит, и субъективным образованием. Только вот субъективное есть здесь лишь динамический акт представления, функция, воспринимающая это содержание; само содержание мыслится именно как нечто независимое от того, что оно представляется. Наш дух имеет примечательную способность мыслить содержания как нечто независимое от того, что оно помыслено <Gedachtwerden> - это первичное, ни к чему далее не сводимое его свойство; у таких содержаний имеется понятийная или вещественная определенность и взаимосвязи, которые, правда, могут представляться, однако не растворяются в представлении, но значимы, независимо от того, воспринимаются ли они моим представлением или нет: содержание представления не совпадает с представлением содержания. Так же, как это примитивное, недифференцированное представление, состоящее исключительно в осознании некоего содержания, нельзя называть субъективным, ибо оно еще вообще не погружено в противоположность субъекта и объекта, так и это содержание вещей или представлений отнюдь не объективно, но равно свободно и от этой дифференциальной формы, и от ее противоположности и только находится в готовности выступить в одной или другой из них. Субъект и объект рождаются в одном и том же акте: логически - потому что чисто понятийное, идеальное вещественное содержание дается то как содержание представления, то как содержание объективной действительности; психологически - потому что еще лишенное «Я» представление, в котором личность и вещь содержатся в состоянии неразличенности, расступается и между Я и его предметом возникает дистанция, благодаря которой каждый из них только и обретает свою отличную от другого сущность.
К тому же этот процесс, который, наконец, приводит к появлению нашей интеллектуальной картины мира, совершается и в практике воления. И здесь разделение на вожделеющий, наслаждающийся, оценивающий субъект и считающийся ценностью объект тоже не охватывает ни всех состояний души, ни всей вещественной систематики практической сферы. Когда человек лишь пользуется каким-либо предметом, [тогда] имеет место сам по себе совершенно единый акт. В такое мгновение у человека есть восприятие, которое не содержит ни сознания противостоящего нам объекта как такового, ни сознания «Я», которое было бы обособлено от своего моментального состояния. Здесь встречаются самые глубокие и самые высшие явления. Грубое влечение, особенно безлично-всеобщей природы, желает только исчерпать себя в предмете, только удовлетворить себя - все равно, чем; сознание наполнено одним только наслаждением и не акцентирует, обращаясь к ним по отдельности, ни, с одной стороны, свой носитель, ни, с другой стороны, свой предмет. Но вместе с тем, та же форма обнаруживается и у эстетического наслаждения, когда оно достигает наивысшей интенсивности. Также и здесь «мы сами себя забываем», однако, и произведение искусства мы уже не воспринимаем как нечто, противостоящее нам, ибо душа полностью слита с ним, оно столь же включено в нее, как и она отдает себя ему. И в том, и в другом случае психологическое состояние еще не или уже не затрагивается противоположностью субъекта и объекта, лишь вновь начинающийся процесс сознания исторгает из непосредственного единства этого состояния указанные категории и затем уже только рассматривает чистое наслаждение содержанием как, с одной стороны, состояние противостоящего объекту субъекта, а с другой стороны, - как воздействие объекта, независимого от субъекта. Это напряжение, которое разнимает наивно-практическое единство субъекта и объекта, только и создавая и то, и другое (одно в другом) для сознания, производится сначала простым фактом вожделения. Поскольку мы вожделеем то, чем еще не обладаем и не наслаждаемся, содержание его выступает перед нами. Правда, в развитой эмпирической жизни готовый предмет сначала предстоит нам и только затем оказывается вожделен - уже потому, что- помимо событий воления, объективацию душевных содержаний вызывают многие другие [события], теоретические и чувственные; только в пределах практического мира самого по себе, с точки зрения его внутреннего порядка и возможности понимать его, возникновение объекта как такового и вожделение объекта субъектом суть соотносительные понятия, две стороны процесса дифференциации, рассекающего непосредственное единство процесса наслаждения.
Утверждают, что наши представления об объективной действительности берут начало в том сопротивлении, которое мы испытываем со стороны вещей <Dinge>, в особенности при посредстве осязания. Это можно без оговорок перенести на практическую проблему. Мы вожделеем вещи лишь вне их непосредственной самоотдачи нашему потреблению и наслаждению, т. е. именно постольку, поскольку они ему как-то сопротивляются; содержание становится предметом, коль скоро оно противостоит нам, причем не только в своей воспринимаемой непроницаемости, но и в дистанцированности еще-не-наслаждения, субъективной стороной которого является вожделение. Кант говорил: возможность опыта есть возможность предметов опыта - потому что познавать на опыте означает, что наше сознание образует из чувственных восприятий предметы. Точно так же и возможность вожделения есть возможность предметов вожделения. Возникающий таким образом объект, характеризуемый дистанцией по отношению к субъекту, чье вожделение равно фиксирует эту дистанцию и стремится преодолеть ее, - [такой объект] мы называем ценностью. Сам миг наслаждения, когда субъект и объект смиряют свои противоположности, как бы поглощает <konsumiert> ценность, и она снова возникает только при отделении субъекта - как противоположности - от объекта. Простейшие наблюдения: что то, чем мы владеем, становится нам дорого как ценность по-настоящему лишь при утрате его; что один только отказ в [получении] вожделеемой вещи часто сообщает ей ценность, которой лишь в весьма малой степени соответствует достигнутое наслаждение; что удаленность от предметов наших наслаждений - ив самом непосредственном, и в любом переносном смысле слова «удаление» - показывает их преображенными и более возбуждающими, - все это производные, модификации, смешанные формы того основополагающего факта, что ценность берет начало не в цельном единстве момента наслаждения, но [возникает лишь постольку,] поскольку содержание его отрывается как объект от субъекта и выступает перед ним как только теперь вожделеемое, добыть которое можно только преодолением расстояний, препятствий, трудностей. Воспользуемся аналогией, к которой мы уже прибегли выше: в конечном счете, быть может, не реальности вторгаются в наше сознание, благодаря создаваемым ими для нас препятствиям, но те представления, с которыми связаны восприятия сопротивлений и ощущения помех, называются у нас объективно реальными, независимо существующими вне нас. Поэтому не из-за того, что они ценны, трудно заполучить эти вещи, но ценными мы называем те из них, которые выставляют препятствия нашему вожделению заполучить их. Поскольку в них это вожделение как бы надламывается или застопоривается, у них появляется такая значительность, для признания которой беспрепятственная воля никогда не видела повода.
Ценность, которая, таким образом, выступает одновременно с вожделеющим Я и как его коррелят в одном и том же процессе дифференциации, относится кроме того еще к одной категории, той же самой, которая имела силу и для объекта, обретаемого на пути теоретического представления. В этом последнем случае оказывалось, что содержания, которые, с одной стороны, реализованы в объективном мире, а с другой, - живут в нас как субъективные представления, обладают, помимо всего этого, еще и своеобразным идеальным достоинством. Понятие треугольника или организма, каузальность или закон гравитации имеют логический смысл, значимость <Gultigkeit> внутренней структуры, благодаря которой они, правда, определяют свое осуществление в пространстве и сознании, но даже если бы дело никогда и не дошло до такого осуществления, они все равно относились бы к уже не поддающейся дальнейшему членению категории значимого <Gultigen> или значительного <Bedeutsamen> и безусловно отличались бы от фантастических или противоречивых понятийных образований, которым они, однако же, были бы совершенно тождественны в аспекте физической или психической нереальности. Аналогично (хотя и с модификациями, обусловленными различием самих областей) обстоит дело и с ценностью, возникающей у объектов субъективного вожделения. Подобно тому, как мы представляем себе некоторые предложения истинными, причем это сопровождается осознанием того, что истинность их не зависит от этого представления, так и по отношению к вещам, людям, событиям мы воспринимаем, что они не только воспринимаются нами как ценные, но были бы ценны, даже если бы их не ценил никто. Самый простой пример - это ценность, которую мы приписываем убеждениям людей - нравственным, благородным, сильным, прекрасным. Выражаются ли когда-нибудь эти внутренние свойства в деяниях, которые позволят или даже вынудят признать их ценность; даже то, рефлектирует ли над ними с ощущением своей ценности сам их носитель, - все это применительно к факту самой их ценности не только нам безразлично, но как раз это безразличие относительно их признанности или осознанности придает этим ценностям особую окраску. Возьмем другой пример: [вот -] интеллектуальная энергия и тот факт, что она выводит на свет сознания сокровеннейшие силы и порядки природы; [вот -] сила и ритм тех чувств, которые в узком пространстве индивидуальной души все-таки бесконечно превосходят по своему значению весь внешний мир, даже если верно пессимистическое утверждение о преизбытке страдания; [вот, затем, - тот факт,] что вообще природа вне человека совершает движение в надежных рамках прочных норм, а множество ее форм тем не менее оставляет пространство для глубинного единства целого, что ее механизм и поддается истолкованию согласно идеям, и способен к производству красоты и грации*, - [пусть так], мы же на все это заявим, что мир именно ценностей, все равно, воспринимаются ли эти ценности сознанием или нет.
* В оригинале - совершенно неудобопонятная по-русски форма двойного отрицания: «sich weder der Deutung nach Ideen entzieht, noch sich weigert, Schonheit und Anmut zu erzeugen».
И то же самое будет иметь силу, опускаясь вплоть до уровня экономического количества ценности, которое мы приписываем некоторому объекту обмена <Tauschverkehrs>, даже если никто не готов, например, дать за него соответствующую цену .и даже если он вообще остается нежеланным и непродажным. Также и в этом направлении утверждает себя фундаментальная способность духа: одновременно противопоставлять себя содержаниям, которые он в себе представляет, представлять их так, словно бы они были независимы от того, что они представляемы. Конечно, всякая ценность, поскольку мы ее чувствуем, есть именно чувство; но вот что мы подразумеваем под этим чувством, есть в себя и для себя значащее содержание, которое, правда, психологически реализуется чувством, но не тождественно ему и не исчерпывается им. Эта категория явственным образом оказывается по ту сторону спорного вопроса о субъективности или объективности ценности, ибо она отвергает соотносительность <Korrelativitat> с субъектом, без которой невозможен объект; она есть, напротив, нечто третье, идеальное, что, правда, сопрягается с этим двойством <Zweiheit>, но не растворяется в нем. Практическому характеру той области, к которой она принадлежит, отвечает и особенная форма отношения к субъек^ ту, которая недоступна в случае сдержанного теоретического представления сугубо абстрактно «значимых» содержаний. Эту форму можно назвать требованием или притязанием. Ценность, которая прилепилась <haftet> к какой-либо вещи, личности, отношению, событию, жаждет признания. Конечно, это стремление как событие можно обнаружить только в нас, субъектах; но только вот исполняя его, мы ощущаем, что тем самым не просто удовлетворяем требованию, которое поставили себе мы сами, - и уж тем более не воспроизводим некоторую определенность объекта. Значение какого-либо телесного символа, состоящее в возбуждении у нас религиозного чувства; нравственное требование со стороны определенной жизненной ситуации революционизировать ее или оставить, как есть, развивать далее или направить движение назад; ощущение того, что долг наш - не быть равнодушными перед лицом великих событий, но реагировать на них всей душой; право наглядно созерцаемого быть не просто принятым к сведению, но включенным во взаимосвязи эстетической оценки - все это притязания, которые, правда, воспринимаются и осуществляются только внутри Я и для которых в самих объектах нельзя обнаружить никакого соответствия, никакой вещественной точки приложения, но которые, как притязания, столь же мало могут быть размещены в Я, как и в предметах, коих они касаются. С точки зрения естественной вещественности, такое притязание может казаться субъективным, с точки зрения субъекта, - объективным; в действительности же это третья категория, которую нельзя составить из первых двух, это как бы нечто между нами и вещами. Я говорил, что ценность вещей относится к тем образам содержания, которые мы, представляя их, одновременно воспринимаем как нечто самостоятельное, хотя именно представляемое, нечто оторванное от той функции, благодаря которой оно живет в нас; в том же случае, когда ценность образует содержание этого «представления», оно, если присмотреться внимательнее, оказывается именно восприятием притязания, данная «функция» есть требование, не существующее как таковое вне нас, но, по своему содержанию, берущее начало в идеальном царстве, которое находится не в нас, которое также не присуще <anhaftet> объектам ценностной оценки как их качество; напротив, оно есть <besteht> значение, которое эти объекты имеют для нас как субъектов благодаря своему расположению в порядках этого идеального царства. Ценность, которую мы мыслим независимой от ее признанности, есть метафизическая категория; как таковая она находится по ту сторону дуализма субъекта и объекта, подобно тому, как непосредственное наслаждение находилось по сию сторону этого дуализма. Последнее есть конкретное единство, к которому еще не приложены эти дифференциальные категории, первое же - это абстрактное, или идеальное единство, в для-себя-сущем значении которого этот дуализм снова исчез - подобно тому, как во всеохватности сознания, которую Фихте называет «Я», исчезает противоположность эмпирического Я и эмпирического He-Я. Как наслаждение в момент полного слияния функции со своим содержанием нельзя назвать субъективным, ибо нет никакого противостоящего объекта, который бы оправдывал понятие субъекта, так и эта сущая для себя, значимая в себе ценность не объективна, ибо она мыслится именно как независимая от субъекта, который ее мыслит; она выступает, правда, внутри субъекта как требование признания, однако ничего не утрачивает в своей сущности и при неисполнении этого требования.
При восприятии ценностей в повседневной практике жизни, эта метафизическая сублимация понятия не учитывается. Здесь речь идет только о ценности, живущей в сознании субъектов, и о той объективности, которая возникает в этом психологическом процессе оценивания как его предмет. Выше я показал, что этот процесс образования ценности происходит с увеличением дистанции между наслаждающимся и причиной его наслаждений. А поскольку величина этой дистанции варьирует (не по мере наслаждения, в котором она исчезает, но по мере вожделения, которое появляется одновременно с дистанцией и которое пытается преодолеть наслаждающийся), то постольку лишь и возникают те различия в акцентировании ценностей, которые можно рассматривать как разницу между субъективным и объективным. По меньшей мере, что касается тех объектов, на оценке которых основывается хозяйство, ценность, правда, является коррелятом вожделения (подобно тому, как мир бытия есть мое представление, так мир ценности есть мое вожделение) однако, несмотря на логико-физическую необходимость, с которой всякое вожделеющее влечение ожидает удовлетворения от некоторого предмета, оно во многих случаях, по своей психологической структуре, направляется на одно лишь это удовлетворение, так что сам предмет при этом совершенно безразличен, важно только, чтобы он утихомиривал влечение. Если мужчину может удовлетворить любая баба без индивидуального выбора; если он ест все, что только может прожевать и переварить; если спит на любой койке, если его культурные потребности можно удовлетворить самым простым, одной лишь природой предлагаемым материалом, - то [здесь] практическое сознание еще совершенно субъективно, оно наполнено исключительно собственным состоянием субъекта, его возбуждениями и успокоениями, а интерес к вещам ограничивается тем, что они суть непосредственные причины этих действий. Правда, это скрывает наивная проективная потребность примитивного человека, его направленная вовне жизнь, принимающая интимный мир как нечто самоочевидное. Одно только осознанное желание нельзя всегда считать вполне достаточным показателем действительно эффективного восприятия ценности. Легко понятная целесообразность в дирижировании нашими практическими силами достаточно часто представляет нам предмет как ценный, тогда как возбуждает нас, собственно, вовсе не он сам в своем вещественном значении, но субъективное удовлетворение потребности, которое он должен для нас создать. Начиная с этого состояния - которое, конечно, не всегда должно иметь значение первого по времени, но всегда должно считаться самым простым, фундаментальным, как бы систематически первым - сознание бывает направлено на сам объект двумя путями, которые, однако, снова соединяются. А именно, коль скоро одна и та же потребность отвергает некоторое количество возможностей удовлетворения, может быть, даже все, кроме одной, то есть там, где желаемо не просто удовлетворение, но удовлетворение определенным предметом, там открыт путь к принципиальному повороту от субъекта к объекту. Конечно, можно было бы возразить, что речь идет в каждом случае лишь о субъективном удовлетворении влечения, только в последнем случае само по себе влечение уже настолько дифференцировано, что удовлетворить его может лишь точно определенный объект; иными словами, и здесь тоже предмет ценится лишь как причина восприятия, но не сам по себе. Конечно, такое возражение могло бы свести на нет это сомнительное различие, если бы дифференциация влечения заостряла его на одном единственном удовлетворяющем ему объекте действительно столь исключительным образом, что удовлетворение посредством других объектов было бы вообще исключено. Однако это - весьма редкий, уникальный случай. Более широкий базис, на котором развиваются даже самые дифференцированные влечения, изначальная всеобщность потребности, содержащей в себе именно действие влечения <Getriebenwerden>, но не особенную определенность цели, обычно и впоследствии остается той подосновой, которая только и позволяет суженным желаниям удовлетворения осознать свою индивидуальную особенность. Поскольку все большая утонченность субъекта ограничивает круг объектов, удовлетворяющих его потребностям, он резко противопоставляет предметы своего вожделения всем остальным, которые сами по себе тоже могли бы утихомирить его потребность, но которые он, тем не менее, теперь уже не ищет. Это различие между объектами, как показывают известные психологические наблюдения, в особенно высокой степени направляет на них сознание и заставляет их выступить в нем как предметы самостоятельной значимости. На этой стадии кажется, что потребность детерминирована предметом; по мере того, как влечение уже не кидается на любое, лишь бы только возможное удовлетворение, уже не terminus a quo*, но terminus ad quern** все более и более направляет практическое восприятие, так что увеличивается пространство, которое занимает в сознании объект как таковой. Взаимосвязь здесь еще и следующая. Покуда влечения насилуют человека, мир образует для него, собственно, неразличимую массу; ибо, пока они означают для него только само по себе иррелевантное средство удовлетворения влечений (а этот результат к тому же может быть также вызван множеством причин), до тех пор с предметом в его самостоятельной сущности не бывает связано никакого интереса. Но то, что мы нуждаемся в совершенно особенном, уникальном объекте, позволяет более четко осознать, что мы вообще нуждаемся в каком-либо объекте. Однако это сознание известным образом более теоретично, оно понижает слепую энергию влечения, стремящегося только к самоисчерпанию.
* Исходный пункт (лат.).
** Конечный пункт (лат.).
В то время как дифференцирующее заострение потребности идет рука об руку с ослаблением ее стихийной силы, в сознании освобождается больше места для объекта. То же получается, если посмотреть с другой стороны: поскольку утончение и специализация потребности вынуждает сознание ко все большей самоотдаче объекту, у солипсистской потребности отнимается некоторое количество силы. Повсюду ослабление аффектов, т.е. безусловной самоотдачи Я моментальному содержанию своего чувства, взаимосвязано с объективацией представлений, с выведением их в противостоящую нам форму существования. Так, например, возможность выговориться является одним из мощнейших средств притупления аффектов. В слове внутренний процесс как бы проецируется вовне и противостоит [говорящему] как воспринимаемый образ, а тем самым уменьшается резкость аффекта. Смирение страстей и представление объективного как такового в его существовании и значении суть лишь две стороны одного и того же основного процесса. Очевидно, что отвратить внутренний интеpec от одной только потребности и ее удовлетворения и посредством сужения возможностей последнего обратить этот интерес на объект можно с тем же и даже большим успехом также и со стороны объекта - поскольку он делает удовлетворение трудным, редким и достижимым только обходными путями и благодаря специальному приложению сил. То есть если мы предположим наличие даже очень дифференцированного, направленного лишь на самые избранные объекты вожделения, то и оно все-таки будет воспринимать свое удовлетворение как нечто относительно самоочевидное, покуда это удовлетворение будет обходиться без трудностей и сопротивления. Дело в том, что для познания собственного значения вещей необходима дистанция, образующаяся между ними и нашим восприятием. Таков лишь один из многих случаев, когда надо отойти от вещей, положить пространство между нами и ними, чтобы обрести объективную картину их. Конечно, и она определена субъективно-оптически не в меньшей степени, чем нечеткая или искаженная картина при слишком большой или слишком малой дистанции, однако по внутренним основаниям целесообразности познания именно в этих крайних случаях субъективность оказывается особенно акцентированной. Изначально объект существует только в нашем к нему отношении, вполне слит с [этим отношением] и противостоит нам лишь в той мере, в какой он уже не во всем подчиняется этому отношению. Дело точно так же лишь там, где желание не совпадает с исполнением, доходит и до подлинного вожделения вещей, которое признает их для-себя-бытие, именно поскольку пытается преодолеть его. Возможность наслаждения, как образ будущего, должна быть сначала отделена от нашего состояния в данный момент, чтобы мы вожделели вещи, которые сейчас находятся на дистанции от нас. Как в области интеллектуального изначальное единство созерцания, которое можно еще наблюдать у детей, лишь постепенно расчленяется на сознание Я и осознание противостоящего ему объекта, так и наивное наслаждение лишь освободит место осознанию значения вещи, как бы уважению к ней, когда вещь ускользнет от него. Также и здесь проявляется взаимосвязь между ослаблением аффектов вожделения и началом объективации ценностей, поскольку усмирение стихийных порывов воления и чувствования благоприятствует осознанию Я. Покуда личность еще отдается, не сдерживаясь, возникающему в данный момент аффекту, совершенно преисполняется и увлекается им, Я еще не может образоваться; напротив, сознание Я, пребывающее по ту сторону отдельных своих возбуждений, может обнаружиться как нечто постоянное во всех изменениях этих последних только тогда, когда уже ни одно из них не увлекает человека целиком; напротив, они должны оставить нетронутой какую-то его часть, которая образует точку неразличенности их противоположностей, так что, таким образом, только определенное их умаление и ограничение позволяет возникнуть Я как всегда тождественному носителю нетождественных содержаний. Но подобно тому, как Я и объект суть во всех возможных областях нашего существования понятия соотносительные, которые еще не различены в изначальной форме представления и только вы-дифференцируются из нее, одно в другом, - так и самостоятельная ценность объектов могла бы развиться лишь в противоположности ставшему самостоятельным Я. Только испытываемые нами отталкивания от объекта, трудности получения его, время ожидания и труда, отодвигающее желание от исполнения, разнимают Я и объект, которые в неразвитом виде и без специального акцентирования покоятся в непосредственном примыкании друг к другу потребности и удовлетворения. Пусть даже объект определяется здесь одной только своей редкостью (соотносительно с вожделенностью) или позитивными трудами по его присвоению, - во всяком случае, он сначала полагает тем самым дистанцию между собой и нами, которая, в конце концов, позволяет сообщить ему ценность, потустороннюю для наслаждения этим объектом.
Таким образом, можно сказать, что ценность объекта покоится, правда, на том, что он вожделеем, но вожделение это потеряло свой абсолютный характер влечения. Однако точно так же и объект, если он должен оставаться хозяйственной ценностью, не может повысить количество своей ценности настолько, чтобы практически иметь значение абсолютного. Дистанция между Я и предметом его вожделения может быть сколь угодно велика - будь то из-за реальных трудностей с его получением, будь то из-за непомерной цены, будь то из-за сомнений нравственного или иного рода, которые противодействуют стремлению к нему, - так что дело не заходит о реальном акте воли, но вожделение либо затухает, либо превращается в смутные желания. Таким образом, дистанция между субъектом и объектом, с увеличением которой возникает ценность, по меньшей мере, в хозяйственном смысле, имеет нижнюю и верхнюю границы, так что формулировка, согласно которой мера ценности равна мере сопротивления, оказываемого получению вещей сообразно естественным, производственным и социальным шансам, - эта формулировка не затрагивает существа дела. Конечно, железо не было бы хозяйственной ценностью, если бы получение его не встречало больших трудностей, чем, например, получение воздуха для дыхания; с другой стороны, однако, эти трудности должны были стать ниже определенного уровня, чтобы путем обработки железа вообще можно было изготовить инструменты в таком количестве, что и сделало его ценным. Другой пример: говорят, что творения плодовитого живописца, при том же художественном совершенстве, будут менее ценны, чем у менее продуктивного; но это правильно только в случае превышения определенного количества. Ведь требуется некоторое множество произведений художника, чтобы он вообще мог однажды добиться той славы, которая поднимает цену его картин. Далее, в некоторых странах, где имеют хождение бумажные деньги, редкость золота приводит к тому, что простой народ вообще не хочет принимать золота, если оно ему случайно предлагается. Именно в отношении благородных металлов, которые из-за своей редкости считаются обычно особенно пригодным материалом для денег, теория не должна упустить из виду, что такое значение редкость обретает только после превышения довольно значительной частоты распространения, без которой эти металлы вообще не могли бы служить практической потребности в деньгах и, таким образом, не могли бы обрести той ценности, которой они обладают как денежный материал. Быть может, только практическое корыстолюбие, которое вожделеет превыше всякого данного количества благ и которому поэтому кажется малой всякая ценность, заставляет забыть, что не редкость, но нечто среднее между редкостью и не редкостью образует в большинстве случаев условие ценности. Нетрудно догадаться, что редкость - это момент, который важен для восприятия различий, а частота распространения - это момент, важность которого связана с привыканием. А поскольку жизнь всегда определяется пропорциональным соотношением обоих этих фактов, т. е. тем, что мы нуждаемся и в различии и перемене ее содержаний, и в привыкании к каждому из них, то эта общая необходимость выражается здесь в особой форме: с одной стороны, ценность вещей требует редкости, т. е. некоторого отрыва от них, особого к ним внимания, а с другой стороны, - известной широты, частоты распространения, длительности, чтобы вещи вообще переходили порог ценности.
Всеобщее значение дистанцирования для представляющегося объективным оценивания я намерен показать на примере, который весьма далек от ценностей экономических и как раз поэтому годится, чтобы отчетливее показать также и их принципиальную особенность. Я говорю о ценностях эстетических. То, что мы теперь называем радостью по поводу красоты вещей, развилось относительно поздно. Ведь сколько бы непосредственного физического наслаждения ни приносила нам она в отдельных случаях даже теперь, однако же специфика заключается именно в сознании того, что мы отдаем должное вещи <Sache> и наслаждаемся ею, а не просто состоянием чувственной или сверхчувственной возбужденности, которое, например, она нам доставляет. Каждый культурно развитый <kultivierter> мужчина, в принципе, весьма уверенно различит эстетическую и чувственную радость, доставляемую женской красотой, сколь бы мало ни мог он разграничить в отдельном явлении эти компоненты своего совокупного чувства. В одном аспекте мы отдается объекту, в другом - он отдается нам. Пусть эстетическая ценность, как и всякая другая, будет чужда свойствам самих вещей <Dinge>, пусть она будет проекцией чувства в вещи, однако для нее характерно, что эта проекция является совершенной, т. е. что содержание чувства, так сказать, целиком входит в предмет и являет себя как противостоящая субъекту значимость со своей собственной нормой, как нечто такое, что есть предмет. Но как же, [с точки зрения] историко-психологиче-ской, дело могло дойти до этой объективной, эстетической радости от вещей <Dinge>, если примитивное наслаждение ими, из которого только и может исходить более высокое наслаждение, прочно связано с их способностью быть предметами наслаждения и их полезностью? Быть может, ключ к разгадке даст нам очень простое наблюдение. Если какого-либо рода объект доставил нам большую радость или весьма поощряет нас, то всякий следующий раз, глядя на этот объект, мы испытываем чувство радости, причем даже тогда, когда об использовании его или наслаждении им речь уже не идет. Эта радость, отдающаяся в нас подобно эху, имеет совершенно особенный психологический характер, определяемый тем, что мы уже ничего не хотим от предмета; на место конкретного отношения, которое прежде связывало нас с ним, теперь приходит просто его созерцание как причины приятного ощущения; мы не затрагиваем его в его бытии, так что это чувство связывается только с его явлением, но не с тем, что здесь можно в каком-либо смысле употребить. Короче говоря, если предмет прежде был для нас ценен как средство для наших практических или эвдемонистических целей, то теперь один только его образ созерцания доставляет нам радость, тогда как мы ему противостоим при этом более сдержанно, более дис-танцированно, вовсе не касаясь его. Мне представляется, что здесь уже преформированы решающие черты эстетического, что недвусмысленно обнаруживается, как только это преобразование ощущений прослеживают далее, от индивидуально-психологического - к родовому развитию. Уже с давних пор красоту пытались вывести из полезности, однако из-за чрезмерного сближения того и другого, как правило, застревали на пошлом огрублении прекрасного. Избежать этого можно, только если достаточно далеко отодвинуть в историю рода внешнюю целесообразность и чувственно-эвдемонистическую непосредственность, так, чтобы с образом этих вещей в нашем организме было связано подобное инстинкту или рефлексу чувство удовольствия, которое действует в унаследовавшем эту физико-психическую связь индивиде, даже если полезность предмета для него самого не осознается им или [вообще] не имеет места. Мне нет нужды подробно останавливаться на спорах о наследовании приобретенных таким образом связей, потому что для нашего изложения достаточно и того, что явления протекают так, как если бы приобретенные свойства были унаследованы. Таким образом, прекрасным для нас было бы первоначально то, что обнаружило свою полезность для рода, а восприятие его потому и доставляет нам удовольствие, хотя мы как индивиды не имеем конкретной заинтересованности в этом объекте - что, конечно, не означает ни униформизма, ни прикованности индивидуального вкуса к среднему или родовому уровню. Отзвуки этой всеобщей полезности воспринимаются всем многообразием индивидуальных душ и преобразуются далее в особенности, заранее отнюдь не предрешенные, - так что, пожалуй, можно было бы сказать, что этот отрыв чувства удовольствия от реальности изначального повода к нему стал, наконец, формой нашего сознания, независимой от первых содержаний, вызвавших ее образование, и готовой воспринять в себя любые другие содержания, врастающие в нее в силу [той или иной] душевной констелляции. В тех случаях, когда у нас еще есть и повод для реалистического удовольствия, наше чувство по отношению к вещам - не специфически эстетическое, но конкретное, которое лишь благодаря определенному дистанцированию, абстрагированию, сублимации испытывает метаморфозу, [превращаясь именно в] эстетическое. Здесь происходит то, что случается, в общем-то, довольно часто: после того, как некоторое отношение устанавливается, связующий элемент выпадает, потому что его услуги больше уже не требуются. Связь между определенными полезными объектами и чувством удовольствия стала у [человеческого] рода, благодаря наследственному или какому-то иному механизму передачи традиции, столь прочной, что уже один только вид этих объектов, хотя бы мы ими и не наслаждались, оказывается для нас удовольствием. Отсюда - то, что Кант называет эстетической незаинтересованностью, безразличие относительно реального существования предмета, когда дана только его «форма», т. е. его зримость; отсюда - преображение и надмирность прекрасного - она есть результат временной удаленности реальных мотивов, в силу которых мы теперь воспринимаем эстетически; отсюда - и представление о том, что прекрасное есть нечто типическое, надындивидуальное, общезначимое - ибо родовое развитие уже давно вытравило из этого внутреннего движения все специфическое, сугубо индивидуальное, что относилось к отдельным мотивам и опыту; отсюда - частая невозможность рассудочно обосновать эстетическое суждение, которое к тому же нередко оказывается противоположным тому, что полезно или приятно нам как индивидам. Все это развитие вещей от их ценности-полезности к ценности-красоте есть процесс объективации. Поскольку я называю вещь прекрасной, ее качество и значение совершенно иначе независимы от диспозиций и потребностей субъекта, чем когда она просто полезна. Покуда вещи только полезны, они функциональны, т. е. каждая иная вещь, которая имеет тот же результат, может заменить каждую. Но коль скоро они прекрасны, вещи обретают индивидуальное для-себя-бытие, так что ценность, которую имеет для нас одна из них, не может быть заменена иною вещью, которая, допустим, в своем роде столь же прекрасна. Не обязательно прослеживать генезис эстетического, начиная с его едва заметных признаков и кончая многообразием развитых форм, чтобы понять: объективация ценности возникает в отношении дистанцированности, образующейся между субъективно-непосредственным истоком оценки объекта и нашим восприятием его в данный момент. Чем дальше отстоит по времени и как таковая забывается полезность для рода, которая впервые заставляет связать с объектом заинтересованность и оценку, тем чище эстетическая радость от одной лишь формы и созерцания объекта, т. е. он тем более противостоит нам со своим собственным достоинством, и мы тем более придаем ему то значение, которое не растворяется в случайном субъективном наслаждении им, а наше отношение к вещам, когда мы оцениваем их лишь как средства для нас, тем более уступает место чувству их самостоятельной ценности.
Я выбрал этот пример, потому что объективирующее действие того, что я называю дистанцированием, оказывается особенно наглядным в случае временной удаленности. Конечно, это более интенсивный и качественный процесс, так что количественная характеристика с указанием на дистанцию является только символической. И поэтому тот же самый эффект может быть вызван рядом других моментов, как это фактически уже и обнаружилось: редкостью объекта, трудностями его получения, необходимостью отказа от него. Пусть в этих случаях, которые существенны для хозяйства, важность вещей всегда будет важностью для нас и потому останется зависимой от нашего признания - однако решающий поворот состоит в том, что в результате этого развития вещи противостоят нам как сила <Macht> противостоит силе, как мир субстанций и энергий <Krafte>, которые своими свойствами определяют, удовлетворяют ли они, и насколько именно, наши вожделения, и которые, прежде чем отдаться нам, требуют от нас борьбы и трудов. Лишь если встает вопрос об отказе - отказе от ощущения (а ведь дело, в конце концов, в нем), появляется повод направить сознание на предмет такового. Стилизованное представлением о рае состояние, в котором субъект и объект, вожделение и исполнение еще не разделились, отнюдь не есть состояние исторически ограниченной эпохи и выступает повсюду и в самых разных степенях; это состояние, конечно, предопределено к разложению, но тем самым опять-таки и к примирению: смысл указанного дистанцирования заключается в том, что оно преодолевается. Страстное желание, усилие, самопожертвование, вмещающиеся между нами и вещами, как раз и должны нам их доставить. «Дистанцирование» и приближение также и практически суть понятия взаимообразные, каждое из них предполагает другое, и оба они образуют стороны того отношения к вещам, которое мы субъективно называем своим вожделением, а объективно - их ценностью. Конечно, мы должны удалить от себя предмет, от которого мы получили наслаждение, дабы вожделеть его вновь; что же касается дальнего, то это вожделение есть первая ступень приближения, первое идеальное отношение к нему. Такое двойственное значение вожделения, т. е. то, что оно может возникнуть только на дистанции к вещам, преодолеть которую оно как раз и стремится, но что оно при этом все-таки предполагает уже какую-то близость между нами и вещами, дабы имеющаяся дистанция вообще ощущалась, - это значение прекрасно выразил Платон, говоривший, что любовь есть среднее состояние между обладанием и необладанием. Необходимость жертвы, уяснение в опыте, что вожделение успокоено не напрасно, есть только заострение или возведение в степень этого отношения: тем самым мы оказываемся принуждены осознать удаленность между нашим нынешним Я и наслаждением вещами, причем именно благодаря тому, что та же необходимость и выводит нас на путь к преодолению удаленности. Такое внутреннее развитие, приводящее одновременно к возрастанию дистанции и сближения, явственно выступает и как исторический процесс дифференциации. Культура вызывает увеличение круга интересов, т. е. периферия, на которой находятся предметы интереса, все дальше отодвигается от центра, т. е. Я. Однако это удаление возможно только благодаря одновременному приближению. Если для современного человека объекты, лица и процессы, удаленные от него на тысячи миль, имеют жизненное значение, то они должны быть сначала сильнее приближены к нему, чем к естественному человеку, для которого ничего подобного вообще не существует; поэтому для последнего они еще находятся по ту сторону позитивного определения, [т. е. определения их] близости или удаленности. И то, и другое начинает развиваться из такого состояния неразличенности только во взаимодействии. Современный человек должен работать совершенно иначе, чем естественный человек, прилагать усилия совершенно иной интенсивности, т. е. расстояние между ним и предметами его воления несравнимо более дальнее, между ними стоят куда более жесткие условия, но зато и бесконечно более велико количество того, что он приближает к себе - идеально, через свое вожделение, а также реально, жертвуя своим трудом. Культурный процесс - тот самый, который переводит субъективные состояния влечения и наслаждения в оценку объектов - все резче разводит между собой элементы нашего двойного отношения близости к вещам и удаленности от них.
Субъективные процессы влечения и наслаждения объективируются в ценности, т. е. из объективных отношений для нас возникают препятствия, лишения, появляются требования [отдать] какую-то «цену», благодаря чему причина или вещественное содержание влечения и наслаждения только и удаляется от нас, а благодаря этому, одним и тем же актом, становится для нас подлинным «объектом» и ценностью. Таким образом, отвлеченно-радикальный вопрос о субъективности или объективности ценности вообще поставлен неправильно. Особенно сильно вводит в заблуждение, когда его решают в духе субъективности, основываясь на том, что нет такого предмета, который мог бы задать совершенно всеобщий масштаб ценности, но этот последний меняется - от местности к местности, от личности к личности и даже от часа к часу. Здесь путают субъективность и индивидуальность ценности. Что я вожделею наслаждения или наслаждаюсь, есть, конечно, нечто субъективное постольку, поскольку здесь, в себе и для себя, отнюдь не акцентируется осознание предмета как такового или интерес к предмету как таковому. Однако, в дело вступает совершенно новый процесс, процесс оценки: содержание воли и чувства обретает форму объекта. Объект же противостоит субъекту с некоторой долей самостоятельности, довольствуя его или отказывая ему, связывая с получением себя требования, будучи возведен изначальным произволом выбора себя в законосообразный порядок, где он претерпевает совершенно необходимую судьбу и обретает совершенно необходимую обусловленность. То, что содержания, принимающие эту форму объективности, не суть одни и те же для всех субъектов, здесь совершенно не важно. Допустим, все человечество совершило бы одну и ту же оценку; тем самым у этой последней не приросло бы нисколько «объективности» свыше той, какой она уже обладает в некотором совершенно индивидуальном случае; ибо, поскольку содержание вообще оценивается, а не просто функционирует как удовлетворение влечения, как наслаждение, оно находится на объективной дистанции от нас, которая устанавливается реальной определенностью помех и необходимой борьбы, прибылей* и потерь, соображений [о ценности] и цен.
* В оригинале: «Gewinn». В сочетаниях «GewinndesGegenstandes»,«Gewinn desObjekts» и т. д. мы до сих пор переводили его как «получение» (предмета, объекта и т. п.). В сочетаниях «Gewinn und Verlust», «Gewinnund Verzicht», «Gewinn und Opfer» и т. д. оно будет переводиться как «прибыль» («и потеря», «и отказ», «и жертва» и т. п.).
Основание, в силу которого снова и снова ставится ложный вопрос относительно объективности или субъективности ценности, заключается в том, что мы преднаходим в развитом эмпирическом состоянии необозримое число объектов, которые стали таковыми исключительно по причинам, находящимся в сфере представления. Однако уж если в нашем сознании есть готовый объект, то кажется, будто появляющаяся у него ценность помещается исключительно на стороне субъекта; первый аспект, из которого я исходил, - включение содержаний в ряды бытия и ценности, - кажется тогда просто синонимичным их разделению на объективность и субъективность. Однако при этом не принимают во внимание, что объект воли есть как таковой нечто иное, чем объект представления. Пусть даже оба они располагаются на одном и том же месте пространственного, временного и качественного рядов: вожделенный предмет противостоит нам совершенно иначе, означает для нас нечто совсем иное, чем представляемый. Вспомним об аналогичном случае - любви. Человек, которого мы любим, - совсем не тот же образ, что и человек, которого мы представляем себе в соответствии с познанием [о нем]. Я при этом не имею в виду те смещения или искажения, которые привносит, например, аффект в образ познания. Ведь этот последний все равно остается в области представления и в рамках интеллектуальных категорий, как бы ни модифицировалось его содержание. Однако то, как является для нас объектом любимый человек, - это, по существу, иной род, чем интеллектуально представляемый, он означает для нас, несмотря на все логическое тождество, нечто иное, примерно, так, как мрамор Венеры Милосской означает нечто иное для кристаллографа, чем для эстетика. Таким образом, элемент бытия, удостоверяемый, в соответствии с некоторыми определенностями бытия, как «один и тот же», может стать для нас объектом совершенно различными способами: [способом] представления и [способом] вожделения. В пределах каждой из этих категорий противопоставление субъекта и объекта имеет разные причины и разные действия, так что если практические отношения между человеком и его объектами ставят [нас] перед такого рода альтернативой: [либо] субъективность, либо объективность, которая может быть значима лишь в области интеллектуального представления, то это ведет только к путанице. Ибо даже если ценность предмета объективна и не в том самом смысле, в каком объективны его цвет или тяжесть, то от этого она отнюдь еще не субъективна в том смысле, который соответствует этой объективности; такая субъективность присуща, скорее, например, окраске, возникающей из-за обмана чувств, или какому-либо качеству вещи, которое приписывает ей ложное умозаключение, или некоторому бытию, реальность которого внушает нам суеверие. Напротив, практическое отношение к вещам создает совершенно иной род объективности - благодаря тому, что реальные обстоятельства оттесняют содержание вожделения и наслаждения от самого этого субъективного процесса и тем самым создают для объективности специфическую категорию, которую мы называем ее ценностью.
В хозяйстве же этот процесс происходит таким образом, что содержание жертвы или отказа, становящихся между человеком и предметом его вожделения, одновременно является предметом вожделения кого-то другого: первый должен отказаться от владения или наслаждения, вожделеемых другим, чтобы подвигнуть его на отказ от того, чем он владеет и что вожделеет первый. Ниже я покажу, что и хозяйство изолированного производителя, ориентированного на собственное потребление, может быть сведено к той же формуле. Итак, два ценностных образования <Wertbildungen> переплетаются между собой: необходимо вложить ценность, чтобы получить ценность. Поэтому все происходит так, как если бы вещи обоюдно определяли свои ценности. Ведь в процессе обмена одной на другую практическое осуществление и меру своей ценности каждая ценность обретает в другой. Это - решающее следствие и выражение дистанцирования предметов от субъекта. Пока они находятся в непосредственной близости к нему, пока дифференцированность вожделений, редкость предметов, трудности и сопротивления при их получении не оттесняют их от субъекта, они остаются для него, так сказать, вожделением и наслаждением, но еще не являются предметом ни того, ни другого. Указанный процесс, в ходе которого они становятся [именно предметом], завершается тем, что дистанцирующий и одновременно преодолевающий дистанцию предмет, собственно, и производится для этой цели. Тем самым обретается чистейшая хозяйственная объективность, отрыв предмета от субъективного отношения к личности, а поскольку это производство совершается для кого-то другого, кто предпринимает соответствующее производство для первого, то предметы вступают в обоюдное объективное отношение. Форма, которую ценность принимает в обмене, включает ее в уже описанную выше категорию по ту сторону субъективности и объективности в строгом смысле слова; в обмене ценность становится надсубъектной*, надындивидуальной, не становясь, однако, вещественным <sachlich> качеством и действительностью самой вещи <Ding>: она выступает как требование вещи, как бы выходящее за пределы ее имманентной вещественности, которое состоит в том, чтобы быть отданной, быть полученной лишь за соответствующую ценность с противоположной стороны.
* В оригинале: «ubersubjektiv». Немецкое «subjektiv» может быть передано по-русски и как «субъективный», и как «субъектный», соответственно варьируют и производные от него.
Будучи всеобщим истоком ценностей вообще, Я, тем не менее, настолько далеко отступает от. своих созданий, что они теперь могут мерить свои значения друг по другу, не обращаясь всякий раз снова к Я. Цель этого сугубо вещественного взаимоотношения ценностей, которое совершается в обмене и основано на обмене, явно состоит в том, чтобы, наконец, насладиться ими, т. е. в том, чтобы к нам было приближено больше более интенсивных ценностей, чем это было бы возможно без такой самоотдачи и объективного выравнивания в процессе обмена. Подобно тому, как о божественном начале говорили, что оно, сообщив силы мировым стихиям, отступило на задний план и предоставило их взаимной игре этих сил, так что мы теперь можем говорить об объективном, следующем своим собственным отношениям и законам мире; но также и подобно тому, как божественная власть избрала такое исторжение из себя мирового процесса как самое пригодное средство для наиболее совершенного достижения своих целей касательно мира, - так и в хозяйстве мы облачаем вещи в некоторое количество ценности, как будто это - их собственное качество, и затем предоставляем их движению обмена, объективно определенному этими количествами механизму, некоторой взаимности безличных ценностных действий - откуда они, умножившись и делая возможным более интенсивное наслаждение, возвращаются к своей конечной цели, которая была их исходным пунктом: к чувствованию субъектов. Таковы исток и основа хозяйственного образования ценностей, последствия которого выступают носителем смысла денег. К демонстрации этих последствий мы сейчас и обратимся.
II
Техническая форма хозяйственного общения создает [настоящее] царство ценностей, которое в большей или меньшей степени совершенно оторвалось от своего субъективно-личностного базиса. Индивид совершает покупку, потому, что он ценит предмет и желает его потребить, однако это вожделение индивид эффективно выражает только посредством того предмета, который он обменивает на [желаемый]; тем самым субъективный процесс дифференциации и растущего напряжения между функцией и содержанием, в ходе которого последнее становится «ценностью», превращается в вещественное, надличное отношение между предметами. Личности*, которые побуждаются своими желаниями и оценками к совершению то одного обмена, то другого, реализуют тем самым для своего сознания только ценностные отношения, содержание которых уже заключено в самих вещах: количество одного объекта соответствует по ценности определенному количеству другого объекта, и эта пропорция как нечто объективно соразмерное и словно бы законосообразное столь же противоположна личным мотивам (своему истоку и завершению), как мы это видим в объективных ценностях нравственной и других областей. По меньшей мере, так должно было бы выглядеть вполне развитое хозяйство. В нем предметы циркулируют соответственно нормам и мерам, устанавливающимся в каждый данный момент; индивиду они противостоят, таким образом, как некое объективное царство, к которому он может быть причастным либо непричастным, но если он желает первого, то это для него возможно лишь как для носителя или исполнителя внеположных ему определенностей. Хозяйство стремится (это никогда не бывает совершенно нереальным и никогда не реализуется полностью) достигнуть такой ступени развития, на которой вещи взаимно определяют меры своей ценности, словно бы посредством самодеятельного механизма, - невзирая на то, сколько субъективного чувствования вобрал в себя этот механизм в качестве своего предварительного условия или своего материала. Но именно благодаря тому, что за один предмет отдается другой, ценность его обретает всю ту зримость и осязаемость, какая здесь вообще возможна. Взаимное уравновешение, благодаря которому каждый из объектов хозяйствования выражает свою ценность в ином предмете, изымает их из области сугубо чувственного значения: относительность определения ценности означает его объективацию. Тем самым предполагается основное отношение к человеку, в чувственной жизни которого как раз и совершаются все процессы оценивания, оно, так сказать, вросло в вещи, и они, будучи оснащены им, вступают в то взаимное уравновешение, которое является не следствием их хозяйственной ценности, но уже ее носителем или содержанием.
* В оригинале: «Personen». Немецкие слова «Person» и «Personlichkeit» строго и адекватно передаются русскими «лицо» и «личность». Однако это терминологическое различие не выдержано в данном тексте Зиммеля, и потому мы предлагаем, как представляется, более удобочитаемый перевод.
Таким образом, факт хозяйственного обмена изымает вещи из состояния слитности с сугубой субъективностью субъектов, а поскольку в них тем самым инвестируется их хозяйственная функция, это заставляет их взаимно определять друг друга. Практически значимую ценность предмету сообщает не одно только то, что он вожделен, но и то, что вожделен другой [предмет]. Его характеризует не отношение к воспринимающему субъекту, а то, что это отношение обретается лишь ценой жертвы, в то время как с точки зрения другой стороны, эта жертва есть ценность, которой возможно насладиться, а та первая ценность - жертва. Тем самым объекты взаимно уравновешиваются, а потому и ценность может совершенно особенным образом выступить как объективно присущее им самим свойство. Поскольку по поводу предмета торгуются - а это означает, что представляемая им жертва фиксируется - его значение выступает для обоих контрагентов как нечто гораздо более внеположное им, чем если бы индивид воспринимал его только в отношении к себе самому; ниже мы увидим, что изолированное хозяйство, поскольку оно противопоставляет хозяйствующего требованиям природы, с той же необходимостью заставляет его жертвовать [чем-то] для получения объекта, так что и здесь то же самое отношение, которое только сменило одного носителя, может сообщить предмету столь же самостоятельное, зависимое от его собственных объективных условий значение. Конечно, за всем этим стоит вожделение и чувство субъекта как движущая сила, однако в себе и для себя она не смогла бы породить эту форму ценности, которая подобает только взаимному уравновешению объектов. Хозяйство проводит поток оценок сквозь форму обмена, создавая как бы междуцарствие между вожделениями, истоком всякого движения в человеческом мире, и удовлетворением наслаждения, его конечным пунктом. Специфика хозяйства как особой формы общения и поведения состоит (если не побояться парадоксального выражения) не столько в том, что оно обменивает ценности, сколько в том, что оно обменивает ценности. Конечно, значение, обретаемое вещами в обмене и посредством обмена, никогда не бывает вполне изолировано от их субъективно-непосредственного значения, напротив, они необходимо предполагают друг друга, как форма и содержание. Однако объективный процесс, достаточно часто господствующий над сознанием индивида, так сказать, абстрагируется о того, что его материал образуют именно ценности; здесь наиболее существенным оказывается их равенство - вроде того, как задачей геометрии оказываются пропорции величин, безотносительно к субстанциям, в которых эти пропорции только и существуют реально. Что не только рассмотрение хозяйства, но и само хозяйство, так сказать, состоит в реальном абстрагировании из объемлющей действительности процессов оценки, не столь удивительно, как может показаться на первый взгляд, если только уяснить себе, насколько человеческая деятельность [вынуждена] внутри каждой провинции души считаться с абстракциями. Силы, отношения, качества вещей, к которым в этой связи принадлежит и наше собственное существо - объективно образуют единое нерасчлененное <Ineinander>, которое, чтобы мы могли иметь с ним дело, рассекается на множество самостоятельных рядов или мотивов лишь нашим привходящим интересом. Так, любая наука изучает явления, которые только с ее точки зрения обладают замкнутым в себе единством и совершенно отграничены от проблем других наук, тогда как действительность нимало не озабочена этими разграничениями и, более того, каждый фрагмент мира представляет собой конгломерат задач для самых разнообразных наук. Равным образом и наша практика вычленяет из внешней или внутренней комплексности вещей односторонние ряды и лишь так создает большие системы интересов культуры. То же самое обнаруживается и в деятельности чувства. Если наше восприятие религиозно или социально, если мы настроены меланхолично или радуемся миру, то абстракции, извлеченные из целого действительности, наполняют нас именно как предметы нашего чувства - то ли потому, что наша реактивная способность выхватывает из предлагаемых впечатлений лишь те, которые могут быть подведены под то или иное общее понятие интереса; то ли потому, что она самостоятельно сообщает каждому предмету некоторую окраску, причем это оправдано самим предметом, поскольку в его целостности основание для подобной окраски переплетается в объективно неразличенном единстве с основаниями для иных окрасок. Так что вот еще одна формула для описания отношения человека к миру: из абсолютного единства и взаимной сращенности вещей, где каждая есть основа для другой и все существуют равноправно, наша практика не менее, чем теория, непрерывно извлекает отдельные элементы, чтобы сомкнуть их в относительные единства и целостности. У нас, не считая самых общих чувств, нет отношения к тотальности бытия: лишь поскольку, исходя из потребностей нашего мышления и действования, мы извлекаем из явлений продолжительно существующие абстракции и наделяем их относительной самостоятельностью сугубо внутренней взаимосвязи, [той самостоятельностью,] в которой их объективному бытию отказывает непрерывное мировое движение, - мы обретаем определенное в своих частностях отношение к миру. Таким образом, хозяйственная система, конечно, основана на абстракции, на отношении обоюдности обмена, балансе между жертвой и прибылью, тогда как в реальном процессе эта система неразрывно слита со своим основанием и своим результатом: вожделениями и наслаждениями. Но эта форма существования не отличается от других областей, на которые мы, сообразно своим интересам, разлагаем совокупность явлений.
Чтобы хозяйственная ценность была объективна и тем самым служила определению границ хозяйственной области как самостоятельной, главное - принципиальная зап-редельность этой значимости для отдельного субъекта. Благодаря тому, что за предмет следует отдавать другой, оказывается, что он чем-то ценен не только для меня, но и в себе, т. е. и для другого. В хозяйственной форме ценностей уравнение «объективность = значимость для субъектов вообще» находит одно из своих самых ясных оправданий. Благодаря эквивалентности, которая вообще только в связи с обменом привлекает к себе сознание и интерес, ценность обретает специфические характерные черты объективности. Пусть даже каждый из элементов будет только личностным или только субъективно ценным - но то, что они равны друг другу, есть момент объективный, не заключенный ни в одном из этих элементов как таковом, но и не внеположный им. Обмен предполагает объективное измерение субъективных ценностных оценок, но не в смысле временного предшествования, а так, что и то, и другое существуют в едином акте.
Здесь необходимо уяснить себе, что множество отношений между людьми может считаться обменом; он представляет собой одновременно самое чистое и самое интенсивное взаимодействие, которое, со своей стороны, и составляет человеческую жизнь, коль скоро она намеревается получить материал и содержание. Уже с самого начала часто упускают из виду, сколь многое из того, что на первый взгляд есть сугубо односторонне оказываемое воздействие, фактически включает взаимодействие: кажется, что оратор в одиночку влияет на собрание и ведет его за собой, учитель - класс, журналист - свою публику; фактически же каждый из них в такой ситуации воспринимает определяющие и направляющие обратные воздействия якобы совершенно пассивной массы; в политических партиях повсеместно принято говорить: «раз я ваш вождь, то должен следовать за вами», - а один выдающийся гипнотизер даже подчеркивал недавно, что при гипнотическом внушении (явно представляющем собой самый определенный случай чистой активности, с одной стороны, и безусловной подверженности влиянию, - с другой) имеет место трудно поддающееся описанию воздействие гипнотизируемого на гипнотизера, без которого не был бы достигнут эффект. Однако всякое взаимодействие можно рассматривать как обмен: каждый разговор, любовь (даже если на нее отвечают другого рода чувствами), игру, каждый взгляд на другого. И если [кому-то] кажется, что здесь есть разница, что во взаимодействии отдают то, чем сами не владеют, а в обмене - лишь то, чем сами владеют, то это мнение ошибочно. Ибо, во-первых, во взаимодействии возможно пускать в дело только свою собственную энергию, жертвовать своей собственной субстанцией; и наоборот: обмен совершают не ради предмета, который прежде был во владении другого, но ради своего собственного чувственного рефлекса, которого прежде не было у другого; ибо смысл обмена - т. е. что сумма ценностей после него должна быть больше, чем сумма ценностей прежде него, - означает, что каждый отдает другому больше, чем имел он сам. Конечно, «взаимодействие» - это понятие более широкое, а «обмен» - более узкое; однако в человеческих взаимоотношениях первое в подавляющем большинстве случаев выступает в таких формах, которые позволяют рассматривать его как обмен. Каждый наш день слагается из постоянных прибылей и потерь, прилива и отлива жизненных содержаний - такова наша естественная судьба, которая одухотворяется в обмене, поскольку тут одно отдается за другое сознательно. Тот же самый духовно-синтетический процесс, который вообще создает из рядополож-ности вещей их совместность и [бытие] друг для друга; то же самое Я, которое, пронизывая все чувственные данности, сообщает им форму своего внутреннего единства, благодаря обмену овладевает и естественным ритмом нашего существования и организует его элементы в осмысленную взаимосвязь. И как раз обмену хозяйственными ценностями менее всего можно обойтись без окраски жертвенности. Когда мы меняем любовь на любовь, то иначе вообще не знали бы, что делать с открывающейся здесь внутренней энергией; отдавая ее, мы (с точки зрения внешний последствий деятельности) не жертвуем никаким благом; когда мы в диалоге обмениваемся духовным содержаниями, то количество их от этого не убывает; когда мы демонстрируем тем, кто нас окружает, образ своей личности и воспринимаем образ другой личности, то у нас от этого обмена отнюдь не уменьшается владение собою как тем, что нам принадлежит*. В случае всех этих обменов умножение ценностей происходит не посредством подсчета прибылей и убытков; напротив, каждая сторона <Partei> либо вкладывает что-то такое, что вообще находится за пределами данной противоположности, либо одна только возможность сделать это вложение уже есть прибыль, так что ответные действия партнера мы воспринимаем - несмотря на наше собственное даяние - как незаслуженный подарок. Напротив, хозяйственный обмен - все равно, касается ли он субстанций или труда или инвестированной в субстанции рабочей силы - всегда означает жертвование благом, которое могло бы быть использовано и по-другому, насколько бы в конечном счете ни перевешивало эвдемонистическое умножение [ценностей].
* В оригинале более сжато: «Besitz unser selbst», однако, столь же сжатый русский перевод мог навести на мысль о том, что речь здесь идет о самообладании как сдержанности.
Утверждение, что все хозяйство есть взаимодействие, причем в специфическом смысле жертвующего обмена, должно столкнуться с возражением, выдвинутым против отождествления хозяйственной ценности вообще с меновой ценностью*.
* Здесь мы должны впервые оговорить перевод слова «Wert». Установившийся у нас способ перевода, в частности, работ К. Маркса навязывает здесь замену «ценности» «стоимостью». Однако это полностью нарушило бы единство текста, так как нередко пришлось бы все-таки оставлять «ценность». Мы исходим из того, что, по уверению самого Зиммеля, текст его не экономический, а философский, а значит, уже одним этим, в принципе, может быть оправдан сквозной перевод «Wert» как «ценность».
Говорят, что даже совершенно изолированный хозяин - то есть тот, который ни покупает, ни продает, - должен все-таки оценивать свою продукцию и средства производства, то есть образовать независимое от всякого обмена понятие ценности, чтобы его затраты и результаты находились в правильной пропорции друг к другу. Но этот факт как раз и доказывает, однако, именно то, что должен был опровергнуть. Ведь все соображения хозяйствующего субъекта насчет того, оправданы ли затраты определенного количества труда или иных благ для получения определенного продукта, и оценивание при обмене того, что отдают, в соотношении с тем, что получают, суть для него совершенно одно и то же. Нечеткость в понимании отношений, особенно частая, когда речь идет о понятии обмена, приводит к тому, что о них говорят как о чем-то внешнем для тех элементов, между которыми они существуют. Однако ведь отношение - это только состояние или изменение внутри каждого из элементов, но не то, что существует между ними, в смысле пространственного обособления некоего объекта, находящегося между двумя другими. При сопряжении в понятии обмена двух актов, или изменений состояния, совершающихся в действительности, легко поддаться искушению представить себе, будто в процессе обмена что-то совершается над и наряду с тем, что происходит в каждом из контрагентов, - подобно тому, как если бы понятие поцелуя (ведь поцелуями тоже «обмениваются») было субстанциализировано, так что соблазнительно было бы считать его чем-то таким, что существует где-то вне обеих пар губ, вне их движений и восприятий. С точки зрения непосредственного содержания обмена, он есть только каузальное соединение двукратно совершающегося факта: некий субъект имеет теперь нечто такое, чего у него прежде не было, а за это он не имеет чего-то такого, что у него прежде было. Но тогда тот изолированный хозяин, который должен принести определенные жертвы для получения определенных плодов, ведет себя точно так же, как и тот, кто совершает обмен; только его контрагентом выступает не второй волящий субъект, а естественный порядок и закономерность вещей, обычно столь же мало удовлетворяющий наши вожделения без [нашей] жертвы, как и другой человек. Исчисления ценностей изолированным хозяином, согласно которым он определяет свои действия, в общем, совершенно те же самые, что и при обмене. Хозяйствующему субъекту как таковому, конечно, совершенно все равно, вкладывает ли он находящиеся в его владении субстанции или рабочую силу в землю или он отдает их другому человеку, лишь бы только результат для него оставался одним и тем же. В индивидуальной душе этот субъективный процесс жертвования и получения прибыли отнюдь не является чем-то вторичным или подражательным по сравнению с обменом, происходящим между индивидами. Напротив: обмен отдачи на достижение <Errungenschaft> в самом индивиде есть основополагающая предпосылка и как бы сущностная субстанция всякого двустороннего обмена. Этот последний есть просто подвид первого, а именно, такой, при котором отдача бывает вызвана требованием со стороны другого индивида, в то время как с тем же результатом для субъекта она может быть вызвана вещами и их технически-естественными свойствами. Чрезвычайно важно совершить редукцию хозяйственного процесса к тому, что действительно происходит, т. е. совершается в душе каждого хозяйствующего. Хотя при обмене этот процесс является обоюдным и обусловлен тем же самым процессом в Другом, это не должно вводить в заблуждение относительно того, что естественное и, так сказать, солипсистское хозяйство сводится к той же самой основной форме, что и двусторонний обмен: к процедуре выравнивания двух субъективных процессов в индивиде; этого выравнивания в себе и для себя совершенно не касается второстепенный вопрос, исходило ли побуждение к нему от природы вещей или от природы человека, имеет ли оно характер только натурального хозяйства или хозяйства менового. Таким образом, почувствовать ценность объекта, доступного для приобретения, можно, в общем, лишь отказавшись от других ценностей, причем такой отказ имеет место не только тогда, когда мы, опосредованная работа на себя выступает как работа для других, но и тогда, что бывает достаточно часто, когда мы совершенно непосредственно работаем ради своих собственных целей. Ясно поэтому, что обмен является в точности столь же производительным и образующим ценность, что и производство в собственном смысле. В обоих случаях речь идет о том, чтобы принять отдаваемые нам блага за ту цену, которую назначают другие, причем таким образом, что конечным состоянием будет преизбыток чувств удовлетворения по сравнению с состоянием до этих действий. Мы не можем заново создать ни материала, ни сил, мы способны только переместить данные материалы и силы так, чтобы как можно больше из них взошли из ряда действительности в ряд ценностей. Однако обмен между людьми осуществляет это формальное перемещение внутри данного материала точно так же, как и обмен с природой, который мы называем производством, т. е. оба они подпадают под одно и то же понятие ценности: и там, и тут речь идет о том, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся на месте отданного, объектом более высокой ценности, и только в этом движении объект, прежде слитый с нуждающимся и наслаждающимся Я, отрывается от него и становится ценностью. На глубокую взаимосвязь между ценностью и обменом, благодаря которой не только второе обусловлено первым, но и первое - вторым, указывает уже равенство обоих в создании основы для практической жизни. Как бы сильно ни была наша жизнь определена механикой вещей и их объективностью, мы в действительности не можем сделать ни шага, ни помыслить мысли, не оснащая свое чувствование вещей ценностями и не направляя соответственно этим ценностям нашу деятельность. Но сама эта деятельность совершается по схеме обмена: начиная с удовлетворения низших потребностей и кончая обретением высших интеллектуальных и религиозных благ, всегда требуется вложить ценность, чтобы получить ценность. Что здесь исходный пункт, а что - следствие, определить, видимо, невозможно. Либо в фундаментальных процессах одно невозможно отделить от другого, ибо они образуют единство практической жизни, которое мы, будучи не в состоянии ухватить его как таковое, разнимаем на указанные моменты, либо между ними совершается бесконечный процесс такого рода, что хотя каждый обмен и восходит к ценности, но зато эта ценность восходит к некоторому обмену. Однако, по меньшей мере, для нас более плодотворен и больше дает в смысле объяснения подход от обмена к ценностям, так как обратное кажется более известным и более очевидным. - Ценность представляется нам результатом процесса жертвования, а тем самым нам открывается бесконечное богатство, которым наша жизнь обязана этой основной форме. Стремление по возможности сделать жертву меньше и болезненное ее ощущение заставляют нас поверить, что только полное прекращение жертв подняло бы жизнь к высочайшим вершинам ценности. Но при этом мы упускаем из виду, что жертва отнюдь не всегда является внешним барьером, но что она - внутреннее условие самой цели и пути к ней. Загадочное единство нашего практического отношения к вещам мы разлагаем на жертву и прибыль, помеху и достижение, а поскольку жизнь с ее дифференцированными стадиями часто отделяет по времени одно от другого, мы забываем, что если цель достанется нам без такого препятствия, которое следует преодолевать, то это уже не будет та же самая цель. Сопротивление, которое должна уничтожить наша сила, только позволяет ей удостоверить себя самое; грех, преодолевая который душа восстает к блаженству, только и обеспечивает ей ту «радость на небесах», которую там отнюдь не связывают с изначально праведными; всякий синтез нуждается в одновременно столь же эффективном аналитическом принципе, каковой он как раз и отрицает (а без аналитического принципа это был бы уже не синтез многих элементов, но абсолютное Одно), а равным образом и всякий анализ нуждается в синтезе, в снятии которого он состоит (потому что он все еще требует некоторой сопряженности [элементов], без которой она была бы сугубой несвязностью: даже самая ожесточенная вражда есть еще взаимосвязь в большей степени, чем просто безразличие, а безразличие - больше, чем просто незнание друг о друге). Короче говоря, препятствующее противодействие, устранение которого как раз и означает жертву, часто (а с точки зрения элементарных процессов, даже всегда) является позитивной предпосылкой самой цели. Жертва отнюдь не относится к категории «не-должного», как это совершенно ложно пытаются внушить поверхностность и алчность. Жертва есть условие не только отдельных ценностей, более того, в рамках хозяйственной жизни, о которой здесь идет речь, она является условием ценности вообще; это не только цена, которую приходится платить за отдельные, уже фиксированные ценности, но и цена, благодаря которой они вообще появляются.
Обмен происходит в двух формах, которых я здесь коснусь лишь применительно к трудовой ценности. Поскольку имеется желание праздности или совершенно самодостаточной игры сил, или желание избежать чисто обременительных усилий, всякий труд*, бесспорно, является жертвованием. Однако, наряду с этими побуждениями, имеется еще некоторое количество скрытой трудовой энергии, с которым, как таковым, мы не знаем что делать, либо же оно обнаруживается благодаря влечению к добровольному, не вызываемому ни нуждой, ни этическими мотивами труду. На это количество рабочей силы, отдача которой не является в себе и для себя жертвованием, [притязают,] конкурируя между собой, многочисленные требования, для удовлетворения которых ее недостаточно. Итак, при всяком употреблении силы приходится жертвовать одним или несколькими возможными ее употреблениями. Если бы ту силу, посредством которой мы совершаем работу А, мы бы не могли использовать и для работы В, то первая не стоила бы нам никакой жертвы; но то же самое имеет силу и для работы В, в том случае, например, если бы мы совершили ее вместо работы А. Итак, с уменьшением эвдемонизма, отдается отнюдь не труд, но именно нетруд; в уплату за А мы не приносим в жертву труд, - потому что, как мы здесь предположили, это совсем нас не тяготит, - нет, мы отказываемся от В. Таким образом, жертва, которую мы отдаем в обмен при труде, во-первых, абсолютна, а во-вторых, относительна: страдание, которое мы принимаем, с одной стороны, непосредственно связано с трудом - когда труд для нас есть тягость и наказание; с другой же стороны, [это страдание] косвенно - в тех случаях, когда мы можем заполучить один объект, лишь отказавшись от другого, причем сам труд [оказывается] эвдемонистически иррелевантен или даже имеет позитивную ценность. Но тогда и те случаи, когда труд совершается с удовольствием, сводятся к форме самоотверженного обмена, всегда и повсюду характерного для хозяйства.
* В оригинале: «Arbeit». Переводится как «труд» или как «работа» в зависимости от контекста.
То, что предметы вступают в отношения хозяйства, имея определенного уровня ценность, поскольку каждый из двух объектов любой трансакции для одного контрагента означает прибыль, к которой тот стремится, а для другого - жертву, которую он приносит, - все это, видимо, имеет силу для сформировавшегося хозяйства, но не для основных процессов, которые только его и образуют. Кажется, будто есть логическая сложность, которая, правда, обнаруживается благодаря аналогии: две вещи могли бы иметь равную ценность, только если каждая из них сначала имела бы ценность сама по себе, подобно тому, как две линии могли бы быть равны по длине, только если бы каждая из них уже до сравнения имела определенную длину. Но если присмотреться внимательнее, то выяснится, что на самом деле длина у линии имеется только в момент сравнения. Ведь определение своей длины - потому что она же не просто «длинна» - линия не может получить от себя самой, но получает его только благодаря другой, относительно которой она себя мерит и которой она тем самым оказывает точно такую же услугу, хотя результат измерения зависит не от самого этого акта, но от каждой линии, существующей независимо от другой. Вспомним о категории, которая сделала для нас понятным объективное ценностное суждение, названное мною метафизическим: [речь шла о том, что] в отношении между нами и вещами появляется требование совершить определенное суждение, содержание которого, между тем, не заключено в самих вещах. Подобным же образом совершается и суждение относительно длины: от вещей исходит к нам как бы притязание осуществить некое содержание, но это содержание не предначертано самими вещами, а может быть реализовано лишь нашим внутренним актом. То, что длина вообще только и создается в процессе сравнения и, таким образом, заказана объекту как таковому, о которого она зависит, легко укрывается от нас только потому, что из отдельных относительных длин мы абстрагировали общее понятие длины - исключив при этом, таким образом, именно определенность, без которой не может быть никакой конкретной длины, - а теперь проецируем это понятие внутрь вещей, полагая, будто они должны были все-таки сначала вообще иметь длину, прежде чем она могла быть путем сравнения определена для единичного случая. Сюда еще добавляется, что из бесчисленных сравнений, образующих длину, выкристаллизовались прочные масштабы, через сравнение с которыми определяются длины всех отдельных пространственных образований, так что эти длины, будучи как бы воплощениями абстрактного понятия длины, кажутся уже не относительными, потому что все измеряется по ним, они же совсем не измеряются - заблуждение не меньшее, чем уверенность в том, что падающее яблоко притягивается землей, а она им - нет. Наконец, ложное представление о том, что отдельной линии самой по себе присуща длина, внушается потому, что для нас в отдельных частях линии уже имеется множество элементов, в отношениях которых состоит длина. Подумаем, что было бы, если бы во всем мире имелась бы только одна линия: она вообще не была бы «длинна», так как у нее отсутствовало бы соотношение с какой-либо другой, - потому-то и признается, что невозможно говорить об измерениях мира как целого, ибо вне мира нет ничего, в соотношении с чем он мог бы иметь некую величину. Но фактически так обстоит дело с каждой линией, покуда она рассматривается без сравнения с другими или без сравнения ее частей между собой: она ни коротка, ни длинна, но еще внеположна всей этой категории. Итак, эта аналогия, вместо того чтобы опровергнуть относительность хозяйственной ценности, только делает ее еще яснее.
Если нам приходится рассматривать хозяйство как особый случай всеобщей жизненной формы обмена, при которой отдают, чтобы получить, то уже с самого начала мы будем предполагать ситуации, когда и внутри него ценность полученного не бывает доставлена, так сказать, в готовом виде, но возрастает у вожделеемого объекта отчасти или даже всецело по мере для этого, как для [его получения] требуется жертва. Такие случаи, столь же частые, сколь и важные для учения о ценностях, таят в себе, правда, одно внутреннее противоречие: получается, что мы должны приносить в жертву ценность ради вещей, которые по себе ценности не имеют. Однако ведь разумным образом никто не отдает ценность, не получая за нее нечто по меньшей мере столь же ценное, а так, чтобы цель, наоборот, обретала свою ценность лишь благодаря цене, которую мы должны за нее отдать, может случаться лишь в извращенном мире. Это [рассуждение] правильно уже применительно к непосредственному сознанию, причем даже в большей мере, чем, с точки зрения этого популярного подхода, считается в других случаях. Фактически та ценность, которую субъект отдает за другую, при фактических сиюминутных обстоятельствах никогда не может для самого субъекта превышать ту, которую он на нее выменивает. И если кажется, что все обстоит наоборот, то это всегда происходит оттого, что действительно воспринимаемую субъектом ценность путают с той, которая присуща соответствующему предмету обмена согласно средней или представляющейся объективной оценке. Так, в крайней нужде некто отдает драгоценность за кусок хлеба, потому что последний при данных обстоятельствах важнее для него, чем первая. Но чтобы с некоторым объектом было связано некоторое чувство ценности всегда нужны определенные обстоятельства, потому что носителем каждого такого чувства является весь многочленный, находящийся в постоянном движении, приспособлении и преобразовании комплекс нашего чувствования; а уникальны ли эти обстоятельства или относительно постоянны, в принципиальном смысле явно безразлично. Отдавая драгоценность, голодный однозначно доказывает, что хлеб для него более ценен. Итак, нет сомнения, что в момент обмена, принесения жертвы, ценность выменянного предмета образует ту границу, выше которой не может подняться ценность отдаваемого предмета. И совершенно независимо от этого ставится вопрос, откуда же получает свою столь необходимую ценность тот первый объект, не из тех ли жертв, которые надо принести, чтобы получить его, так что эквивалентность полученного и его цены устанавливается как бы a posteriori и с точки зрения последней. Мы сейчас увидим, сколь часто ценность психологически возникает именно таким, кажущимся нелогичным, образом. Но если уж она однажды появилась, то, конечно, и по отношению к ней - не меньше, чем по отношению к ценности, конституированной любым другим образом, - психологически необходимо, чтобы она считалась позитивным благом, по меньшей мере, таким же большим, как и негативное, - приносимая ради нее жертва. В действительности уже поверхностному психологическому рассмотрению известен целый ряд случаев, когда жертва не просто повышает, но именно только и создает ценность цели. Прежде всего, в этом процессе находит выражение радость от доказательства своей силы, от преодоления трудностей, а часто и противодействия. Необходимость идти обходным путем для достижения определенных вещей часто является поводом, но часто - и причиной, чтобы почувствовать их ценность. Во взаимоотношениях людей, прежде всего и яснее всего в эротических, мы замечаем, как сдержанность, равнодушие или отказ возбуждают как раз самое страстное желание победить, несмотря на препятствия, и побуждают нас к усилиям и жертвам, которых эта цель, не будь такого противодействия, казалась бы, не заслуживает. Для многих людей эстетическое потребление альпийских восхождений не стоило бы внимания, если бы его ценой не были чрезвычайные усилия и опасности, которые только и придают ему важность, притягательную силу и достоинство. Очарование древностей и редкостей нередко заключено в том же; если с ними не связан никакой эстетический или исторический интерес, то заменой ему служит одна только трудность их получения: они настолько ценны, сколько они стоят, и только затем уже оказывается, что они стоят столько, насколько они ценны. Далее, нравственные заслуги всегда означают, что для совершения нравственно желательного деяния сначала было необходимо побороть противоположно направленные влечения и желания и пожертвовать ими. Если же оно совершается без какого бы то ни было преодоления, как само собой разумеющийся результат беспрепятственных импульсов, то сколь бы ни было объективно желательно его содержание, ему тем не менее не приписывается в том же смысле субъективная нравственная ценность. Напротив, только благодаря жертвованию низшими и все-таки столь искусительными благами достигается вершина нравственных заслуг, тем более высокая, чем соблазнительнее были искушения и чем глубже и обширнее было жертвование ими. Наивысший почет и наивысшую оценку получают такие дела людей, которые обнаруживают или, по крайней мере, кажется, что обнаруживают, максимум углубленности, затраты сил, постоянной концентрации всего существа, - а тем самым также и отречения, жертвования всем посторонним, отдачи субъективного объективной идее. А если несравненную привлекательность демонстрирует, напротив, эстетическая продукция и все легкое, приятное, источаемое самоочевидным влечением, то и эта особенность объясняется подспудным ощущением, что обычно-то аналогичный результат обусловлен тяготами и жертвами. Подвижность наших душевных содержаний и неисчерпаемая их способность вступать в комбинации часто приводит к тому, что важность некоторой связи переносится на прямую ее противоположность, так, примерно, как ассоциация двух представлений совершается и потому, что они согласуются между собой, и потому, что они друг другу противоречат. Полученное без преодоления трудностей и словно подарок счастливого случая мы воспринимаем как совершенно особенную ценность только благодаря тому, какое значение имеет для нас достигаемое с трудом, измеряемое жертвами - это та же самая ценность, но с обратным знаком, и первична именно она, а другая может быть только выведена из нее, но никак не наоборот.
Таковы, конечно, скорее, крайние или исключительные случаи. Но если мы хотим выявить их тип в широкой области хозяйственных ценностей, требуется, видимо, сначала отделить понятие хозяйственности как специфического различия, или формы, от ценностей как всеобщего, или их субстанции. Примем, что ценность есть нечто данное и теперь уже не подлежащее дискуссии, и тогда, после всего, что уже было сказано, не подлежит сомнению, по меньшей мере, то, что хозяйственная ценность как таковая присуща не изолированному предмету в его для-себя-бытии, а только затрате другого предмета, который отдается за первый. Дикорастущий плод, сорванный без труда, не отдаваемый в обмене и вкушаемый непосредственно, не есть хозяйственное благо; таковым он может считаться в лучшем случае лишь тогда, когда его потребление избавляет, скажем, от иных хозяйственных затрат; но если бы все требования жизни <Lebenshaltung> удовлетворялись таким образом, чтобы ни один момент не был связан с жертвой, то и люди уже не хозяйствовали бы, как птицы, рыбы или жители страны дураков. Каким бы способом ни стали ценностями оба объекта, А и В, но хозяйственной ценностью А становится лишь потому, что я должен отдать за него В, а В - лишь потому, что я могу получить за него А; причем, как уже сказано, принципиально все равно, совершается ли жертвование путем отдачи ценности другому человеку, то есть путем обмена между индивидами, или в пределах круга интересов самого индивида, путем подсчета усилий и результатов. В объектах хозяйства невозможно найти совершенно ничего, кроме того значения, которое каждый из них прямо или косвенно имеет для нашего потребления, и обмена, совершающегося между ними. А так как признается, что первого как такового еще недостаточно, чтобы сделать предмет хозяйственным, то последнее только и способно добавить к нему специфическое различие, которое мы называем хозяйственным. Однако это разделение между ценностью и ее хозяйственной формой движения искусственно. Если хозяйство поначалу представляется только формой в том смысле, что оно уже предполагает ценности как свои содержания, чтобы иметь возможность включить их в движение уравнивания жертвы и прибыли, то все-таки в действительности тот же самый процесс, который из ценностей как предпосылок образует хозяйство, можно обрисовать как производство самих ценностей следующим образом.
Хозяйственная форма ценности находится между двух границ: с одной стороны, вожделение объекта, которое подсоединяется к предвосхищаемому чувству удовлетворения от обладания и наслаждения им; с другой стороны, - само это наслаждение, которое, строго говоря, не есть хозяйственный акт. Ведь если согласиться с тем, о чем мы только что говорили (а это достаточно общепринятый взгляд), то есть что непосредственное потребление дикорастущих плодов не является хозяйственной деятельностью, а сами эти плоды, таким образом, не являются хозяйственной ценностью, то и потребление собственно хозяйственных ценностей тогда уже не является хозяйственным: ибо акт потребления в этом последнем случае абсолютно не отличается от акта потребления в первом случае: для того, кто ест плод, в акте еды и его прямых последствиях нет никакой разницы, случайно ли он нашел этот плод, вырастил сам или купил. Но предмет, как мы видели, -вообще еще не ценность, пока он, как непосредственный возбудитель чувств, еще непосредственно слит с субъективным процессом, составляя как бы самоочевидную компетенцию нашей чувственной способности. Он должен быть сначала отделен от нее, чтобы получить для нас то подлинное значение, которое мы называем ценностью. Дело не только в том, что в себе и для себя вожделение, конечно, вообще не могло бы выступать основанием какой бы то ни было ценности, если бы не наталкивалось на препятствия - ведь если бы всякое вожделение удовлетворялось без борьбы и без остатка, то не только никогда не возникло бы хозяйственного обращения ценностей, но и само вожделение при беспрепятственном удовлетворении никогда не достигало бы сколько-нибудь значительных высот. Только отсрочка удовлетворения из-за препятствий, опасения, что объект может ускользнуть, напряжение борьбы за [обладание] им, суммирует моменты вожделения: интенсивность воления и непрерывность обретения. Но если бы даже наивысшее по силе вожделение имело сугубо внутреннее происхождение, то и тогда, как это неоднократно подчеркивалось, за объектом, который его удовлетворяет, не признавалось бы никакой ценности, если бы он доставался нам без ограничений. Тогда для нас был бы важен, конечно, весь род [объектов], существование которого гарантирует нам удовлетворение наших желаний, а не то ограниченное количество, которым мы фактически обладаем, потому что его точно так же можно было бы без труда заменить другим, причем, однако, и вся эта совокупность осознавалась бы как ценная только при мысли о том, что ее могло бы не быть. Наше сознание в этом случае было бы просто наполнено ритмом субъективных вожделений и удовлетворений, не уделяя внимания посредствующему объекту. Сами по себе потребность и удовлетворение не содержат ни ценности, ни хозяйства. И то, и другое осуществляется одновременно только благодаря обмену между двумя субъектами, каждый из которых делает для другого условием чувства удовлетворения некоторый отказ, или благодаря аналогу [такого обмена] в солипсистском хозяйстве. Благодаря обмену, то есть хозяйству, одновременно возникают ценности хозяйства, потому что оно является носителем или создателем дистанции между субъектом и объектом, которая переводит субъективное состояние чувства в объективное оценивание. Я уже приводил выше слова Канта, суммировавшего свое учение о познании следующим образом: условия опыта суть одновременно условия предметов опыта, то есть процесс, который мы называем опытом, и представления, которые образуют его содержания или предметы, подлежат одним и тем же законам рассудка. Предметы могут входить в наш опыт, постигаться нами на опыте потому, что они суть наши представления, и та же самая сила, которая образует и определяет опыт, обнаруживается и в образовании предметов. И в том же самом смысле мы можем здесь сказать, что возможность хозяйства есть одновременно возможность предметов хозяйства. Именно процесс, происходящий между двумя собственниками объектов (субстанций, рабочей силы, прав, вообще всего, что только можно передать), который устанавливает среди них отношение «хозяйства», то есть [процесс] - взаимной - отдачи, в то же самое время возвышает каждый из этих объектов, относя его к категории ценности. Трудность, угрожавшая нам со стороны логики, а именно, что сначала ценности должны были бы существовать, существовать как ценности, прежде чем вступить в форму в хозяйства и его движение, теперь преодолена, благодаря уясняемому значению того психического отношения, которое мы назвали дистанцией между нами и вещами. Дистанция дифференцирует изначально субъективное состояние чувств на вожделеющий субъект, только антиципирующий чувства, и противостоящий ему объект, который теперь содержит в себе ценность, - тогда как дистанция создается в области хозяйства благодаря обмену, т. е. благодаря обоюдному установлению границ, препятствий, отказов. Таким образом, для производимых ценностей хозяйства, равно как и для хозяйственного характера <Wirtschaftlichkeit> ценностей свойственны одна и та же взаимность и относительность.
Обмен - это не сложение процесса отдачи и процесса принятия, но некое новое третье, которое возникает, поскольку каждый из них есть в одно и то же время и причина другого, и его результат. Благодаря этому ценность, которую сообщает объекту необходимость отказа, становится хозяйственной ценностью. Если, в общем, ценность возникает в интервале, который препятствия, отказы, жертвы устанавливают между волей и ее удовлетворением, то раз уж процесс обмена состоит в такой взаимообусловленности принятия и отдачи, то нет нужды в предшествующем процессе оценивания, который бы делал ценностью один только данный объект для одного только данного субъекта. Все что здесь необходимо, совершается ео ipso* в акте обмена. В эмпирическом хозяйстве вещи, вступающие в обмен, обычно уже снабжены, конечно, знаками ценности. Мы же здесь имеем в виду только внутренний, так сказать, систематический смысл понятия ценности и обмена, от которого в исторических явлениях остались лишь рудименты или идеальное значение, не та форма, в которой эти явления живут как реальные, но та, которую они обнаруживают в проекции на уровень объективно-логического, а не историке-генетического понимания.
* Само собой (лат.).
Перевод хозяйственного понятия ценности, имеющего характер изолированной субстанциальности, в живой процесс соотнесения, можно, далее, объяснить тем, что обычно рассматривается как конституирующие ценность моменты: нужностью и редкостью. Нужность здесь выступает как первое условие, заложенное в самой организации <Verfassung> хозяйственных субъектов, лишь при соблюдении которого объект вообще может иметь значение для хозяйства. А вот чтобы обрести конкретную высоту отдельной ценности, к нужности должна добавиться редкость как определенность самого ряда объектов. Если бы решили устанавливать хозяйственные ценности путем спроса и предложения, то спрос соответствовал бы нужности, а предложение - моменту редкости. Пригодность играла бы решающую роль при определении того, есть ли у нас вообще спрос на предмет, а редкость - в вопросе о том, с какой ценой предмета мы были бы вынуждены согласиться. Пригодность выступает как абсолютная составляющая хозяйственных ценностей, величина которой должна быть определена, чтобы с нею она и вступала в движение хозяйственного обмена. Правда, редкость с самого начала следует признать чисто негативным моментом, так как она означает исключительно то - количественное - отношение, в котором соответствующий объект находится с наличной совокупностью себе подобных, иначе говоря, [редкость] вообще не затрагивает качественную сущность объекта. Однако, нужность, как кажется, существует до всякого хозяйства, до сравнения, соотнесения с другими объектами и, будучи субстанциальным моментом хозяйства, делает зависимыми от себя его движения.
Но, прежде всего, указанное обстоятельство неправильно обозначать понятием нужности (или полезности). В действительности здесь имеется в виду вожделенноетъ объекта. Сколь бы ни был нужен предмет, само по себе это не может стать причиной хозяйственных операций с ним, если из его нужности не следует вожделенность. Так и получается. Любое представление о нужных нам вещах может сопровождать какое-нибудь «желание», однако подлинного вожделения, которое имеет хозяйственное значение и предваряет нашу практику, не возникает и по отношению к ним, если ему противодействуют продолжительная нужда, инертность конституции, уход к другим сферам интересов, равнодушие чувства по отношению к теоретически признанной пользе, очевидная невозможность [ее] достижения, а также другие позитивные и негативные моменты. С другой стороны, мы вожделеем и, следовательно, хозяйственно оцениваем многие вещи, которые невозможно обозначить как нужные или полезные, разве только произвольно расширяя словоупотребление. Но если допустить такое расширение и все хоз.яйственно вожделеемое подводить под понятие нужности, тогда логически необходимо (а иначе не все полезное будет также и вожделее-мо), чтобы решающим моментом хозяйственного движения считалась вожделенность объектов. Однако и этот момент, даже с такой поправкой, отнюдь не абсолютен и не избежал относительности оценивания. Во-первых, как мы уже видели, само вожделение не получает сознательной определенности, если между объектом и субъектом не помещаются препятствия, трудности, жертвы; мы подлинно вожделеем лишь тогда, когда мерой наслаждения предметом выступают промежуточные инстанции, когда, во всяком случае, цена терпения, отказа от других стремлений и наслаждений отодвигают от нас предмет на такую дистанцию, желание преодолеть которую и есть его вожделение. А во-вторых, хозяйственная ценность предмета, возникающая на основании его вожделенности, может рассматриваться как усиление или сублимация уже заложенной в вожделении относительности. Ибо практической, то есть вступающей в движение хозяйства ценностью вожделее-мый предмет становится лишь благодаря тому, что его вожделенность сравнивается с вожделенностью иного и только так вообще обретает некую меру. Только если есть второй объект, относительно которого мне ясно, что я хочу его отдать за первый или первый - за второй, можно указать на хозяйственную ценность обоих объектов. Изначально для практики точно так же не существует отдельной ценности, как для сознания изначально не существует единицы. Двойка, как это подчеркивали разные авторы, древнее единицы. Если палка разломана на куски, требуется слово для обозначения множества, целая - она просто «палка», и повод назвать ее «одной» появляется, только если дело уже идет о двух как-то соотнесенных палках. Так и вожделение объекта само по себе еще не ведет к тому, чтобы у него появилась хозяйственная ценность, - для этого здесь нет необходимой меры: только сравнение вожделений, иными словами, обмениваемость их объектов фиксирует каждый из них как определенную по своей величине, т. е. хозяйственную ценность. Если бы в нашем распоряжении не было категории равенства (одной из тех фундаментальных категорий, которые образуют из непосредственно [данных] фрагментов картину мира, но только постепенно становятся психологически реальными), то «нужность» и «редкость», как бы велики они ни были, не создали бы хозяйственного общения. То, что два объекта равно достойны вожделения или ценны, при отсутствии внешнего масштаба можно установить лишь таким образом, что в действительности или мысленно их обменивают друг на друга, не замечая разницы в (так сказать, абстрактном) ощущении ценности. Поначалу же, видимо, не обмениваемость указывала на равноценность как на некоторую объективную определенность самих вещей, но само равенство было не чем иным, как обозначением возможности обмена. В себе и для себя интенсивность вожделения еще не обязательно повышает хозяйственную ценность объекта. Ведь, поскольку ценность выражается только в обмене, то и вожделение может определять ее лишь постольку, поскольку оно модифицирует обмен. Даже если я очень сильно вожделею предмет, ценность, на которую его можно обменять, тем самым еще не определена. Потому что или у меня еще нет предмета - тогда мое вожделение, если я не выражаю его, не окажет никакого влияния на требования нынешнего владельца, напротив, он будет предъявлять их в меру своей собственной или некоторой средней заинтересованности в предмете; или же, [если] у меня самого есть предмет, мои требования будут либо столь завышены, что предмет окажется вообще исключен из процесса обмена, или мне придется их подстраивать под меру заинтересованности в этом предмете потенциального покупателя. Итак, решающее значение имеет следующее: хозяйственная, практически значимая ценность никогда не есть ценность вообще, но - по своей сущности и понятию - всегда есть определенное количество ценности; это количество вообще может стать реальным только благодаря измерению двух интенсивностей вожделения, служащих мерами друг для друга; форма, в которой это совершается в рамках хозяйства, есть форма обмена жертвы на прибыль; вожделенность предмета хозяйства, следовательно, не содержит в себе, как это кажется поверхностному взгляду, момента абсолютной ценности, но исключительно как фундамент или материал - действительного или мыслимого - обмена сообщает предмету некую ценность. Относительность ценности - вследствие которой данные вожделеемые вещи, возбуждающие чувство, только в процессе взаимной отдачи и взаимного обмена становятся ценностями - заставляет, как кажется, сделать вывод, что ценность есть не что иное, как цена, и что по величине между ними нет никаких различий, так что частыми расхождениями между ценой и ценностью теория якобы оказывается опровергнута. Однако, теория утверждает, что первоначально ни о какой ценности вообще не было бы речи, если бы не то всеобщее явление, которое мы называем ценой. То, что вещь чисто экономически чем-то ценна, означает, что она чем-то ценна для меня, т. е. что я готов что-то за нее отдать. Всю свою практическую эффективность ценность как таковая может обнаружить лишь настолько, насколько она эквивалентна другим, т. е. насколько она обмениваема. Эквивалентность и обмениваемость суть понятия взаимозаменимые, оба они выражают в разных в формах одно и то же положение дел, [одно -] как бы в состоянии покоя, а [другое -] в движении. Да и что же, скажите, вообще могло бы подвигнуть нас не только наивно-субъективно наслаждаться вещами, но еще и приписывать им ту специфическую значимость <Bedeutsamkeit>, которую мы называем их ценностью? Во всяком случае, это не может быть их редкость как таковая. Потому что если бы она существовала просто как факт и мы совершенно не могли бы ее модифицировать (а ведь это возможно, причем не только благодаря производительному труду, но и благодаря смене обладателя), то мы, пожалуй, примирились бы с тем, что это - естественная определенность внешнего космоса, пожалуй, даже не осознаваемая из-за отсутствия различий, которая не добавляет к содержательным качествам вещей никакой дополнительной важности. Эта важность появляется лишь тогда, когда за вещи приходится что-то платить: терпением ожидания, трудами поиска, затратами рабочей силы, отказом от чего-то другого, что тоже достойно вожделения. Итак, без цены (поначалу мы говорим о цене в этом более широком смысле) ни о какой ценности речи не идет. Весьма наивно это выражено в вере, бытующей на некоторых островах южных морей, будто если не заплатить врачу, то не подействует и предписанное им лечение. То, что из двух объектов один более ценен, чем другой, как внешне, так и внутренне выглядит таким образом, что субъект готов отдать второй за первый, но не наоборот. В практике, которая еще не стала сложной и многосоставной, большая или меньшая ценность может быть только следствием или выражением этой непосредственной воли к обмену. А если мы говорим, что обменяли одну вещь на другую, потому что они равноценны, то это тот нередкий случай, когда понятия, язык все выворачивают наизнанку и мы думаем, будто любим кого-то за то, что он обладает определенными качествами, - тогда как это мы сообщили ему эти качества только потому, что любим его; - или же мы выводим нравственные императивы из религиозных догм, тогда как в действительности мы в них верим именно потому, что они живут в нас.
Итак, по своей сущности, как она схватывается в понятии, цена совпадает с экономически объективной ценностью; без цены вообще не удалось бы отграничить эту последнюю от субъективного наслаждения предметом. Выражение же, что обмен предполагает равную ценность, неправильно именно с точки зрения субъектов-контрагентов. А и В хотят обменяться между собой предметами своего владения се и р, так как оба они равноценны. Однако у А не было бы повода отдавать свой а, если бы он действительно получал за него равную по величине ценность р. Р должен означать для него большее количество ценности, нежели то, которым он прежде обладал как а; а равным образом и В должен больше приобретать, чем терять при обмене, чтобы вступить в него. Итак, если для А р более ценен, чем а, а для В, напротив, - а более ценен, чем р, то, конечно, с точки зрения наблюдателя, объективно это уравнивается. Однако этого равенства ценности нет для контрагента, который больше получает, чем отдает. И если он все-таки убежден, что поступил с другим по праву и справедливости и выменял у него [нечто] равноценное, то применительно к А это следует выразить так: конечно, объективно он отдал В равное за равное, цена (а) эквивалентна предмету (Р), однако субъективно ценность р для него, конечно, больше, чем ценность а. Но чувство ценности, связывающее А с Р, есть само по себе некое единство, а в нем уже невозможно различить даже мельчайшей черточки, которая бы разделяла объективное количество ценности и его субъективное признание. Итак, исключительно тот факт, что объект обменивается, то есть является некой ценой и стоит некую цену, задает эту границу, определяет в пределах субъективного количества его ценности ту часть [объекта], которая вступает в общение как встречная ценность.
Другое наблюдение ничуть не менее поучительно. [Оно заключается в том,] что обмен отнюдь не обусловлен предшествующим представлением об объективной равноценности. Присмотримся к тому, как совершают обмен ребенок, человек импульсивный и (как по всему кажется) человек примитивный. Они что угодно отдадут за предмет, который страстно вожделеют именно в данный момент, даже если, по общему мнению, цена его слишком высока, да и сами они, спокойно поразмыслив, думают так же. Однако это не противоречит результату наших предшествующих рассуждений, что всякий обмен должен представляться выгодным для сознания субъекта именно потому, что субъективно такие действия в целом еще не имеют отношения к вопросу о равенстве или неравенстве объектов обмена. Как раз для рационализма, [подходящего к вопросу] столь непсихологически, кажется, между прочим, самоочевидным, будто каждый обмен предполагает, что уже взвешены все жертвы и прибыли, и в результате, по меньшей мере, одно было приравнено к другому. А к тому же еще [полагают, будто участник обмена] объективен по отношению к своему вожделению, что вовсе не характерно для душевных конституций, о которых только что шла речь. Неразвитый или пристрастный дух не отступает от своего интереса, обострившегося в данный момент, так далеко, чтобы затевать сравнение, он хочет в данный момент именно лишь одного и, отдавая другое, не считает поэтому, что умаляет желанное удовлетворение, то есть отдача не воспринимается как цена. Мне-то, напротив, в виду той бездумности, с какой ребячливые, неопытные, порывистые люди «любой ценой» заполучают то, что является предметом их сию-минутного вожделения, кажется вероятным, что суждение о тождестве является только результатом опыта и мно-жества перемен во владении, совершившихся без каких бы то ни было соображений, [взвешивающих жертвы и прибыли]. Совершенно одностороннее, полностью оккупирующее дух вожделение должно сначала успокоиться благодаря обладанию [предметом], чтобы [оно могло] вообще допустить другие объекты к сравнению с ним. Не вышколенный и необузданный дух, между тем, придает одно значение своим интересам в данный момент, и совершенно другое - всем остальным представлениям и оценкам. Поэтому он пускается на обмен прежде, нежели дело дойдет до суждений о ценности, т. е. об отношении между собой различных количеств вожделения. Не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что в случае развитого по-нятия ценности и достаточного самообладания суждение о равной ценности предшествует обмену. Вполне вероятно, что и здесь, как это нередко бывает, рациональное отношение развилось только из психологически противоположного отношения (также и в области души то рсут змЬт есть последнее, что цэуей* есть первое), а перемена владения, ставшая результатом чисто субъективных импульсов, только впоследствии демонстрирует нам относительную ценность вещей.
* [То] для нас [есть последнее, что] по природе [есть первое]. (Греч.). (См.: Аристотель. Физика. Кн. первая, Гл. первая: «...надо попытаться определить прежде всего то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе...». Пер. В. П. Карпова). - Указано Т. Ю. Бородай.
Если, таким образом, ценность является как бы эпигоном цены, то кажется тождественным положение, что величины обеих должны быть одинаковы. Я здесь имею в виду указанную выше постановку вопроса: в каждом индивидуальном случае ни один контрагент не платит цены, которая слишком высока для него в данных обстоятельствах. Если в стихотворении Шамиссо разбойник приставляет пистолет и вынуждает жертву продать ему часы и кольцо за три гроша, то при таких обстоятельствах для последнего (ибо только так он может спасти свою жизнь) полученное в обмен действительно стоит свою цену; никто не стал бы работать за нищенское жалованье, если бы в том положении, в котором он фактически находится, это жалованье не было бы для него все-таки предпочтительнее, чем отсутствие работы. Видимость парадокса в утверждении об эквивалентности ценности и цены в каждом индивидуальном случае возникает только потому, что в это утверждение привносятся определенные представления о другого рода эквивалентности ценности и цены. Сравнительная стабильность отношений, которыми определяется множество действий, ас другой стороны, - аналогии, которые также фиксируют еще колеблющееся отношение ценности соответственно норме уже существующих [отношений ценности], вызывают представление о том, что с определенным объектом сопряжен по своей ценности именно такой-то и такой-то иной объект как его обменный эквивалент, оба эти объекта или круга объектов обладают ценностью одинаковой величины, а если ненормальные обстоятельства заставляют нас обменивать этот объект на другие ценности, которые находятся выше или ниже этого уровня, то ценность и цена здесь расходятся, хотя в каждом отдельном случае, с учетом конкретных обстоятельств, они совпадают. Не следует только забывать, что объективная и справедливая эквивалентность ценности и цены, которую мы делаем нормой для фактически существующей и единичной эквивалентности, имеет силу тоже только при совершенно определенных исторических и правовых условиях, а с изменением их сразу же исчезает. Итак, между самой нормой и теми случаями, которые она характеризует как отклоняющиеся или адекватные, различие здесь не принципиальное <genereller>, а, так сказать, нумериче-ское - что-то вроде того, как об индивиде, стоящем необыкновенно высоко или [упавшем] необыкновенно низко говорят, что это, собственно, уже не человек, тогда как такое понятие человека есть лишь среднее, которое потеряло бы свой нормативный характер в тот момент, когда большинство людей либо поднялось столь же высоко, либо опустилось столь же низко, и тогда уже именно эта его конституция считалась бы единственно человеческой. Но чтобы понять это, требуется самым энергичным образом освободиться от укоренившихся и практически совершенно справедливых представлений о ценностях. Ведь при сколько-нибудь более развитых отношениях эти представления располагаются друг над другом двумя слоями: один [слой] образуют традиции общественного круга, основная часть опыта, кажущиеся чисто логическими требования; другой же [слой] составляют индивидуальные констелляции, то, что требуется в данное мгновение и к чему принуждает случайное окружение. В противоположность скорым переменам, происходящим на этом последнем уровне, медленная эволюция, совершающаяся на первом, и его образование через сублимацию второго оказывается скрытым от нашего восприятия, так что он кажется объективно <sachlich> оправданным, выражением некоторой объективной <objektiven> пропорции. Итак, если при обмене в данных обстоятельствах ощущения ценности жертвы и ценности прибыли, по меньшей мере, выступают как равные, - потому что иначе ни один субъект, который вообще производит сравнение, не стал бы этот обмен совершать, - но, с точки зрения указанных общих характеристик, между ними обнаруживаются различия, тогда говорят о разрыве между ценностью и ценой. Самым решительным образом это проявляется при наличии двух предпосылок, которые, впрочем, почти всегда образуют единое целое: во-первых, одно-единственное ценностное качество считается хозяйственной ценностью вообще, и два объекта, таким образом, лишь постольку считаются равно ценными, поскольку в них заложено равное количество <Quan-tum> этой фундаментальной ценности; а во-вторых, определенная пропорция между двумя ценностями выступает как должная, с акцентом не только на объективное, но и на моральное требование. Например, представление о том, что собственно ценностным моментом во всех ценностях является опредмеченное, общественно необходимое рабочее время, используется в обоих отношениях и задает, таким образом, масштаб (применимый прямо или косвенно), заставляя ценность, как маятник, колебаться по отношению к цене, с переменным интервалом отличаясь от нее в большую или меньшую сторону. Однако поначалу сам факт единого масштаба ценности совершенно оставляет в стороне [вопрос о том,] как же рабочая сила стала ценностью.
Вряд ли это произошло бы, если бы она, действуя на различные материалы и создавая различные продукты, не получила бы тем самым возможность обмена или если бы ее применение не было воспринято как жертва, которую приносят для получения результата. Также и рабочая сила лишь благодаря возможности и реальности обмена включается в категорию ценностей, невзирая на то, что затем она в рамках этой категории может задавать масштаб для других ее содержаний. Итак, пусть даже рабочая сила будет содержанием всякой ценности, форму ценности она получает лишь благодаря тому, что вступает в отношение жертвы и прибыли или цены и ценности (в узком смысле). Согласно этой теории получается, что в случае расхождения цены и ценности один контрагент отдает некое количество непосредственно опредмеченной рабочей силы за некоторое меньшее количество того же самого, причем с этим количеством таким образом сопряжены иные, не относящиеся ни к какой рабочей силе обстоятельства, что этот контрагент, тем не менее, совершает обмен, удовлетворяя, например, какую-то неотложную потребность, из любительского интереса, ради обмана, монополии и тому подобного. Итак, в более широком и субъективном смысле и здесь ценность эквивалентна другой ценности, тогда как единая норма рабочей силы, которая делает возможным их расхождение, все равно обязана генезисом своего ценностного характера обмену.
Качественная определенность объектов, которая субъективно означает их вожделенность, теперь уже больше не может претендовать на то, что именно она создает абсолютную величину их ценности: только осуществляемое в обмене отношение вожделений друг к другу делает предметы этих вожделений хозяйственными ценностями. Это определение непосредственно выступает на передний план в другом моменте ценности, который считается конститутивным для нее - в недостаточности или относительной редкости. Ведь обмен есть не что иное, как межиндивидная попытка улучшения скверных обстоятельств, возникающих из-за недостаточности благ, т. е. попытка по возможности уменьшить количество субъективных лишений путем распределения имеющихся запасов. Уже отсюда вытекает прежде всего общая соотнесенность между тем, что называют (это, впрочем, справедливо подвергается критике) ценностью редкости, и тем, что называют меновой ценностью. Однако здесь более важна обратная взаимосвязь. Выше я уже подчеркивал, что следствием недостаточности благ вряд ли было бы приписыванием им ценности <Wertung>, если бы мы не могли модифицировать эту недостаточность. А это возможно двумя способами: либо отдачей рабочей силы, объективно умножающей запас благ, либо отдачей уже имеющихся во владении объектов, потому что при смене владений для субъекта устраняется редкость того объекта, который он более всего вожделеет. Таким образом, можно поначалу, видимо, утверждать, что недостаточность благ сравнительно с ориентированным на них вожделением объективно обусловливает обмен, однако только обмен, в свою очередь, делает редкость одним из моментов ценности. Ошибочно во многих теориях ценности то, что они, беря полезность и редкость как данные, рассматривают экономическую ценность, т. е. движение обмена, как нечто само собой разумеющееся, как необходимо вытекающее из самих этих понятий следствие. Но здесь они совершенно не правы. Если бы, например, в ряду этих предпосылок находилось также аскетическое самоотречение или если бы они вызывали только борьбу и разбой (что часто и случается), то не возникло бы ни экономической ценности, ни экономической жизни.
Этнология учит нас, какими удивительно произвольными, изменчивыми, несоразмерными бывают понятия ценности в примитивных культурах, коль скоро речь идет о чем-то большем, нежели самых настоятельных повсе-днев-ных нуждах. Не вызывает сомнения, что причина этого (во всяком случае, таков один из взаимодействующих [моментов]) - в другом явлении: в отвращении первобытного человека к обмену. Основания такого отвращения назывались разные. Поскольку у примитивного человека отсутствует объективный и всеобщий масштаб ценностей, он всегда должен бояться, что при обмене его обманут; поскольку продукт труда всегда производится им самим для себя самого, он отчуждает от себя в обмене часть своей личности и дает власть над собой злым силам. Быть может, здесь же берет начало и отвращение естественного человека к труду. Здесь у него тоже нет надежного масштаба для обмена усилий на результат, он боится, что его обманет даже природа, объективность которой непредсказуема и ужасающа для него, пока он не зафиксирует также и свою деятельность на некоторой дистанции и не включит ее в категорию объективности. Итак, из-за того, что он погружен в субъективность своего отношения <Verhaltens> к предмету, обмен - как природный, так и межиндивидный, - который идет рука об руку с объективацией вещи и ее ценности, выступает для первобытного человека как нечто неподходящее. И действительно, кажется, будто первое осознание объекта как такового приносит с собой чувство страха, словно бы человек чувствует, что от его Я тем самым отрывается часть. А отсюда сразу же следует мифологическое и фетишистское толкование объекта, которое, с одной стороны, гипостазирует это чувство страха, сообщая объекту единственно возможную для первобытного человека понятность, а с другой, - ослабляет его, очеловечивая объект, ближе подводя его к примирению с субъективностью. Тем самым объясняются многие явления. Прежде всего то, что грабеж, субъективный и ненормированный захват того, чего только что захотелось, рассматривался как нечто само собой разумеющееся и почетное. Не только в гомеровскую эпоху, но и много позже морской разбой считался в отсталых областях Греции законным промыслом, а у многих примитивных народов насилие и разбой считаются даже делом более благородным, чем честная оплата. И это тоже совершенно понятно: при обмене и оплате подчиняются объективной норме, перед которой вынуждена отступить сильная и автономная личность, к чему она как раз часто не склонна. Отсюда же - презрение к торговле вообще со стороны весьма аристократических и своевольных натур. Но по той же причине обмен также поощряет мирные отношения между людьми, поскольку они признают в нем межсубъектную*, в равной мере стоящие над всеми ними объективность и нормирование.
* В оригинале: «intersubjektive». Перевод этого термина радикально испорчен традицией переложения феноменологических текстов. Во всяком случае, мы можем быть уверены, что Зиммель в 1900 г. далек от «интерсубъективности ».
Следует с самого начала предположить, что существует целый ряд опосредствующих явлений между чистой субъективностью смены владений, с чем мы имеем дело в случаях грабежа и дарения, и ее объективностью в форме обмена, когда вещи обмениваются в соответствии с равными количествами содержащихся в них ценностей. Сюда относится традиционная взаимность дарения. У многих народов имеется представление о том, что дар позволительно принять лишь тогда, когда возможно ответить на него встречным даром, так сказать, заслужить задним числом. А отсюда уже прямой путь к полноценному обмену, если он, как это часто бывает на Востоке, происходит таким образом, что продавец «дарит» объект покупателю - но горе тому, кто не сделает соответствующего «встречного дара». Сюда относится так называемая работа «всем миром» <Bitt-arbeit> которая встречается повсеместно: соседи или друзья собираются для взаимопомощи при выполнении неотложной работы, не получая за это жалованья. Однако, обычным делом при этом является, по меньшей мере, хорошенько угостить работников и, по возможности, устроить для них маленький праздник, так что, например, о сербах сообщают, что у них только состоятельные люди могли себе позволить собрать такое товарищество добровольных работников. Конечно, и сегодня на Востоке, а по большей части даже в Италии не существует понятия соразмерной цены, которое ограничивает и фиксирует субъективные предпочтения и покупателя, и продавца. Каждый продает настолько дорого и покупает настолько дешево, насколько это удается применительно к противоположной стороне, обмен есть исключительно субъективная акция, происходящая между двумя лицами и ее исход зависит только от хитрости, жадности, настойчивости сторон, но не от самой вещи и не от ее надындивидуально обоснованного отношения к цене. В том то и состоит гешефт, объяснял мне один римский антиквар, что продавец требует так много, а покупатель предлагает так мало, и постепенно они сближаются друг с другом, доходя до приемлемой позиции. Итак, здесь ясно видно, каким образом объективно соразмерное оказывается результатом встречного и соревновательного движения <Gegeneinander> субъектов - в целом, это вторжение дообменных отношений в обменное хозяйство, которое проникло уже повсюду, но еще не выявило всех своих последствий. Обмен уже тут, он уже представляет собой объективный процесс, происходящий между ценностями, но совершается он вполне субъективно, его модус и его количества связаны исключительно с взаимоотношением личных качеств. - В этом, видимо, состоит также и конечный мотив [существования] сакральных форм, закрепления в законе, гарантий со стороны общественности и традиции, которые сопутствуют торговому делу во всех ранних культурах. Все это позволяло достичь над-субъектности, необходимой по самой сути обмена, создать которую еще не умели посредством объективного соотнесения самих объектов. До тех пор, пока обмен, а также идея, что между вещами существует нечто вроде ценностного равенства, были еще чем-то новым, ни о каком согласии не было бы и речи, если бы достигать его приходилось всякий раз двум индивидам между собой. Поэтому повсеместно, вплоть до самого средневековья мы обнаруживаем, что обмен не просто совершается публично, но прежде всего, что существуют точные определения относительно обмениваемых количеств употребительных товаров и не подчиниться этим определениям, заключив приватное соглашение, не может ни одна пара контрагентов. Конечно, это - объективность механическая и внешняя, она опирается на мотивы и силы вне отдельного акта обмена. Соразмерная самой вещи <sachlich> объективность свободна от такого априорного закрепления и включает в расчеты всю совокупность особых обстоятельств, которыми насильственно овладевает эта форма. Однако намерения и принцип здесь те же самые: надсубъектное фиксирование ценности в обмене, которое только позже пошло более вещественным, более имманентным путем. Свободно и самостоятельно совершаемый индивидами обмен предполагает ценовую оценку <Taxiemng> в соответствии с масштабами, которые заложены в самой вещи, и потому на предшествующей стадии обмен должен быть содержательно фиксирован, а эта фиксация обмена должна быть социально гарантирована, потому что иначе у индивида не было бы никакой точки опоры для оценки <Schatzung> предметов. Видимо, благодаря тому же самому мотиву и примитивный труд повсеместно приобрел социально упорядоченную направленность и стал совершаться в соответствии с социальными правилами, также и здесь обнаруживая сущнос-тное тождество обмена и труда, точнее говоря, принадлежность последнего к первому как более высокому понятию. Впрочем, многообразные отношения между объективно значимым <Gultigen> - как в практическом, так и в теоретипеском аспекте - и его социальным значением <Bedeutung> и признанием часто исторически проявляются таким образом, что социальное взаимодействие, распространение, нормирование гарантируют индивиду то достоинство и ту прочность некоторого жизненного содержания, которые позже ему дают вещественное право и доказуемость этого содержания. Так, ребенок верит всему, [что ему говорят,] но не по внутренним основаниям, а поскольку доверяет [данным] людям; он верит не чему-то, а кому-то. Так и наши вкусы зависят от моды, т. е. от социального распространения некоторой деятельности и оценок, прежде чем, достаточно поздно, мы не научимся сами эстетически судить о вещах. Так индивид оказывается перед необходимостью превзойти себя самого, но одновременно обрести какую-то опору и поддержку вовне: в праве, в познании, в нравственности - как силе традиции; постепенно это поначалу необходимое нормирование, которое, правда, стоит над отдельным субъектом, но не субъектом вообще, превращается в нормирование, исходящее из знания вещей <Dinge>H постижения идеальных норм. То, что [находится] вне нас, [что] нужно нам для ориентации, принимает более доступную форму социальной всеобщности, пока не начинает выступать для нас как объективная определенность реальности и идей. Таким образом, в этом смысле, что характерно для всего развития культуры, обмен изначально является делом социального установления, пока индивиды в достаточной мере не ознакомятся с объектами и своими собственными оценками, чтобы от случая к случаю самостоятельно фиксировать норму обмена. Здесь напрашивается то возражение, что эти зафиксированные обществом и законами оценки цен <Preistaxen>, в соответствии с которыми обычно идет общение во всех полуразвитых культурах <Halbkulturen>, являются, возможно, всего лишь результатом многих предшествующих обменов, которые поначалу состоялись между индивидами в единичной и еще нефиксированной форме. Однако это возражение имеет здесь силу не больше, чем стародавние попытки объяснять возникновение языка, нравов, права, религии, короче говоря, всех основополагающих форм жизни, возникающих и господствующих в группе как целом, только тем, что их изобрели отдельные индивиды, хотя они, безусловно, с самого начала возникали как межиндивидные образования, как взаимодействие между отдельными и многими, так что приписать их происхождение нельзя ни одному индивиду как таковому. Я считаю вполне возможным, что предшественником социально фиксированного обмена явился не индивидуальный обмен, а некий род смены владений, который вообще не был обменом, например, грабеж. Тогда межиндивидный обмен был бы не чем иным, как мирным договором, а возникновение обмена было бы также и возникновением фиксированного обмена. Как аналогию этому можно было бы рассматривать похищение женщин в примитивных обществах, предшествовавшее экзогамному мирному договору с соседями, который служит основой для покупки женщин и обмена ими и регулирует этот процесс. Вводимая тем самым принципиально новая форма супружества сразу же устанавливается так, чтобы фиксировать ее предрешенность для индивида. Нет никакой нужды в том, чтобы [такому супружеству] предшествовали свободные специальные договоры того же рода между отдельными людьми, поскольку тип супружества и социальное регулирование даны одновременно. Считать, что всякое социально регулируемое отношение исторически развилось из тождественной по содержанию, но только индивидуальной, социально не отрегулированной формы, - это предрассудок. Такому отношению предшествовало, скорее, то же самое содержание, но в совершенно иной по своему роду форме отношения. Обмен выходит за субъективные формы присвоения чужого владения - грабеж и дарение, - в полном соответствии с тем, что подарки вождю и налагаемые им денежные штрафы являются предшественниками налогов, - и на этом пути у него обнаруживается первая надсубъектная возможность социального регулирования, которая только и подготавливает объективность в смысле вещности; только вместе с этим общественным нормированием в свободную смену владений врастает та объективность, которая составляет сущность обмена.
Результат всего этого таков: обмен есть социологическое образование sui generis, изначальная форма и функция межиндивидной жизни, которая отнюдь не вытекает как логическое следствие из тех качественных и количественных свойств вещей, которые называются их полезностью и редкостью. Как раз наоборот: и полезность, и редкость обнаруживают свое значение для образования ценности только в тех случаях, когда предпосылкой является обмен. Если по каким-либо причинам обмен, жертвование в целях получения прибыли, прекращается, то никакая редкость вожделенного объекта не может сделать его хозяйственной ценностью, пока такое отношение не станет вновь возможным. - Значение предмета для субъекта заключено всегда только в его вожделенности; в том, что он может нам дать, решающую роль играет его качественная определенность, а если мы его имеем, то в позитивном отношении к нему совершенно неважно, существуют ли еще другие экземпляры того же рода, будь то в большем или меньшем количестве, или их вообще нет. (Я не рассматриваю здесь по отдельности те случаи, когда сама редкость вновь становится родом качественной определенности, делающей предмет для нас достойным вожделения, подобно тому, как это происходит со старым почтовыми марками, диковинами, древностями, которые не имеют эстетической или исторической ценности, и т. п.). Впрочем, ощущение различия, которое необходимо для наслаждения в узком смысле слова, может быть повсеместно обусловлено редкостью объекта, т. е. тем, что наслаждаются им как раз не везде и не всегда. Однако это внутреннее психологическое условие наслаждения не становится практическим уже потому, что должно было бы повлечь за собой не преодоление, а консервацию и даже усиление редкости, чего, как показывает опыт, не происходит. Практически помимо прямого, зависящего от качества вещей наслаждения, речь может идти только о пути к получению такового. Коль скоро этот путь долог и труден, если требуется приносить жертвы, затрачивать терпение, испытывать разочарования, вкладывать труд, переносить неудобства, идти на отречения и т. д., то этот предмет мы называем «редким» . Непосредственно это можно выразить так: вещи труднодостижимы не потому, что они редки, напротив, они редки потому, что труднодостижимы. Сам по себе тот жесткий внешний факт, что запас определенных благ слишком мал, дабы удовлетворить все наши вожделения, направленные на них, не имел бы никакого значения. Есть много объективно редких вещей, которые не редки в хозяйственном смысле; а для хозяйственной редкости решающим обстоятельством является то, в какой мере для ее получения ее через обмен нужны силы, терпение, самоотдача - те жертвы, которые, конечно, предполагают вож-деленность объекта. Трудности с получением [вещи], т. е. величина приносимой в обмене жертвы есть подлинно конститутивный момент ценности, а редкость - лишь внешнее его проявление, лишь объективация в форме количества. Часто не замечают, что редкость как таковая является все-таки лишь негативным определением, сущим, характеризуемым через несущее. Однако несущее не может быть действенным, всякое позитивное следствие должно исходить от позитивного определения и силы, а это негативное [определение] есть как бы только тень позитивного. Но этими конкретными силами очевидно являются лишь те, которые вложены в обмен. Только нельзя полагать, будто характер конкретности принижается от того, что здесь он не связан с индивидом* как таковым. [Господствующая] среди вещей относительность занимает уникальное положение: она выходит за пределы индивида, существует <subsistiert> только в множестве как таковом и все-таки не является всего лишь понятийным обобщением и абстракцией.
В этом тоже выражается глубинная связь относительности с обобществлением, самым непосредственным образом делающая относительность наглядной на материале человечества: общество есть надъединичное, но не абстрактное образование. Благодаря обществу историческая жизнь оказывается избавленной от альтернативы: либо совершаться в одних лишь в индивидах <Individuen>, либо протекать в абстрактных всеобщностях; оно есть то всеобщее, которое одновременно имеет конкретную жизненность. Отсюда - и уникальное значение обмена для общества как хозяйственно-исторического осуществления относительности вещей: он выводит отдельную вещь <Ding> и ее значение для отдельного человека из ее единичности, но не в сферу всеобщего, а в живое взаимодействие, являющееся как бы телом хозяйственной ценности. Как бы точно ни были исследованы сущие сами по себе определения предмета, обнаружить хозяйственную ценность тем самым не удастся, так как она состоит исключительно во взаимоотношении, возникающем между многими предметами на основе этих определений, [причем] каждый предмет обусловливает другой и возвращает ему то значение, которое от него получает.
* В оригинале: «Einzelwesen» (буквально: «отдельная сущность»), что может означать и отдельную вещь, и человека как индивида.
Роберт Парк ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
I. ТКАНЬ ЖИЗНИ
Натуралисты прошлого века были чрезвычайно заинтригованы своими наблюдениями взаимосвязей и взаимосоответствий в царстве живой природы - многочисленностью и разнообразием повсюду распространившихся видов. Их последователи - сегодняшние ботаники и зоологи - обратили свое внимание к более специфичным исследованиям, и «царство природы», как и понятие эволюции, стало для них чем-то далеким и умозрительным.
«Ткань жизни», в которой все живые организмы (растения и животные) связаны воедино в обширной системе взаимозависимых жизней, все же является, по выражению Артура Томпсона, «одним из фундаментальных биологических понятий» и «столь же характерно дарвиновским, как и борьба за существование»*.
Знаменитый пример Дарвина с кошками и клевером - классическая иллюстрация этой взаимозависимости. Он обнаружил, как он говорит, что шмели просто необходимы для опыления анютиных глазок, так как другие пчелы не посещают этот цветок. То же самое происходит и с некоторыми видами клевера. Только шмели садятся на красный клевер; другие пчелы не могут добраться до его нектара. Вывод заключается в том, что если шмели станут редки или вообще исчезнут в Англии, редкими станут или же вовсе исчезнут и анютины глазки и красный клевер. Однако, численность шмелей в каждом отдельном районе в большой степени зависит от численности полевых мышей, которые разоряют их норы и гнезда. Подсчитано, что более двух третей из них таким образом уже разрушено по всей Англии. Гнезд шмелей гораздо больше возле деревень и малых городов, чем в других местах, и это благодаря кошкам, которые уничтожают мышей**. Таким образом, будущий урожай красного клевера в некоторых частях Англии зависит от численности шмелей в этих районах; численность шмелей зависит от количества полевых мышей, численность мышей - от числа и проворности кошек, а количество кошек, как кто-то добавил, - от числа старых дев, проживающих в окрестных деревнях, которые и держат кошек.
Эти длинные цепочки пищи, как их называют, каждое звено в которых поедает другое, имеют своим прототипом детское стихотворение «Дом, который построил Джек». Помните:
А это корова безрогая, Лягнувшая старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота. Который пугает и ловит синицу. Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится, В доме, Который построил Джек***.
*J. Arthur Thompson. The System of Animate Nature (Gifford Lectures, 1915-16), II (New York, 1920), 58.
** J. Arthur Thompson. Darvinism and Human Life. New York 1911 P. 52-53.
*** Перевод С. Маршака. (Прим, перев.).
Дарвина и его современников-натуралистов особенно интересовали наблюдения и описания подобных любопытных иллюстраций взаимной адаптации, взаимосвязи растений и животных, поскольку это, как им представлялось, проливает свет на происхождение видов. И виды, и их взаимозависимость в едином обиталище являются, по всей видимости, результатом все той же дарвиновской борьбы за существование.
Примечательно, что именно приложение к органической жизни социологического принципа, а именно - принципа «соревновательной кооперации» - дало Дарвину.первую возможность сформулировать его эволюционную теорию.
«Он перенес на органическую жизнь, - пишет Томпсон, - социологическую идею» и «тем самым доказал уместность и полезность социологических идей в области биологии»*.
* Ibid., P. 72.
Действующим принципом упорядочивания и регулирования жизни в царстве живой природы является, по Дарвину, «борьба за существование». С ее помощью регулируется жизнь многих организмов, контролируется их распределение и поддерживается равновесие в природе. Наконец, при помощи этой изначальной формы конкуренции существующие виды, те, кто выжил в этой борьбе, находят свои ниши в физической окружающей среде и в существующей взаимозависимости, или разделении труда между различными видами. Дж. Артур Томпсон приводит впечатляющее подтверждение тому в своей «Системе живой природы»:
«Множества живых организмов - ...не изолированные создания, ибо каждая жизнь переплетена с другими в сложной ткани... Цветы и насекомые пригнаны друг к другу, как рука к перчатке. Кошки так же имеют отношение к чуме в Индии, как и к урожаю клевера здесь... Так же, как взаимосвязаны органы тела, взаимосвязаны и организмы в мире жизни. Когда мы что-нибудь узнаем о подспудном обмене, спросе и предложении, действии и реакции между растениями и животными, цветами и насекомыми, травоядными и плотоядными, между другими конфликтующими, но взаимосвязанными интересами, мы начинаем проникать в обширную саморегулирующуюся организацию».
Эги проявления живого, изменяющегося, но устойчивого порядка среди конкурирующх организмов - организмов, воплощающих в себе «конфликтующие, но взаимосвязанные интересы» - являются, по всей видимости, основой для понятия социального порядка, относящегося к отдельным видам, и к обществу, покоящемуся, скорее, на биотическом, нежели культурном основании; это понятие позднее было разработано экологами применительно к растениям и животным.
В последние годы географы растений первыми возродили свойственный предшествующим естествоиспытателям определенный интерес к взаимосвязям видов. Геккель в 1878 году первым назвал такого рода исследования «экологией» и, тем самым, придал им характер отдельной самостоятельной науки, науки, которую Томпсон описывает как «новую естественную историю»*. Взаимосвязь и взаимозависимость видов, естественно, более очевидны и более тесны в привычном окружении, чем где бы то ни было еще. Более того, по мере увеличения числа взаимосвязей и уменьшения конкуренции в последовательности взаимных адаптации конкурирующих видов, окружающая среда и ее обитатели стремились принять характер более или менее совершенно закрытой системы.
В пределах этой системы индивидуальные единицы популяции вовлечены в процесс соревновательной кооперации, которая придает их взаимосвязям характер естественной экономии. Такого рода среду и ее обитателей - растения ли, животных или человека - экологи называют «сообществом».
Существенными характеристиками интерпретируемого таким образом сообщества являются: 1) популяция, территориально организованная, 2) более или менее полностью укорененная на земле, которую она занимает, 3) причем ее индивидуальные единицы живут в состоянии взаимозависимости, которая более симбиотична, нежели социеталь-на в том смысле, в каком этот термин применим к людям.
Эти симбиотические сообщества - не просто неорганизованные собрания растений и животных, которые по случайности сосуществуют в одной среде. Напротив, они взаимосвязаны самым замысловатым образом. У каждого сообщества есть что-то от органического образования. Оно обладает более или менее определенной структурой и «историей жизни, в которой прослеживаются периоды юности, зрелости и старости»**. Если это организм, то он - один из органов, какими являются и другие организмы. Это, выражаясь словами Спенсера, - суперорганизм.
* «Экология», - пишет Элтон, - соответствует ранее употреблявшимся терминам «естественная история» и «биономика», однако ее методы теперь более тщательны и точны». См. статью «Ecology» // Encyclopaedia Вгиапгаса (14th ed.)
** Edward J. Salisbury. Plants// Encyclopaedia Britannica (14th ed.).
Более чем что бы то ни было придает симбиотическому сообществу характер организма тот факт, что оно обладает механизмом (конкуренцией) для того, чтобы 1) регулировать свою численность и 2) сохранять равновесие между составляющими его конкурирующими видами. Именно благодаря поддержанию этого биотического равновесия сообщество сохраняет свою тождественность и целостность как индивидуальное образование и переживает все изменения и чередования, которым оно подвержено в процессе движения от ранних к поздним стадиям своего существования.
II. РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ
Равновесие в природе, как его понимают экологи животных и растений, во многом является вопросом численности. Когда давление популяции на природные ресурсы среды обитания достигает определенной степени интенсивности, неизбежно что-то должно произойти. В одном случае популяция может схлынуть и ослабить давление, мигрируя в другое место. В другом случае, когда нарушение равновесия между популяцией и природными ресурсами является результатом некоторого внезапного или постепенного изменения в условиях жизни, существовавшие до него отношения между видами могут быть полностью нарушены.
Причиной изменения может быть голод, эпидемия, вторжение в среду обитания чуждых видов. Результатом такого вторжения может быть резкое увеличение численности вторгшейся популяции и внезапное уменьшение численности изначально обитавшей в этой среде популяции, если не полное ее исчезновение. Определенного рода изменение является продолжительным, хотя иногда и варьирует существенно по времени и скорости. Чарльз Элтон пишет:
«Впечатление, возникающее у любого исследователя популяций диких животных, таково, что «равновесие в природе» вряд ли существует, разве что - в головах ученых. Кажется, что численность животных всегда стремится достичь слаженного и гармоничного состояния, но всегда что-нибудь случается и препятствует достижению этого счастья»*.
* «Animal Ecology», Ibid.
В обычных условиях эти малозначительные отклонения от биотического баланса опосредуются и поглощаются, не нарушая существующего равновесия и обыденности жизни. Но когда происходят внезапные и катастрофические изменения - война ли, голод или мор, - тогда нарушается биотический баланс, вдребезги разбиваются все традиции, и высвобождаются силы, доселе подконтрольные. Тогда могут последовать многие внезапные и даже губительные изменения, которые глубоко преобразуют существующую организацию коммунальной жизни и зададут другое направление развитию дальнейших событий.
Так, появление коробочного долгоносика на южных хлопковых плантациях - случай незначительный, но прекрасно иллюстрирующий принцип. Коробочный долгоносик пересек Рио Гранде в районе Браунсвилля летом 1892 года. К 1894 году он распространился уже на десяток графств в Техасе, поражая хлопковые коробочки и нанося огромный ущерб плантаторам. Его распространение продолжалось каждый сезон вплоть до 1928 года, когда он поразил практически все хлопкопроизводящие области Соединенных Штатов. Это распространение приняло форму территориальной сукцессии. Последствия для сельского хозяйства были катастрофическими, но не бывает худа без добра - это нашествие послужило толчком для начала уже давно назревших преобразований в организации производства хлопка. Оно также способствовало и переселению на север негритянских фермеров-арендаторов.
Случай с коробочным долгоносиком типичен. В нашем подвижном современном мире, где пространство и время сведены на нет, не только люди, но и все низшие организмы (включая микробы), кажется, как никогда, находятся в движении. Торговля, поступательно разрушая замкнутость, на которой основывался древний порядок в природе, усилила борьбу за существование и расширила арену этой борьбы в обитаемом мире. В результате этой борьбы появляется новое равновесие и новая система живой природы, новое биотическое основание для нового мирового общества.
Как отмечает Элтон, именно «колебания численности» и происходящие время от времени «сбои в механизме регуляции прироста численности животных» как правило прерывают установленный порядок вещей и, тем самым, начинают новый цикл изменений. По поводу этих колебаний численности Элтон пишет:
«Эти сбои в механизме регуляции прироста численности животных - обусловлены ли они (1) внутренними изменениями, вроде внезапно зазвонившего будильника или взорвавшегося парового котла, или же какими-либо факторами внешней среды - растительностью или чем-то в этом роде?»*.
* Ibid.
и добавляет:
«Оказывается, что эти сбои происходят и из-за внутренних, и из-за внешних факторов, но последние являются более существенными и обычно играют решающую роль».
Условия, воздействующие на передвижения и численность популяций и контролирующие их, в человеческих обществах более сложны, чем в растительных и животных сообществах, но обнаруживают и поразительные сходства с последними.
Коробочный долгоносик, перемещающийся из своей давным-давно обжитой среды на Мексиканское нагорье и на девственную территорию южных хлопковых плантаций и увеличивающий численность своей популяции соответственно новым территориям и их ресурсам, не так уж отличается от буров из Южноафриканской Капской провинции, прокладывающих себе путь на вельды (пастбища) Южноафриканского нагорья и заселяющих ее своими потомками в течение каких-нибудь ста лет.
Конкуренция в человеческом (как и в растительном или животном) сообществе стремится привести его к равновесию, восстановить его, когда в результате вторжения внешних факторов или в ходе обычной жизни сообщества это равновесие нарушается.
Таким образом, любой кризис, дающий начало периоду быстрых перемен и усиления конкуренции, в конце концов переходит в фазу более или менее стабильного равновесия и нового разделения труда. Таким способом конкуренция создает условие, при котором ее сменяет кооперация. Только когда конкуренция ослабевает (и только в той степени, в какой она ослабевает), можно говорить о существовании того типа порядка, который мы называем обществом. Короче говоря, с экологической точки зрения общество, постольку, поскольку оно является территориальным образованием, является просто областью, в которой биотическая конкуренция уменьшилась и борьба за существование приняла высшие, более сублимированные формы.
III. КОНКУРЕНЦИЯ, ГОСПОДСТВО Я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Существуют и другие, менее очевидные способы, посредством которых конкуренция контролирует отношения индивидов и видов в коммунальной среде. Два экологических принципа - господство и последовательность, - стремящиеся к установлению и поддержанию такого коммунального порядка, являются функциями конкуренции и зависят от нее.
В каждом сообществе живых организмов всегда есть один (или более) господствующий вид. В растительном сообществе такое господство - результат борьбы различных видов за солнечный свет. В климате, благоприятствующем росту леса, господствующим видом, безусловно, будут деревья. В степях и прериях господствующими будут травы.
«В сообществе растений, где солнечный свет является основной потребностью, господствующим будет самое высокое из всех растений, которое сможет вытянуть свои энергетические ловушки поверх голов других. Второстепенное использование может заключаться в использовании тусклого света под сенью более высоких крон. Нечто похожее происходит в любом сообществе живых организмов на земле, в поле, как и в лесу, есть уровни растительности, адаптировавшиеся к существованию с менее интенсивным освещением, чем растения, стоящие на уровень выше. Как правило существует два или три таких уровня; в дубровнике, например, есть уровень мха, над ним - травы, и низкий кустарник, а затем - ничего, до самых крон; на пшеничном поле господствующей формой будет пшеница, а ниже, между ее стеблей, - сорняки. А в тропических лесах все пространство от пола до крыши поделено на зоны и населено»*.
* Н. G. Wells, Julian S. Huxley, and G. P. Wells. The Science of Life. New York, 1934. P. 968-969.
Но принцип господства действует в человеческих сообществах так же, как и в сообществах растений и животных. Так называемые естественные или функциональные области городского сообщества - например, трущоба, район доходных домов, центральные торговые ряды и центральный район банков - каждый из этих районов обязан своим существованием непосредственно фактору господства, и опосредованно - конкуренции.
Борьба производственных и коммерческих институтов за стратегическое местоположение определяет в перспективе и основные очертания городского сообщества. Распределение населения, равно, как и местоположение и границы занимаемых им областей расселения, определяются другой, схожей, но подчиненной системой сил.
Господствующим районом в любом сообществе является, как правило, тот, где самые высокие цены на землю. В любом большом городе есть обычно два таких положения с самыми высокими ценами на землю - это центральный торговый район и центральный район банков. Начиная с этих позиций цены на землю снижаются, сначала резко, а затем - постепенно, по мере приближения к периферии городского сообщества. Именно эти цены на землю определяют местоположение социальных институтов и деловых предприятий. И те, и другие взаимосвязаны в едином своеобразном территориальном комплексе, внутри которого они являются одновременно и конкурирующими, и взаимозависимыми образованиями.
По мере расширения городского сообщества в сторону пригородов давление профессиональных сообществ, деловых предприятий и разного рода социальных институтов, призванных обслуживать весь метрополитенский регион, постепенно усиливает их потребность пространства именно в центре. Таким образом, не только увеличение пригородной зоны, но и любое изменение в способах передвижения, делающее деловой центр города более доступным, увеличивает давление на центр. Отсюда это давление передается и распространяется, как показывает профиль цен на землю, на все остальные части города.
Тем самым принцип доминирования, действующий в границах, обусловленных территорией и другими естественными характеристиками местоположения, в целом определяет и общий социологический тип города и функциональное отношение различных частей города между собой.
Более того, доминирование, поскольку оно стремится стабилизировать биотическое или культурное сообщество, косвенным образом отвечает и за феномен наследственности.
Термин «наследственность» экологи используют для описания и обозначения той упорядоченной последовательности изменений, через которою проходит биотическое сообщество в своем развитии от начальной и сравнительно нестабильной к относительно устойчивой стадии или к высшей стадии. Суть в том, что не только отдельные растения или животные растут в среде сообщества, но и само сообщество - система отношений между видами - как бы вовлечено в упорядоченный процесс изменения и развития.
Тот факт, что в ходе этого развития сообщество проходит через целый ряд более или менее определенных стадий, придает этому развитию циклический характер, как раз и предполагаемый понятием «наследственность».
Объяснением цикличности изменений, составляющих наследственность, может служить тот факт, что на каждой стадии этого процесса достигается более или менее устойчивое равновесие, которое образуется в ходе последовательных изменений в условиях жизни и как результат этих изменений, а равновесие, достигнутое на ранних стадиях тем самым нарушается. В этом случае силы, доселе сдерживаемые равновесием, высвобождаются, конкуренция усиливается, изменение происходит относительно быстро до тех пор, пока не установится новое равновесие.
Наивысшая стадия развития сообщества соответствует поре зрелости в жизни индивида.
«В развивающемся отдельно взятом организме каждая стадия развития самореализуется и дает начало новой стадии: так, головастик отращивает щитовидную железу, которая предназначена для того, чтобы перейти из состояния головастика к состоянию лягушонка. То же самое происходит и в развивающемся сообществе организмов - каждая стадия изменяет свою среду обитания, поскольку изменяет и почти необратимо обогащает почву своего произрастания, тем самым фактически приближаясь к собственному завершению, и создает возможность для новых видов растений с большими потребностями в минеральных солях или каких-либо других свойствах почвы для своего процветания на ней. Соответственно, большие и более прихотливые растения постепенно вытесняют предшествующих им первопроходцев до тех пор, пока, наконец, не установится равновесие - предельная возможность для данного климата.»*
* Ibid., pp. 977-78.
Культурное сообщество развивается сходным с биотическим сообществом образом, однако, несколько сложнее. Изобретения, равно как и внезапные катастрофические изменения, видимо, имеют более важное значение для появления циклических изменений в культурном соообществе, нежели в биотическом. Но сам принцип появления изменений в сущности тот же. Во всяком случае, все, или большинство наиболее существенных процессов функционально связаны с конкуренцией и зависят от нее.
Конкуренция, которая на биотическом уровне функционирует в целях контроля и регулирования отношений между организмами, на социальном уровне стремится принять форму конфликта. На тесную связь между конкуренцией и конфликтом указывает тот факт, что война зачастую, если не всегда, имеет, или предполагает, своим источником экономическую конкуренцию, которая в этом случае принимает более сублимированную форму борьбы за власть и престиж. Социальная функция войны, с другой стороны, судя по всему, расширяет сферу, в пределах которой возможно сохранение мира.
IV. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Если, с одной стороны, давление населения дополняется изменениями локальной и более широкой среды так, что в одночасье нарушается биотический баланс и социальное равновесие, это, в то же время, усиливает и конкуренцию. А это косвенным образом приводит к новому, более сложному и одновременно территориально более экстенсивному разделению труда.
Под влиянием усилившейся конкуренции и увеличившейся активности, предполагаемой этой конкуренцией, все индивиды и все виды, каждый по-своему, стремятся найти свою особую нишу в физической и жилой среде, где он сможет выжить и процветать в наибольшей степени, соответствующей его неизбежой зависимости от своих соседей.
Именно так устанавливается и поддерживается территориальная организация и биологическое разделение труда в среде сообщества. Это объясняет, хотя бы отчасти, тот факт, что биотическое сообщество одно время воспринималось как нечто вроде сверхорганизма, а затем и как экономическая организация для эксплуатации природных ресурсов своей среды обитания.
X. Дж. Уэллс со своими сотрудниками Джулианом Хаксли и Дж. П. Уэллсом в интересном обзоре под названием «Наука жизни» описывают экологию как «биологическую экономику», которая занимается в большей мере «балансами и взаимным давлением друг на друга видов, обитающих в одной среде»*.
* Ibid.
«Экология, - пишут они, - это распространение экономики на все живое». С другой стороны, наука экономики в традиционном смысле, несмотря на то, что она на целое столетие старше экологии, является просто отраслью более общей науки экологии, которая включает человека вместе со всеми живыми существами. В известном смысле то, что традиционно описывалось как экономика и строго привязывалось к деятельности человека, можно вполне описать и как экологию человека, как несколько лет назад Бэрроуз описал географию. Именно в этом смысле и используют этот термин Уэллс и его соавторы.
«Наука экономики - сначала ее называли политической экономией - на столетие старше экологии. Она была и остается наукой о социальном жизнеобеспечении, о потребностях и их удовлетворении, о труде и богатстве. Она стремится прояснить отношения производителя, торговца, потребителя в человеческом сообществе и показать, как держится вся система. Экология расширяет это исследование до всеобщего изучения отдачи и получения, усилия, накопления и потребления во всех уголках жизни. Экономика, поэтому, есть лишь экология человека, это узкое и специальное изучение в рамках экологии весьма своеобразного сообщества, в котором мы живем. Она могла бы, стать лучшей и более ясной наукой, если бы она начиналась с биологических основ»*.
* Н. Н. Barrows. Geography as Human Ecology // Annals Association American Geographers, 13 (1923): 1-14. See H. G. Wells, et al., pp. 961 - 962.
Поскольку экология человека не может быть одновременно и географией, и экономикой, можно принять в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что она не является ни тем, ни другим, но представляет собой нечто независимое от обеих. Но и тогда причины отождествления экологии с географией, с одной сторны, и с экономикой - с другой, достаточно очевидны.
С точки зрения географии растение, животное и популяция людей вместе с ее обиталищем и другими свидетельствами человеческого пребывания на земле являются лишь частью ландшафта, к детальному описанию и представлению которого и стремится географ.
С другой стороны, экология (биологическая экономика), даже когда она включает в себя некую неосознанную кооперацию и естественное, спонтанное и нерациональное разделение труда, представляет собой нечто отличное от коммерческой экономики, нечто не укладывающееся в рамки торговли на рынке. Коммерция, как отметил где-то Зим-мель, - одно из более поздних и наиболее сложных социальных отношений, которые усвоили люди. Человек - это единственное животное, которое торгуется и обменивается.
Экология и экология человека, если она не отождествляется с экономикой на специфически человеческом и культурном уровне, отличается все же и от статического порядка, обнаруживаемого социальным географом, когда тот описывает культурный ландшафт.
Сообщество, описываемое географом отличается от сообщества описываемого экологом, хотя бы по той причине, что закрытая система с сетью коммуникаций, распространенная человеком по всей земле - это не то же, что и «ткань жизни», связывающая живые существа по всему свету жизненными узами.
V. СИМБИОЗ И ОБЩЕСТВО
Экология человека, не отождествляемая ни с экономикой, ни с географией, как таковая отличается во многих отношениях и от экологии растений и животных. Взаимоотношения между людьми и взаимодействие человека со средой обитания сопоставимы, но не тождественны отношениям других форм жизни, живущих совместно и осуществляющих нечто вроде «биологической экономии» в пределах общей среды обитания.
Прежде всего, человек не столь непосредственно зависит от своего физического окружения, как другие животные. Благодаря существующему всеобщему разделению труда, отношение человека к его физическому окружению опосредовано вторжением другого человека. Обмен товарами и услугами способствовал его освобождению от зависимости от его локального окружения.
Более того, человек, благодаря изобретениям и различного рода техническим изыскам развил невероятную способность преобразовывать не только свое непосредственное окружение и реагировать на него, но осваивать свой мир. Наконец, человек воздвиг на основе биотического сообщества институциональную структуру, укорененную в традиции и обычае.
Структура, там, где она существует, сопротивляется изменению, по меньшей мере - изменению, навязываемому извне; тогда как внутренние изменения она, вероятно, стремится накапливать*. В сообществах растений и животных структура предопределена биологически и, в той мере, в какой вообще существует разделение труда, она имеет физиологические и инстинктивные основания. Одним из самых любопытных примеров этого факта могут служить социальные насекомые, а одной из причин изучения их повадок, как отмечает Уилер, является то, что они показывают, до какой степени социальная организация может быть развита начисто физиологическом и инстинктивном основании; то же самое можно отнести и к людям, находящимся в естественной семье, в отличие от институциональной**.
* Это, очевидно, является еще одним свидетельством той органической природы взаимодействий организмов в биосфере, которую отмечают Артур Томпсон и другие. Она указывает на тот способ, каким конкуренция опо-средует влияния извне, приспосабливая вновь и вновь отношения внутри сообщества. В этом случае «внутри» совпадает с траекторией процесса конкуренции, постольку, поскольку результаты этого процесса существенны и очевидны. Сравни также с зиммелевским определением общества и социальной группы в пространстве и времени, приведенном во «Введении в науку социологии» Парка и Бэрджесса (2-е изд.), ее. 348-356.
** William Morton Wheeler. Social life among the Insects. - Lowell Institute Lectures, March, 1922. - pp. 3-18.
Однако в случае человеческого общества эта структура сообщества подкрепляется обычаем и приобретает институциональный характер. В человеческих обществах, в отличие от сообществ животных, конкуренция и индивидуальная свобода ограничиваются обычаем и консенсусом на каждом уровне, следующим за биотическим.
Случайность этого более или менее произвольного контроля, который обычай и консенсус налагают на естественный социальный порядок, усложняет социальный процесс, но не меняет его существенно, а если и меняет, то результаты биотической конкуренции проявят себя в последующем социальном порядке и в ходе последующих событий.
Таким образом, можно считать, что человеческое общество, в отличие от сообществ растений и животных, организовано на двух уровнях - биотическом и культурном. Есть симбиотическое общество, основанное на конкуренции, и культурное общество, основанное на коммуникации и консенсусе. По сути дела эти два общества являются лишь разными аспектами одного общества, они, несмотря на все перипетии и изменения, остаются, тем не менее, в определенной зависимости друг от друга. Культурная над-структура основывается на симбиотической подструктуре, а возникающие силы, которые проявляются на биотическом уровне как передвижения и действия, на высшем, социальном, уровне принимают более утонченные, сублимированные формы.
Однако, взаимоотношения людей гораздо более разнообразны и сложны, они не сводятся к этой дихотомии - симбиотического и культурного. Этот факт находит подтверждение в самых различных системах человеческих взаимоотношений, которые выступают предметом специальных социальных наук. Поэтому следует иметь в виду, что человеческое общество, в его зрелом и более рациональном виде, представляет собой не только экологический, но и экономический, политический и моральный порядки. Социальные науки состоят не только из социальной географии и экологии, но из экономики, политических наук и культурной антропологии.
Примечательно, что эти различного рода социальные порядки организованы в своего рода иерархию. Можно сказать, что они образуют пирамиду, основанием которой служит экологический порядок, а вершиной - моральный. На каждом из последовательно расположенных уровней - на экологическом, экономическом, политическом и моральном - индивид оказывается полнее инкорпорированным в социальный порядок, более подчиненным ему, нежели на предшествующем уровне.
Общество повсюду является организацией контроля. Его функция состоит в том, чтобы организовывать, интегрировать и направлять усилия составляющих его индивидов. Наверное, можно сказать и так, что функцией общества везде является сдерживание конкуренции и, тем самым, установление более эффективной кооперации органических составляющих этого общества.
Конкуренция на биотическом уровне, как это наблюдается в растительных и животных сообществах, представляется относительно неограниченной. Общество, по факту своего существования, является анархичным и свободным. На культурном уровне эта свобода индивида конкурировать сдерживается конвенциями, пониманием и законом. Индивид более свободен на экономическом уровне, чем на политическом, и более свободен на политическом, нежели на моральном.
По мере развития общества контроль все более распространяется и усиливается, свободная коммерческая деятельность индивидов ограничивается, если не законом, то тем, что Джильберт Мюррей называет «нормальным ожиданием человечества». Нравы - это лишь то, чего люди привыкли ожидать в определенного рода ситуации.
Экология человека, в той мере, в какой она соотносится с социальным порядком, основанным более на конкуренции, нежели на согласии, идентична, по крайней мере в принципе, экологии растений и животных. Проблемы, с которыми обычно имеет дело экология растений и животных, - это, по сути, проблемы популяции. Общество, в представлениях экологов, - это популяция оседлая и ограниченная местом своего обитания. Ее индивидуальные составляющие связаны между собой свободной и естественной экономикой, основывающейся на естественном разделении труда. Такое общество территориально организованно, и связи, скрепляющие его, скорее физические и жизненные, нежели традиционные и моральные.
Экология человека, однако, должна считаться с тем фактом, что в человеческом обществе конкуренция ограничивается обычаем и культурой. Культурная надструктура довлеет как направляющая и контролирующая инстанция над биотической субструктурой.
Если человеческое сообщество свести к его элементам, то можно его себе представить как состоящее из населения и культуры, последняя, при этом, включает в себя 1) совокупность обычаев и верований, 2) соответствующую первой совокупность артефактов и технологических изобретений.
К этим трем элементам, или факторам, - населению, артефактам (технологической культуре) и обычаям и верованиям (нематериальной культуре) - составляющим социальный комплекс, следует, наверное, добавить и четвертый, а именно - природные ресурсы среды обитания.
Именно взаимодействие этих четырех факторов - населения, артефактов (технологической культуры), обычаев и верований (нематериальной культуры) и природных ресурсов - поддерживает одновременно и биотический баланс, и социальное равновесие всегда и везде, где они существуют.
Изменения, которые интересны для экологии, - это движение населения и артефактов (товаров), это изменения в местоположении и занятии - фактически любое изменение, которое влияет на сложившееся разделение труда или отношение населения к земле.
Экология человека по сути своей является попыткой исследовать процесс, в котором биотический баланс и социальное равновесие 1) сохраняются, как только они установлены и 2) процесс перехода от одного относительно стабильного порядка к другому, как только биотический баланс и социальное равновесие нарушены.
ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
Основную часть книги образуют переводы работ современных теоретиков.
Библиографическое оформление этих переводов было по возможности унифицировано. Списки используемой литературы размещаются в конце каждой статьи в алфавитном порядке. В ряде случаев они дополнены библиографическими описаниями русских переводов цитируемых произведений. В переводах классических сочинений библиографическое оформление соответствует оригиналу.
В наиболее сложных теоретических работах необходимые для понимания по-русски, но отсутствующие в оригинале слова или фрагменты фраз заключены в квадратные скобки.
Отточия в квадратных скобках означают незначительные сокращения. В угловые скобки заключены слова на языке оригинала, если перевод предполагает возможные разночтения или нуждается в соответствующем уточнении.
ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ
Первоначальный замысел этой книги был связан с публикацией под одной обложкой ряда социологических работ, опубликованных в русских переводах в альманахе THESIS. В конечном счете было отобрано только три из них, вошедших в выпуск № 4 за 1994 г. («Научный метод»):
Р. Коллинз. Социология: наука или антинаука? (CollinsR. Sociology: Pro-science or Antiscience? // American Sociological Review, 1989, vol. 54 (February). P. 124-139), THESIS. № 4. C. 71-96; Г. Терборн. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке (Goran Therborn. Cultural Belonging, Structural Location and Human Action. Explanation in Sociology and in Social Science //Acta Sociologica. 1991. Vol. 34. No 3. P. 177-192). THESIS, № 4. C. 97-118; Дж. Тернер. Аналитическое теоретизирование (Jonathan Turner. Analytical Theorizing// Social Theory Today / Ed. by Giddens A., Turner J. Stanford: Polity Press, 1987. P. 156-194). THESIS. № 4. C. 119-157. Для данного издания эти переводы были заново сверены и отредактированы. Печатаются с разрешения издателей THESIS'а.
РаботаМ Арчер «Реализм и морфогенез» (Realism and Morphogenesis) была получена в рукописи в 1994 г., еще до выхода книги: Archer Margaret S. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, в которой она должна была стать пятой главой. В русском переводе частично опубликована в «Социологическом журнале». 1994. № 4. С. 50-68. Для данного издания редактором были частично переработаны, а частично переведены заново некоторые фрагменты, выпущенные в первой публикации. Весь перевод был сверен и основательно отредактирован.
Статья Г. Вагнера «Социология: к вопросу о единстве дисциплины» (Gerhard Wagner. Soziologie: Uberlegungen zur Einheit des Faches. Ms. 1995) была написана по моей просьбе и предоставлена в рукописи. В русском переводе впервые опубликована в «Социологическом журнале», 1996, № ѕ. С. 60-83 Для настоящего издания перевод заново сверен.
Статья Ф. Макнотена и Дж. Урри «Социология природы» (PhilMacnagh-ten, John Urry. A Sociology of Nature) была предоставлена в рукописи по моей просьбе в 1995 г. специально для данного издания. Перевод публикуется впервые.
Отдельная история связана с публикацией работы Н. Лумана «Теория общества» (Nik/as Luhmann. Theorie der Gesellschaft. Fassung San Foca' 89). Рукопись я получил от Лумана в феврале 1991 г. Он отнюдь не радовался возможной публикации на русском языке, потому что считал свое сочинение еще далеко не доработанном. Луман много раз перерабатывал рукопись, использовал как основу для курсов лекций, читанных, прежде всего, в Билефельде, но также и в других университетах; в частности, он работал над ней в Италии (отсюда подзаголовок: «Вариант San Foca' 89»), с которой вообще связывал в это время много не сбывшихся позже планов. Поддавшись на мои уговоры, он просил только предуведомить читателя, что это далеко еще не зрелый плод его труда. Однако, когда в 1997 г. вышла монументальная монография Лумана «Общество общества» (Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp), я сравнил тексты первой главы имеющейся у меня рукописи и окончательного варианта. Мне показалось, что выбранные для перевода параграфы если и отличаются от книжного текста, то очень незначительно. Таким образом, не нарушая волю автора, я все-таки могу уверить читателя в том, что он держит в руках отнюдь не полуфабрикат теории. К сожалению, известить Лумана о готовящейся публикации я уже не смог. Он скончался в ноябре 1998 г.
Статья Гая Оукса «Прямой разговор об эксцентричной теории» (Guy Oakes. Straight Thinkinh about Queer Theorizing) была предоставлена в рукописи по моей просьбе. Перевод публикуется впервые.
Работу над переводом «Философии денег» Георга Зиммеля я начал очень давно, перспективы ее завершения далеко не ясны. Между тем, интерес именно к этой книге Зиммеля заметно растет. Не имея возможности удовлетворить ожиданиям коллег полным текстом, я все-таки надеюсь, что этот небольшой фрагмент (представляющий собой две трети первой главы книги) окажется небесполезным. Перевод сделан по изданию: Georg Simmel. Philosophic des Geldes. Zweite, vermehrte Auflage. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1907. S. in-ГХ, 3-61. Сверен по изданию: SimmelG. Philosophic des Geldes / Hrsgg. v. David P. Frisby und Klaus Christian Kohnke. Ge-org Simmel Gesamtausgabe / Hrsgg. v. Otthein Rammstedt. Bd. 6. Frankfurt a.M.: Suhrlamp, 1989. S. 9-14, 23-92.
Перевод статьи Робрета Парка «Экология человека» был выполнен специально для настоящего издания и публикуется впервые. Перевод сделан по изданию: Robert E. Park. Human Ecology // Rober E. Park. On Social Control and Collective Behavior. Selected Papers / Edited and with an Introduction by Ralph H. Turner. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1967. P. 69-84.
А. Филиппов
ОБ АВТОРАХ
Маргарет Арчер (Margaret Archer) - профессор университета Уорика (Warwick), Великобритания. Основные публикации: Social Origins of Educational Systems. London: Sage, 1979; Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Герхард Вагнер (Gerhard Wagner) - приват-доцент Билефельдского университета (Bielefeld), ФРГ. Основные публикации: Geltung und normativer Zwang. Freiburg / Milnchen: Karl Alber, 1987; Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwindung der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
Рэндал Коллинз (Randall Collins) - профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: Collins R. Sociology since Midcentury. Essays in Theory Cumulation. N.Y.: Academic Press, 1981; Theoretical Sociology. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
НикласЛуман (NiklasLuhmann) (1927-1998) - в 1968-1993 гг. - профессор Билефельдского университета, ФРГ. Основные публикации: Sozio-logische Aufklarung. Bde. 1-6. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1970-1995; Gesellschaftstruktur und Semantik. Bde. 1-4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1980- 1995; Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984 и др.
Фил Макнотен (PhilMacnaghten) - сотрудник Ланкаширского Центра исследований изменений окружающей среды, Ланкастерский университет (Lancaster), Великобритания. Основная публикация: Contested Natures (соавтор - J. Urry). London: SAGE, 1998.
Гай Оукс (Guy Oakes) - профессор Монмутского (Monmouth) университета, США. Переводчик сочинений Зиммеля и Риккерта. Основные публикации, помимо переводов: Weber and Rickert. Concept Formation in the Cultural Sciences. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1988; The Imaginary War: Civil Defense and American cold war culture. N.Y.: Oxford University Press, 1994; The Soul of the Salesman : The Moral Ethos of Personal Sales. Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press International, 1990.
Гёран Терборн (Goran Therborn) - профессор Уппсальского (Uppsala) университета, Швеция. Основные сочинения: The Ideology of Power and the Power of Ideology. London: NLB, 1980; What Does the Ruling Class Do When It Rules? London: Verso, 1980; European Modernity and Beyond: the Trajectory of European Societies, 1945-2000. London: Sage, 1995
Джонатан Тернер (Jonathan Turner) - Профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: The Body and Society. Oxford: Blackwell, 1986; A Theory of Social Interaction. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1988; The Strcuture of Sociological Theory. 5th ed. Belmont, Ca.: Wadsworth, 1991.
Джон Урри (John Urry) - профессор Ланкастерского университета, Великобритания. Основные публикации: The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society. London: Sage, 1990; Economies of Signs and Space (соавтор - S. Lash). London: Sage, 1994. Consuming Places. London: Routledge, 1995.
Памяти Никласа Лумана
Никлас ЛУМАН 8.12.1927-6.11.1999
Скончался Никлас Луман. Социологов такого масштаба после второй мировой войны было совсем немного, и ничто не предвещает появления в ближайшем будущем фигуры даже не равновеликой, а хотя бы только сопоставимой с ним по дарованию и продуктивности.
Странные чувства вызывает известие о его кончине. Помимо обычных, человеческих - сожаления и горечи - еще и удивление. Кажется почти невероятным, что остановился поток публикаций, что каждый новый год не принесет одну-две новые книги Лумана. За удивлением следует - как бы кощунственно это ни звучало - своеобразное удовлетворение, вроде того, какое высказала Марина Цветаева, узнав что Волошин умер в полдень - «в свой час». Последняя книга Лумана, более чем тысячестраничная монография «Общество общества»*, так и выглядит - как последняя книга, монументальный труд, итог грандиозного проекта, дело всей жизни. Считать ли ее вершиной творчества или отчаянной неудачей (оценки книги сильно разнятся), все равно несомненно, что это - завершение, после которого могло следовать лишь новое, неожиданное начало. Огромный труд исчерпал видимые возможности теории и жизненные силы теоретика. Структурная связка аутопойесиса жизни и аутопойесиса теории была столь совершенна, что завершение труда и завершение жизни не могли не совпасть.
* Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997.
Писать о Лумане безотносительно к его трудам, даже по столь скорбному поводу, кажется, почти невозможно. Но труды остаются с нами - оборвалась жизнь: что мы скажем о ней? То же, что и о любом профессоре: диплом - диссертация - профессура? Случай Лумана, впрочем, несколько особый: то, что у других ученых растягивается на годы, у него спрессовано в наикратчайший период, которому предшествует необыкновенно затянувшееся начало и за которым уже не следует никаких изменений: в 1968 г. Луман получает профессуру в новом, только что основанном Биле-фельдском университете и остается там четверть века до выхода на пенсию. Профессуре предшествует (в 1966 году) защита диссертаций - в высшей степени необычная, а по нынешним представлениям в Германии попросту невозможная: обе диссертации (Promotion, дающая докторскую степень, и Habilitation, открывающая путь к профессуре) защищаются с перерывом всего в полгода. В том, что это удалось, заслуга не только Лумана, но и виднейшего немецкого социолога X. Шельски, основателя Билефельд-ского университета. Шельски замечает Лумана еще раньше - точная дата их знакомства мне неизвестна, но то обстоятельство, что Луман еще до получения ученых степеней становится (в 1965 году) руководителем подразделения Центра социальных исследований в Дортмунде, который возглавляет Шельски, достаточно примечательно. А что до этого? Сотрудничество с Высшей школой наук управления в Шпейере, где в это время профессорствует знаменитый Арнольд Гелен, старший друг и коллега Шельски, в соавторстве с которым он, в частности, написал первый учебник по социологии в послевоенной Германии. Установить, откуда тянется ниточка знакомств и важных связей, невозможно: краткие биографии Лумана только сообщают нам, что в Шпейере он оказывается через год после возвращения из США, где в 1960-61 гг. учится (слово сомнительное: не студентом же он туда поехал! возможно, мы бы назвали это стажировкой) у Толкота Парсонса. В это время Луман уже зрелый человек, за его плечами не только учеба на юридическом факультете Фрайбургского университета, но и почти десяток лет ответственной чиновничьей работы (к 1962 г. он занимает пост старшего правительственного советника в министерстве культов земли Нижняя Саксония). Собственно, как чиновник он и устроил себе стажировку: «Я сидел и оформлял документы для тех, кто собирался учиться в Америке, - рассказывал он впоследствии. - Мне пришло в голову, что я могу сделать то же и для себя». Все просто, если только не принимать в расчет, что преуспевающий чиновник, профессиональный юрист вдруг круто меняет всю свою жизнь. Что должно было произойти, какие предпосылки определили этот выбор? Что там в прошлом, до этого?
Он родился в семье пивовара в Люнебурге, родном городе Генриха Гейне. Впрочем, о последнем обстоятельстве Луман не знал*. Гейне и так-то не очень почитаем в Германии, но тут другое: все сознательное детство Лумана приходится на эпоху нацизма, правда, он посещает классическую гимназию и даже на старости лет не отказывает себе в удовольствии проспрягать для куда менее образованных современных студентов какой-нибудь греческий глагол. Но он не принадлежит по происхождению к образованному бюргерству. Как и многие послевоенные социологи, он чуть ли не первый в своем роду, кто получает университетское образование.
* Я как-то случайно выяснил это в разговоре.
Однако, до университета еще надо просто дожить, хотя, в отличие от Гелена и Шельски, воевавших на Восточном фронте, Лумана война, так сказать, задевает только краем. Шельски в середине 70-х напишет: «Вообще-то меня должны были закопать в Восточной Пруссии». Луман же, которого в 1944 г. забирают в армию, не дав закончить гимназию, служит помощником авиационного техника в самой Германии, остро ощущает абсурд происходящего и в 1945 г., подобно многим сверстникам, ищет только возможности сдаться в плен американцам или англичанам и уцелеть. В конце концов, ему это удается.
Он заканчивает учебу в университете в год образования обеих Германий - Федеративной и Демократической; и всего только за два с небольшим года до выхода на пенсию успевает сказать прощальное слово той старой, «неполной» Федеративной Республике, в которой прошла вся его взрослая жизнь. Луман - социолог ФРГ в самом прямом смысле этого слова. И вместе с тем его интерес к социологии вообще довольно типичен для людей его поколения и его круга. Типичен-то он типичен, но было ли его решение необходимым? Сам Луман, наверное, не удержался бы здесь от ехидных замечаний. Одно из основных понятий его концепции - «Kontingenz», что можно перевести как «ненеобходимость». В мире нет ничего прочного, субстанциального, неизменного. Существование каждого человека контингентно хотя бы потому, что само его появление на свет стало следствием стечения множества обстоятельств.
Какое-то предощущение своего призвания, у него, видимо, сложилось все-таки очень рано. Известно, что Луман уже в 1952- 53 гг. начинает создавать свои знаменитые картотечные ящики. Именно создавать, потому что ничего похожего не было ни раньше, ни позже. Правда, эта первоначальная картотека, видимо, еще не похожа на позднейшую, в ней больше сходства с обычными подборками карточек, которые ведет для себя любой ученый. На карточках - прежде всего цитаты. Картотека служит упорядочиванию чужих идей. «Настоящая» картотека Лумана появляется позже. Своеобразие ее в том, что она служит прежде всего организации идей самого теоретика, а не чьих-то еще. Представьте себе компьютер, в котором каждый текстовый файл содержит лишь небольшое суждение или группу суждений (иногда - вместе с отсылками к литературе) и может находиться лишь на строго определенном месте, в директории (папке), субдиректории и т. п., в соответствии со своим содержанием. При этом он, с одной стороны, подобно гипертексту, содержит «линки», отсылающие к другим файлам и директориям, а с другой, - сам может выступать не только как файл, но и как директория. Изначально количество директорий невелико и хорошо упорядочено, однако затем они начинают наполняться файлами (которые тоже становятся - или не становятся - директориями), члениться все дальше и дальше; здесь образуются новые и новые пересечения и отсылки. Вот это и есть идея картотеки Лумана. Поначалу теория организована только в самом общем виде. С течением времени теоретику приходит в голову больше идей, некоторые старые идеи, казавшиеся лишь элементом рассуждения, влекут за собой целые серии новых рассуждений, каждое суждение, записанное на карточке, снабжено четкой системой отсылок, позволяющей в считанные минуты извлекать и затем снова ставить на место все карточки - повторим еще раз: с собственными суждениями теоретика! - которые имеют отношение к предмету его работы в данный момент. Текст для публикации, по идее, образуется, в основном, из множества мелких фрагментов, работа над которыми занимает основное время. Это компьютер без компьютера, это рабочий инструмент человека, еще в начале 90-х гг. предпочитавшего всем новинкам оргтехники электрическую пишущую машинку. Сама идея не проста, но ее реализация бесконечно сложна. Сложность возникает из-за все увеличивающегося количества карточек и связей между ними. Картотека воплощает одну из основных категорий Лумана - «сложность», «комплексность» («Komplexitat»). Сложна картотека, сложна теория, сложен мир, упростить который пытается сложная теория. Теория и ее картотека, однако, суть составляющие мира, они одновременно и уменьшают («редуцируют») и увеличивают его сложность.
Как можно было додуматься до этого, самое позднее, в конце 50-х? Как можно было, додумавшись, воплотить замысел хотя бы даже в первоначальной форме? Как можно было поддерживать, развивать этот замысел на протяжении почти четырех десятилетий?
Кажется, ответ есть только на последний вопрос. К середине 60-х годов у Лумана, можно сказать, кончается биография. «Биографии, - говорит он, - суть в большей мере цепочки случайностей, которые организуются в нечто такое, что затем постепенно становится менее подвижным». Биография Лумана почти неподвижна с конца 60-х гг. Мы узнаем из посвящения к книге «Функция религии»*, что в 1977 г. скончалась его жена. Вдовец с тремя детьми так и не женится больше, и не один дружелюбный коллега в Билефельде полусочувственно, а скорее осуждающе расскажет вам, что детьми Луман совсем не занимается, предоставив их попечению домработницы. Он живет в Орлингхаузене**, городке, где когда-то был укоренен род Макса Вебера по отцовской линии. Дом Лумана стоит на улице, названной в честь жены Макса, Марианны. На большом участке земли мог бы поместиться еще один дом - так и было задумано, но не состоялось, семейство не разрастается.
* Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977.
** Oerlinghausen, дифтонг в начале произносится как «ё» в имени Гёте.
Луман, подобно Максу Веберу, не хлопочет за своих учеников, не сколачивает школы, больше похожей на мафиозный клан, как это сплошь и рядом случается в современной науке*. Он агрессивен в теории и любезен в жизни. Его атакуют, его идеи вызывают раздражение. Ему указывают на слабости теории, на ошибки в аргументации, на то, что «редукция комплексности» - это переряженное понятие «разгрузки» философской антропологии Гелена. Луман постоянно отбивается, он вступает в жесткую полемику с Хабермасом**, задавшую стиль теоретическим дискуссиям чуть ли не на два десятилетия. Луман постоянно совершенствует, меняет, развивает теорию. Оппоненты выдыхаются. Они не поспевают за Луманом: только что он говорил об открытых системах в духе Берталанфи - и вдруг нечувствительно усваивает феноменологию позднего Гуссерля; только что его феноменологические штудии были подвергнуты критике, а он уже говорит о закрытых системах, аутопойесисе Матураны и Варелы и логике Дж. Спенсера Брауна. Но Луман не ограничивается исследованием философских оснований теории. Он, напротив, не оставляет без внимания ни одной области современной жизни. Он поражает эрудицией. Его называют «Арно Шмидт*** социологии», раздражаясь, указывают на ошибки в цитировании, на сомнительность интерпретаций... Луман кротко замечает, что у него нет памяти на тексты и филологического чутья - и продолжает писать. Оппоненты, в который раз, отступают. Вырабатывается специфический стиль Лумана: энергичный, сжатый, ироничный, предполагающий безумное количество ссылок на литературу, иногда весьма неожиданных. Луман создает своего читателя, потратившего немало сил на овладение его специфической терминологией и убедившегося на практике, что на этом языке профессионалу легко говорить. Луман гипнотизирует читателя, он заметает следы, не давая увидеть подлинные идейные истоки своих рассуждений, он пускает в ход и эрудицию, и самую изощренную логику, и - безупречный прием - намеки на то, что подлинно современный человек должен мыслить именно так, все остальное - предрассудки и отсталость. Постепенно он становится всемирно известен. Его переводят все больше и больше, не всегда, впрочем удачно. «Я говорил ему, - сетует крупный исследователь Вебера американский социолог Г. Рот, - что так писать для американцев нельзя; это перевести невозможно, и читать такие тексты они не будут». Луман не отступает - в конце концов, многие его сочинения находят своего читателя и на английском языке.
* Современные последователи Лумана, безусловно, образуют плотную и основательно организованную, в частности, в Билефельде группу. Однако тенденции к ее оформлению определились сравнительно поздно, всего за несколько лет до выхода Лумана на пенсию.
** См.: Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnolo-gie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1971.
*** Немецкий писатель, знаменитый своей филологической эрудицией.
В 1988 г. Луман получает премию имени Гегеля города Штуттгарта и... и все. Биограф умолкает, сказать больше нечего. Еще десять лет - и «билефельдский мастер» умолкает навсегда. Мировая социология не начала говорить на языке его теории, но и пройти мимо нее трудно. Ближайшие десятилетия покажут, в должной ли мере передалась его сочинениям энергетика его мысли. Во всяком случае, оставляя в стороне маловразумительный вопрос об «истинности» или «неистинности» столь обширной, сложной, претенциозной теории, мы рискнем высказаться о Лумане нарочито архаически, вопреки букве и духу его сочинений:
Он подлинно служил науке, он отдал ей всю жизнь, он пожертвовал для нее очень многим, он умер, свершив свой труд.
 Экономика: Общество - Социология
Экономика: Общество - Социология
- Экономика и общество
- Экономические исследования
- Экономика и общество в России
- Экономика социальная
- Человек и социальная экономика
- Социология
- Государство и социология
- История социологии
- Практическая социология
- Социология в России
СОЦИОЛОГИЯ: НАУКА ИЛИ АНТИНАУКА?*1
Гёран Терборн
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К КУЛЬТУРЕ, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ В СТРУКТУРЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ: ОБЪЯСНЕНИЕ В СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ НАУКЕ*
ПОЧЕМУ В СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫВероятно, в ближайшем будущем социологическое теоретизирование претерпит изменения весьма драматического свойства. Сегодня на передний план выдвинулось, говоря словами Дж. Александера [9], новое движение за теорию: предпочтение отдается эрудиции и тщательной продуманности высказываний. Однако вряд ли можно считать, что благодаря этому после бурь и потрясений конца 60-х - начала 70-х годов в социологии воцарились мир и согласие относительно ее общей парадигмы. Теоретическая социология фактически беззащитна перед лицом молчаливого неодобрения многих несоциологов, а также открытой критики в рамках самой этой дисциплины, которая, по всей вероятности, будет нередкой (нельзя исключить, что и нынешние ее лидеры предпримут радикально новые ходы).
Слабости современной социологической теории мы можем суммарно представить в виде двух положений.
* Therbom G. Cultural belonging, structural location and human action. Explanation m sociology and social science // Acta Sociological Journal of the Scandinavian Sociological Assosiation. 1991. Vol. 34. N° 3. P. 177-192. - Прим. перев.
© Scandinavian Sociological Association, 1991.
© Тезис (рус. перевод).
Первое состоит в том, что социальная теория и социальная наука фактически тождествены социологии. Этот факт нашел свое отчетливое выражение в структуре изданного Э. Гидденсом и Дж. Тернером весьма представительного сборника «Социальная теория сегодня» [44]. Дж. Алексан-дер в своей статье «Центральное место классики» [8], помимо весьма красноречивой защиты непреходящего центрального значения классиков для современного социологического теоретизирования, проводит противопоставление «социальной» и «естественной» науки, хотя в действительности, говоря о первой, он имеет ввиду только социологию.
Это означает, что за скобки выносятся экономические и другие внесоциологические теории социального взаимодействия, например теория игр. Во всех естественных и гуманитарных дисциплинах существует склонность к интеллектуальному шовинизму и близорукости. Однако интеллектуальное течение, неспособное принять прямой вызов своим постулатам и быстро ответить на него, может оказаться на обочине научной мысли. Мощное продвижение моделей рационального выбора в целом ряде областей социальных исследований, таких, как политология, экономическая история и демография, также привело к ожесточенным контратакам на них или к тщательной проверке этих моделей в попытке доказать, что нормы и институты нельзя редуцировать к индивидуальному рациональному выбору. В результате возникла парадоксальная ситуация: в социальных науках ведется яростный спор относительно основных перспектив развития классической социологии, в то время как нынешнее социологическое теоретизирование отвергает само существование таких перспектив (единственным значимым исключением является Дж. Коулмен). В этой дискуссии, имеющей фундаментальное значение, лучшими защитниками классических социологических концепций до сих пор были политологи [51; 53; 77], философы [32; 34; 35] и историки [19; 38; 45; 67]. Социологические «ставки» здесь исключительно высоки, и не замечать дискуссию уже невозможно, а мнение, будто Парсонс раз и навсегда разрешил «дилемму утилитаризма», вряд ли будет впредь основополагающим в социологической теории.
Второе положение можно сформулировать следующим образом: основная задача социологической теории состоит в концептуализации социального порядка, его возможности и/или социального действия. Приведем несколько примеров из литературы последних лет. У Гидденса читаем: «Понятия теории структурадии, подобно любой конкурирующей теоретической перспективе, для множества исследовательских целей должны считаться не чем иным, как сенсибилизирующими приспособлениями» [40, 236]. В другой его книге имеется высказывание, что «отправной точкой теоретического мышления и эмпирической работы в социальных науках должен считаться анализ повторяющейся социальной практики» [43, 252]. Для М. Арчер основной «целью является теоретизирование относительно условий культурной стабильности или изменений» [14, XVIII]. Александер формулирует свои исходные намерения так: «Я намерен рассматривать действие как движение в двух основных измерениях: интерпретации и страте-гизации. Эти два аспекта следует считать аналитическими элементами потока эмпирического сознания» [11, 300].
Более амбициозный на первый взгляд, проект «аналитического теоретизирования» Дж. Тернера [4] тоже оказывается лишь разработкой «сенсибилизирующей схемы для анализа человеческой организации».
Из приведенных высказываний ясно, что в преобладающем ныне в общей социологии типе теоретизирования совершенно отсутствует или считается второстепенным именно стремление объяснять. Весьма слаб интерес к вопросам типа: «Почему эти люди действуют таким образом? Почему данный социальный порядок изменяется именно таким образом?»
Не вдаваясь в эпистемологические споры, можно сказать, что объяснить нечто - значит дать правдоподобное обоснование того, почему в данной ситуации, в которой существовала по меньшей мере еще одна возможность, актуализировалось именно это нечто. Концептуализация - необходимая составляющая теоретизирования, и она всегда занимала значительное место в теоретической работе социологов. Тем не менее в ближайшем будущем необходимость концентрации усилий на разработке, обсуждении и сравнении концептуальных схем, весьма вероятно, будет оспорена или отпадет вовсе.
Как правило, объяснение считается более высокой на-Учной задачей, чем концептуализация, которую часто рассматривают лишь как средство для объяснения цели исследования. Теория рационального выбора, бросающая вызов всем социальным наукам, сосредоточена непосредственно на объяснении. До сих пор компромисс в господствующей социологической теории по большей части был основан на интересе к «действию» и к человеку как «действующему субъекту». В эмпирическую исследовательскую практику социологов во все возрастающей мере эксплицитно включалось каузальное моделирование в путевом анализе, регрессионных уравнениях, моделях LISREL и т. д. В такой обстановке продолжение исследований того, как следует понимать действующих и человеческое действие, возможно, скоро станет занятием неблагодарным и сомнительным.
Объяснение в социальных науках
Уровень чувствительности концептуальных схем, долгое время господствовавших в общесоциологической теории, весьма спорен, а различия в повседневной практике социологов-эмпириков крайне велики. Однако, по-моему, существует и некий основной способ социологического объяснения. Конечно, он не охватывает все виды объяснения, используемые теми, кто претендует на звание социолога. И тем не менее, достаточно отчетливо видны варианты, которые можно объединить под общим названием неоклассической социологии. Основной признак принадлежности к ней - признание работ Дюркгейма, Маркса и Вебера в качестве изначального и классического свода социологии. То же можно сказать и о объяснениях, предлагаемых ин-терпретативной микросоциологией и структурным сетевым анализом. Ниже я попытаюсь дать формулировку данного типа социологического объяснения, соотнося его с другими способами объяснения в социальных науках.
В социальных науках предпринимается попытка объяснить две группы феноменов - человеческое социальное действие и результаты человеческого социального действия. Во-первых, ученые-обществоведы выясняют, почему люди действуют именно таким образом в социальных отношениях и во взаимоотношениях с другими людьми. Во-вторых, нас интересует совокупность явлений, которые можно обозначить как «результаты» человеческого социального действия, даже если нам удобнее говорить, скажем, о распределении дохода, возрождении ислама, продолжительности брака. Сохранение или изменение институтов, социальных отношений, моделей, ресурсов, созданных человеком, также можно рассматривать или объяснять в качестве результатов человеческого социального действия, не прибегая (непременным образом) к принципу «методологического акционализма» [71].
Прежде всего представим как объясняется действие. Необходимые элементы explanandum'& таковы: совокупность действующих, совокупность ситуаций и совокупность вероятных действий, имеющих хотя бы две альтернативы. Что касается совокупности действий, то академическое разделение труда во многом поделило дисциплины и поддис-циплины социального исследования соответственно изучаемым ими типам действия. Так, экономисты занимаются действиями различного рода предпринимателей на рынке, политологи - политиков и граждан, исследователи процесса обучения - действиями учителей и учеников, а социологи занимаются всем понемножку, кроме специфически экономических, политических и т. д. типов действия. Все же и в неоклассическом синтезе в социологии, и в моделях рационального выбора, бросивших вызов социологии, считается, что прагматическое разделение дисциплин соответственно группам действий в научном отношении нерелевантно или, по крайней мере, вторично. Итак, остается два аспекта различения объяснений социального действия - это характеристика совокупности действующих и характеристика совокупности ситуаций.
При объяснении решающее значение имеет различение вариации, которую мы изучаем, и вариации, которая берется как заданное, либо предопределенное, либо случайное. Последние две характеристики отнюдь не синонимичны, но для простоты в табл. 1 такое различение не проводится. За некоторыми исключениями (о них мы упомянем ниже), в моделях рационального выбора действующие рассматриваются как данное. Предполагается, что даны их предпочтения и склонности к максимизациям, а все остальное у них случайным образом различно.
При типичном теоретико-игровом подходе и действующие (ведущие себя рационально), и ситуации рассматриваются как нечто заданное, причем ситуация задается матрицей выплат [3; 47; 15]. Объяснение фокусируется на следующих вопросах: какова оптимальная стратегия для каждого игрока в данной игровой ситуации? Есть ли у игры равновесное состояние - одно или несколько - и что из этого следует? Теорию игр также распространили и на игры на нескольких аренах, игры в игре, например институциональные или конституционные игры [71], в которых основная логика объяснения становится схожей с логикой объяснения в экономике.
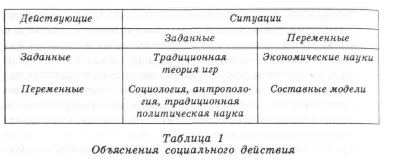
Предположения о максимизации полезности и стабильных предпочтениях не обязательно требуют наличия каких-либо исключительно эгоистических или финансовых предпочтений, не требуют также идентичности предпочтений у всех. Для конкретной совокупности действующих специфику «функции полезности» можно определять различными путями, причем для каждой совокупности иными. Но суть экономического объяснения заключается в другом. Объяснение и прогнозирование в экономике обычно опираются на основополагающий тезис, что действующие обладают определенными предпочтениями и подчиняются признанным правилам принятия решений.
Исходный же тезис социологического - и сходного с ним по сути антропологического - объяснения противоположен экономическому. Экономисты полагают, что в целях сколь-нибудь разумного научного анализа следует придерживаться мнения о стабильности предпочтений и что «о вкусах не спорят», т. е. вкусы людей примерно одинаковы [65, 76]. Социологи и антропологи, наоборот, исходят из того, что действующие делятся на разного рода категории и группы, относятся к разным историческим эпохам. На взгляд социологов и антропологов, социальные действия различаются, потому что неодинаковы сами действующие, принадлежащие к разным группам, полам, классам, обществам, культурам и т. д.
Вместе с тем обычно предполагается, что ситуации или обстоятельства действия изменчивы и случайны. В терминах понимающей социологии, ситуация задается тем, как ее определяют действующие. Возможности выбора, которыми располагает социологически понимаемый действующий, обычно изменяются в зависимости от его ценностей, принятых им норм, понимания им ситуации и от его местоположения в социальной структуре, а не от непосредственной ситуации действия. Местоположение в социальной структуре иногда считают «ситуацией», в которой оказывается действующий, однако эта «ситуация» является более или менее постоянной характеристикой действующего, и ее не следует путать с обстоятельствами совершения отдельного действия, которые надо объяснять особо. Альтернативы определяются культурой или «задаются структурным образцом» [66, 14 и ел.], так что ситуации действия отличаются от этих альтернатив несущественно. То, что Стинчкомб в блестящем анализе концепции Р. Мертона - автора, видимо, самых ясных в социологии объяснений - называет социально структурированными альтернативами [66, 12], в терминах используемого здесь различения «действующий-ситуация» оказывается альтернативами, «структурированными» принадлежностью действующего к культуре и его местоположением в структуре.
Политическая наука, как в ее бихевиористском, так и в конституциональном вариантах, традиционно строила свои объяснения на основе различий положения, ценностей и интересов действующих и практически не занималась общей теорией политического действия как таковой. В последнее время политическая наука стала все чаще приспосабливать для своих целей экономические модели.
Характерные черты экономического и социологического объяснения можно найти в клеточках 2 и 3 соответственно (см. Табл. 1). Различие между ними ярко продемонстрировал А. Этциони, недавно высказавший решительные возражения против экономического подхода. Эгци-они утверждает, что «в большинстве случаев выбор осуществляется при слабой обработке информации (о ситуации - Г. Т.) или вообще без нее и в значительной мере, или даже полностью, зависит от эффективных привязанностей или нормативных обязательств (действующих - Г. Т.)* [36, 95]. Иными словами, по Этциони, действующих не заботит ситуация, в которой они находятся, и то, как она меняется: они действуют в соответствии со своими конкретными привязанностями и обязательствами. Выбор по большей части определяется «привычками» и «инерцией» действующего, а не ценами и усилиями [36, 161].
С другой стороны, не все социологи стоят на собственно социологической точке зрения. Социальная теория Дж. Ко-улмена [28], известного чикагского социолога, явно изоморфна экономике и отличается от нее в основном анализом обменов правами на совершение действия и их последствиями. В центре микросоциологической теории «состояния ожиданий» Дж. Бергера и др. (см. общий обзор этой концепции [21]) тоже стоит вопрос, как внешние условия формируют ожидания действующего относительно поведения других.
Следует добавить, что имеются и смешанные схемы объяснения. Обычно социологическая дифференциация действующих сочетается в них с экономической точкой зрения на изменение ситуации. Примерами из экономики могут служить теории, в которых центральное место занимают различия в исходных ресурсах или «специфичность активов» действующих (или совокупности действующих) - это в теории международной торговли или в теории организаций [5; 78]. Еще один пример - марксистский классовый анализ с применением микроэкономического моделирования [58]. Некоторые течения экономической социологии (например, [76]) составляют третий подвариант. Все они занимаются вариацией поведения действующего, определяемой наличными ресурсами, т. е. системной вариацией. Несмотря на то что Коулмен [28, 132] подчеркивает важность «конституции» социальной системы, т. е. первоначального распределения среди действующих контроля над ресурсами, все же она в его теории вторична по отношению к нормам и конституциям в любой совокупности рациональных действующих.
Марч и Олсен [53] дали свой вариант смешанной модели, в центре которой - изменения в самоопределении действующих. Через «логику соответствия» они соединили следующего правилам «человека социологического» с изменчивостью ситуации: «Политически действующие люди связывают определенные действия с определенными ситуациями посредством правил соответствия. Все, что подходит конкретному человеку в конкретной ситуации, детерминировано политическими и социальными институтами и усвоено человеком через социализацию. Поиск предполагает изучение характеристик конкретной ситуации, а выбор - приведение поведения в соответствие с ней» [53, 23]. Далее ими были вычленены три типичных вопроса и один императив, ответы на которые предполагаются в «обязательном» действии в противовес «упреждающему»: «1. К какому типу принадлежит эта ситуация? 2. Кто я такой? 3. Насколько подходят для меня различные варианты действия в данной ситуации? 4. Делай то, что наиболее уместно». Односторонность этой модели очевидна.
По-моему, прогресс в развитии социологической теории и политической науки, родственной социологии, вообще невозможен без согласия в понимании того, как поступают различные люди в различных ситуациях. До сих пор мы только локализовали типично социологические объяснения в более общем контексте, имеющихся в социальных науках видов объяснений. Теперь надо попытаться более внятно и позитивно определить собственно социологический способ объяснения. Сосредоточимся при этом по преимуществу на объяснении действия, а не на том, какие оно имеет последствия.
СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ
Все разнообразие социологических объяснений располагается между двух полюсов. Они были зафиксированы уже в первом выдающемся неоклассическом синтезе социологии - в книге Т. Парсонса «Структура социального действия», написанной в 1937 г. [57]. Правда, Парсонс установил скорее «систему координат», нежели способ объяснения, причем сосредоточил свое внимание на одной из точек этой системы, а именно, на ценностях и нормах действующих. Другой полюс социологических объяснений - условия действия. Последними в главном русле социологического теоретизирования вплотную занимался Р. Мер-тон [55]. По мнению П. Штомпки, у Мертона речь шла о «структуре возможностей» [68, 162-163]. Впоследствии, когда марксистский классовый анализ получил социологическое «гражданство» и была радикально переосмыслена веберовская концепция власти, этот тип социологического объяснения занял достойное место.
Зрелый неоклассицизм - этот результат соединения со-циологизированного Маркса и теперь уже не идиллически трактуемого Вебера с первоначальными идеями Парсонса, обогащенный наследием Мида, феноменологией и лингвистическими теориями - не был должным образом кодифицирован, в том числе, разумеется, и в качестве объясняющей теории. У отдельных авторов, внесших в неоклассическую социологию наибольший вклад, таких как Ю. Хабермас [6; 46] и Э. Гидденс [40], объяснение не входило в число их главных научных интересов. Оба теоретика использовали свои глубокие классические исследования в основном для того, чтобы подкрепить свои собственные концептуальные схемы.
Но, как правило, всеохватывающие и всепримиряющие теоретические обзоры до сих пор сбиваются на школярский биографический подход к социологической теории. Здесь можно упомянуть книгу 1988 г. Р. Коллинза «Теоретическая социология» [29], хотя к ней это относится в несколько меньшей степени, чем к удачному в целом биографическому учебнику Тернера [72а].
При этом деятельность теоретика ограничивается тем, что дается спецификация основных переменных объяснения, характерных для социологии (достаточно общих и безличных), и все возвращается к тому же соперничеству разного рода «измов» и ранимых честолюбий.
С этой точки зрения, по-моему, объяснения социологического типа (обнаруживаемые также в антропологии, политической науке и в историографии) сводятся к объяснению поведения людей различиями их культурной принадлежности, местоположения в социальной структуре или взаимодействием того и другого. Социологи расходятся и спорят по поводу относительной значимости этих двух основных совокупностей переменных и относительной значимости основных характеристик внутри каждой совокупности. Обычно считается, что объясняющие переменные не детерминируют индивидуальное поведение. Скорее, культурная принадлежность и местоположение в структуре детерминируют вероятность того или иного выбора в популяции действующих.
КУЛЬТУРНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИХ
Принадлежность к культуре означает включенность в универсум общего знания в самом широком смысле этих понятий. В терминах объяснения культурная принадлежность действующих - это именно то, что наделяет их над-индивидуальной, способной изменяться, движущей силой.
Отстаивая положение «о вкусах не спорят», экономисты Дж. Стиглер и Г. Беккер пишут в конце одной из своих статей: «Можно только приветствовать появление объяснений того, почему одни люди увлекаются спиртным, а другие - Моцартом» [65, 89]. С постановки именно таких вопросов начинают социологи.
Социолог предполагает, что предпочтения людей различаются постольку, поскольку они принадлежат к разным культурам, из которых они усвоили различные жизненные цели и желания, конкретные нормы правильного поведения, особые способы выражения эмоций и владения ими; каждая из этих переменных по-своему важна. Это предположение само по себе может служить объяснением человеческого действия, так как люди с разными предпочтениями или разным чувством долга действуют по-разному. Объяснение при этом есть нечто большее, чем утверждение: «А действует ради получения X, ибо он/она принадлежит к культуре, желающей X*. Такое объяснение всегда обладает значимостью, хотя бы простейшей, в силу того, что культура, помимо прочего, является совокупностью тесно связанных предпочтений и норм и в таком своем качестве присутствует во всех своих провседневных определениях и коннотациях. Поэтому культур гораздо меньше, нежели предпочтений и вкусов. Вероятность того, что североамериканский еврей, например, принадлежащий к среднему классу, будет поклонником Моцарта, гораздо выше вероятности того, что Моцартом увлечется поденщик с Явы; а вероятность того, что рабочий - ирландец или финн - будет любителем спиртного, гораздо выше вероятности, что таковым будет крестьянин-мусульманин. Социологи предполагают, что эти связки культурных стандартов обладают определенным постоянством. С социологической точки зрения, правомерно предположить, что английский джентльмен (или английская леди) будет вести себя одинако в самых разных ситуациях в любых местах Британской империи.
Кроме того, принадлежность к культуре означает усвоение определенной когнитивной и коммуникативной компетенции, определенного языка, социального горизонта, мировоззрения или совокупности верований, способа толковать и определять ситуации, справляться с неопределенностью и посылать сигналы. Принадлежность к определенной культуре означает, что действующий - часть особого универсума смысла и особого способа конструирования и передачи смысла. Объяснение, опирающееся на эту особенность культуры (конечно, в более сложном контексте она должна быть дифференцирована), обретает значимость в зависимости от того, насколько данная культура стабильна во времени и в разных ситуациях и насколько специфичны восприятие, обсуждение и реакция ее носителей на те или иные явления и события. В отличие от экономистов, социологи рассматривают разговор как форму действия, также подлежащую объяснению. И здесь, конечно, модель действия как «выбора» перестает работать, ведь речевое сообщество может установить довольно узкие пределы того, о чем позволительно говорить.
В той мере, в которой использование символов способствует укреплению власти или позволяет бросить ей вызов, объяснение действия с точки зрения культуры релевантно также и для макрополитики и соперничает, скажем, с политическими моделями общественного выбора.
Третий важнейший аспект социологического понимания принадлежности к культуре состоит в том, что она определяется по двум измерениям - общему ощущению действующим его тождественности с одними людьми и отличия от других. Это положение дополняется наличием подобного ощущения «идентичности-дифференциро-ванности» и у других участников коллективного действия. Идентифицировать себя с другими людьми значит, что некто в некотором смысле не делает различий между другими и собою и, следовательно, готов на жертвы ради этих других, идентичных с ним.
Далее, «идентичность-дифференцированость» функционирует так, что это неизбежно влечет появление общих, специфических для данной культуры позиций доверия и недоверия. Объяснительная сила этого аспекта культурной принадлежности зависит от истинности положения о том, что люди предсказуемым образом отличают тех, с кем они себя идентифицируют, от других и действуют по отношению к первым иначе, чем по отношению ко вторым.
Несмотря на весьма беглую характеристику социологических объяснений культурной принадлежности указанные измерения показывают, что вопреки утверждениям Ю. Эльстера [35, 97 и ел.], социологическую альтернативу моделям рационального выбора едва ли можно свести к объяснению через социальные нормы. Все многообразие возможных вариантов относительно когнитивных перспектив действующих и определения их идентичности, которые они привносят в действие, - также неотъемлемая часть социологии.
Кроме того, культуры всегда погружены одна в другую (иногда в очень сложных конфигурациях), в роли, ролевые комплексы, ролевые структуры, в подгруппы, труппы, этносы или «общества», «цивилизации» и/или во что-то иное. Культуры в социологических (а также политологических, антропологических) объяснениях определяются скорее через их границы, т. е. различия совокупностей действующих [18, 14 и ел.], чем через их внутреннюю сущность.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ В СТРУКТУРЕ
Пытаясь выработать объяснение, следует избегать сущ-ностного определения «социальной структуры», так как это понятие используют настолько разнообразно, что оно перестало быть критерием различения соперничающих школ в социологии [63]. С точки зрения действия, влияние структуры можно рассматривать либо в качестве ресурса, либо ограничения действия (или того и другого), при этом соответствующая система координат - это совокупность действующих, а не «общество» или «группа». Масштаб соответствующей совокупности определяется ех-planandum»oM и применяемой теорией. В реально существующей социологии совокупность действующих варьируется от диады до «мировой системы». В той мере, в какой в объяснениях с точки зрения местоположения в структуре вообще уделяется внимание культуре, соответствующая совокупность является также частью культуры или субкультурой.
В этом случае местоположение действующего в структуре означает местоположение по отношению к более или менее стабильно распределяемым ресурсам и ограничениям действия в популяции действующих. Это основной момент объяснений социологического типа. Он состоит в том, что независимо от наличия универсальных, стабильных предпочтений или специфических культурных ценностей, интерпретаций и отождествлений различия действующих по отношению к ресурсам и ограничениям носят ярко выраженный и довольно постоянный характер; эти различия влияют на их действия в сходных ситуациях.
Общепризнана неопределенность культуры. Но она гораздо легче поддается обобщенному рассмотрению, чем все точные понятия социальной структуры - противоречивые, а следовательно, и произвольные. Однако, как выясняется, основные характеристики «местоположения в структуре» как социологической переменной объяснения могут быть переданы следующей трихотомией. Существуют стандарты ресурсов и ограничений действующего, институционально влияющие на его местоположение, и институционально вторичное/'неинституционализированное распределение ресурсов и ограничений. Помимо этих двух типов структурирования институционального пространства, в которое помещена данная совокупность действующих, существует еще временной порядок, дифференцирующий последовательность, в которой действующие попадают в сходные ситуации, и задающий тем самым различия между вариативными ресурсами и ограничениями действующего. Иными словами, принадлежность к культуре определяет, кто входит в структуру, а кто находится вне ее, в то время как местоположение в структуре дифференцирует действующих на стоящих вверху и внизу [69, 23 и ел.].
Регулируемые социальные установки, «игры» или институты, в рамках которых действуют люди, обычно предполагают, что имеется какой-то стандарт институциональных установок. Он может быть уравнительным, но чаще всего демонстрирует внутренне присущую распределению ресурсов и ограничениям дифференциацию. Это относится к кровным родственникам и семье на протяжении практически всей человеческой истории, к большей части способов производства, к крупным организациям и политическим системам. Экономисты, которые иногда все-таки обращают внимание на такого типа различия между действующими, могут усмотреть такую первичную структуризацию в распределении исходных ресурсов. Марксисты увидели бы имущих и неимущих, а иногда и «противоречивое классовое положение» [79]. Феминистки же особо отметили бы разделение труда и власти по половому признаку. Исследователи организаций и политики провели бы разделение действующих на тех, кто принимает, проводит в жизнь и исполняет политические решения, или даже ввели бы какие-то иные различения в соответствии с распределением ресурсов власти и накладываемыми ограничениями.
Эти виды дифференциации действующих (в той мере, в какой они действительно имеют место) носят решающий характер, поскольку относятся к социальной обстановке, определяемой или, по меньшей мере, поддающейся определению различными типами действующих. В свою очередь, это означает, что местоположение в структуре дифференцирует рациональные интересы в данной обстановке, в рамках данной культуры. Еще один способ объяснения предложил Г. Зиммель, который показал "значимость чисел в социальной жизни" [62]. П. Блау [25] выступил как последователь Зиммеля и ввел в научный оборот целый ряд предположений о том, как размер группы, гетерогенность и неравенство членов группы влияют на социальное действие. Ю. Эльстер утверждал, что теория социального выбора лучше всего работает применительно к «действиям одного агента или многих агентов, но в рамках решения умеренно сложных проблем» [34, 27].
Универсальным, хотя и не самым важным, является другой тип местоположения в структуре. Речь идет о позициях центральности или периферийноети, неопределяемых, а существующих de facto. В частности, это касается положения действующих внутри культурных потоков (информирование о культурных целях, смыслах и идентичнос-тях) и доступа к другим действующим, например находящимся вне цепочек или ролевых структур. Значение этого фактора для объяснения зависит от того, насколько действия действующего задаются стандартом типичным для его стабильного местоположения (культурной центральности или маргинальности) [56], и/или местоположением в неинституционализированных сетях [взаимодействия] действующих [75]. Этот тип местоположения в структуре играл в свое время заметную роль в описаниях. Он использовался в социометрических картах «звезд» и «маргиналов» в сетях межличностных отношений, а также в подходе к изучению отношений на производстве с точки зрения неформальных групп.
Действующие оказываются в сходных ситуациях в разной временной последовательности, в силу чего ресурсы и ограничения действующих находятся под влиянием либо увеличения ресурсов (благодаря учету прошлого опыта), либо усиления ограничений (благодаря заранее сделанному выбору). В целом эта характеристика местоположения в структуре не имела большого значения для социологической теории. Она, видимо, более известена по работам экономического историка А. Гершенкрона [39], а также по работам исследующим процесс принятия решения в организациях, устроенных по принципу «мусорного бака», т. е. на основе временной сортировки [27]. Тем не менее, временная последовательность - это характеристика sui generis, имеющая очевидную значимость в исследованиях миграции и межэтнических отношений, в теориях политических массовых организаций и в глобальном развитии современности (что касается политической современности, ср. [70]).
КУЛЬТУРА И/ИЛИ СТРУКТУРА
Две совокупности вышеуказанных детерминант, находятся между собой в сложных отношениях первичности - вторичности, конкуренции - взаимодействия. Парсонси-анская социология, или наука о политической культуре [13; 74; 77], и марксизм представляют собой два варианта утверждения о первичности: первая приписывает первичность культуре, вторая - местоположению в структуре. В концепции политической социологии А. Пшеворского [58] описывается целый ряд конкурирующих основ при формировании привязанностей у действующих (в данном случае избирателей), причем конкурируют здесь между собой различные партии или «политические предприниматели». Примером взаимодействия культуры и структуры в неоклассической социологии является объяснение Р. Мерто-ном отклоняющегося поведения: «Моя основная гипотеза состоит в том, что отклоняющееся поведение с социологической точки зрения можно рассматривать как симптом разрыва связи между предписанными культурой стремлениями и определенными социальной структурой путями осуществления этих стремлений» [55, 188].
Здесь, вероятно, уместно напомнить читателю о задаче Данной статьи, скромно-всепримиряющей и в то же время амбициозно-критической. Она заключается в утверждении, что социология и общесоциологическая теория должны заниматься объяснением. Мы также стремились дать как бы общее описание имеющихся объяснений социологического типа (как собственно социологических, так и принадлежащих родственным дисциплинам), воздерживаясь при этом от категоричных заявлений о том, что должна делать социология. Мы - что особенно важно - не станем поднимать на щит какое-либо конкретное объяснение социологического типа, выбранное из широкого и представительного спектра соперничающих течений. Но, надо признать, что трактовка культуры и структуры в публикации столь небольшого объема неизбежно будет довольно поверхностна.
Поэтому данный ключевой раздел лучше всего завершить, указав на некоторые проблемы, присущие представленному здесь типу объяснения. Одна из них, конечно же, заключается в отсутствии каких бы то ни было попыток систематичной и в то же время несектантской кодификации всего, что было сделано по меньшей мере тремя поколениями социологов (классической социологией, первой неоклассической социологией Парсонса и его учеников и последователей, а также социологией, сформировавшейся в 70-80-е годы). Подобная ситуация способствует распылению сил, а не совместной творческой работе.
Другая проблема состоит в том, что хотя культуры представляют собой совокупности целей и норм, идентичностей и когнитивных/коммуникативных компетенции и это позволяет давать весьма сжатые, экономные объяснения, но все-таки объяснения с опорой на культуру скорее всего применимы лишь для особых случаев. Недавние социологические исследования в области культурного анализа, несмотря на всю их глубину и тщательность [12; 14], едва затрагивают эту проблему. Примером еще большей «культурной скупости» может служить модель «группа-координатная сетка», построенная Мэри Дуглас [31; 77].
РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЙСТВИЯ: ПРОСЛЕЖИВАНИЕ КАУЗАЛЬНЫХ ПЕТЕЛЬ
Невероятно расплодившееся племя социологов интересуется последствиями человеческого действия самого различного рода. Однако социологии (а также родственным ей антропологии, политической науке и историографии), призванной заниматься систематизированным объяснением, следовало бы особое внимание уделять лишь двум группам таких последствий - принадлежности к культуре и местоположению в структуре. Только тогда можно будет замкнуть каузальную петлю между действием и его результатами.
Основная трудность для анализа собственно социологических результатов - отсутствие четких представлений о том, как достигается равновесие в отношениях, складывающихся в параметрах культуры и структуры, несмотря на весь интерес к культурному и структурному порядку. Более того, по сути нет общепризнанных концепций динамики культурных и структурных процессов. Правда, существуют изощренные теории культурных циклов [7; 48], первоначально разработанные собственно социологией [64], а ныне развивающиеся вне ее рамок. В марксизме также содержатся некоторые предсказания относительно структурной динамики, централизации капитала, концепции рабочего класса, вне возрастающего социального характера производительных сил и т. д. От Спенсера и Дюркгейма пошла другая концепция структурной динамики, акцентирующая внимание на горизонтальной дифференциации местоположения в структуре [12; 52]. Этим проблемам посвящены также масштабные эмпирические исследования (совсем недавно осуществлен крупный проект, CASMIN, координатор - Джон Голдторп). Независимо от того, насколько оправдано это положение, по-моему, правильно будет сказать, что относительно динамики культуры и структуры единого мнения пока нет.
Почему и когда люди меняют представления о своей идентичности, например, причисляют себя к этнической группе или исключают себя из нее? Почему и когда люди становятся религиозными или отдаляются от религии? Или, формулируя более абстрактно, почему люди придерживаются какой-либо определенной культуры? При каких условиях они прекращают ее придерживаться? Что касается структуры, то при каких условиях меняются институциональные образцы распределения и неинституци-онализированное местоположение в структуре? Что заставляет нормы меняться? Когда и в какой мере государственное управление и/или коллективные действия способны изменить институциональную структуру или взаимное местоположение категорий в ней? Когда станет возможным уничтожить данное институционализированное распределение ресурсов? И наконец, вопрос более общего характера: каким образом усилия индивидуальных действующих преобразуются в совместный способ действия [11]?
В целом социологи недостаточно осознают задачу, состоящую в замыкании каузальных петель, хотя несколько обратных примеров все-таки имеется. В теории референтных групп Мертона [54] разработано положение о том, что принадлежность к культуре является, хотя бы отчасти, результатом действия, равно как и его источником. В концепциях государства благосостояния хорошо обоснован тезис о том, что распределение жизненных шансов во многом является результатом политического действия, которое берет начало в коллективной организации неимущих [50; 60].
ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА: КУЛЬТУРНЫЕ И СТРУКТУРНЫЕ СИТУАЦИИ
Рискнем теперь предложить наметки того, что нам представляется многообещающим направлением дальнейших разработок социологических и общесоциальных научных объяснений. Результаты действий можно разделить на две основные подгруппы. Они могут относиться только к тому, что происходит с культурой, к которой принадлежит действующий, или со структурой, место в которой он занимает. Однако эти результаты могут и скорее всего будут воздействовать на отношение к другим культурам и структурам. То, что относится к первой подгруппе, часто называют проблемой воспроизводства, или системными тенденциями социальной системы. Относящиеся ко второй подгруппе результаты действий ведут к историческим коллизиям, или rendez-vous manque's*, составляющим особо важную категорию ситуаций действия - ситуаций, определяемых культурой и структурой.
* Несостоявшимся встречам (фр.) - Прим. перев.
Культурно детерминированным действиям присуща сильная тенденция к воспроизведению культуры, что является источником характерного для нее чувства идентичности, ее (смыслового) мира, ценностей и норм. Правда, можно легко выделить по меньшей мере две характерные для воспроизводства культуры проблемы, которые, видимо, представляют исходный материал культурной динамики. Первая проблема - это социализация новых носителей культуры. Социализация всегда проходит сложно и может стать трудноосуществимой, если культура находилась под сильным влиянием уникального или специфического опыта предшествующего поколения. Вторая проблема заключается в том, что поддерживать стойкую приверженность какой-либо культуре в течение достаточно длительного времени довольно трудно, даже если этот период укладывается в жизненный цикл одного поколения.
До тех пор пока действующие ведут себя определенным образом в силу их местоположения в структуре ресурсов и ограничений, структурный исход этих действий является результатом игры - стратегического взаимодействия, которое может иметь (или не иметь) одно или несколько равновесных состояний. Первоначальное распределение может выравниваться, поляризоваться или оставаться прежним, несмотря на все попытки изменить его. Анализ стратегического взаимодействия был разработан в весьма стилизованных формах - рынков и простых игр, его наметки также встречаются и в историческом материализме и в теории организации еще со времен «железного закона олигархии» Р. Михельса. Тем не менее именно анализ стратегического взаимодействия следует поставить в центр исследования довольно запутанных структур, которые представляют для социологов особенный интерес.
Действия, связанные с явной или скрытой конкуренцией между культурами и структурами, в значительной степени детерминируют характеристики будущей культурной принадлежности и местоположения действующих в структуре. Подход к культурно-структурному анализу с точки зрения конкуренции до сих пор использовался социологами недостаточно систематично. Между тем этот подход кажется весьма перспективным, поскольку изменение культуры или культурной принадлежности и изменение структуры распределения означают переход к другой культуре или структуре; устойчивость же данной культуры или структуры означает невозможность установления другой культуры или структуры [69, 77 и ел.]. Суть этой идеи могут продемонстрировать три ярких примера подобных вариаций в конкуренции культур и структур.
При прочих равных условиях представляется, что степень изолированности более всего детерминирует устойчивость или изменчивость данной культуры или структуры. Чем изолированнее культура или структура, тем она стабильнее и меньше поддается попыткам что-либо изменить, если таковые предпринимаются. С точки зрения объяснения действия, большая изоляция культуры или структуры влечет за собой большую вероятность того, что они будут детерминировать своих носителей. Относительная изолированность коммунистическо-социалистической культуры на Балканах, должно быть, явилась одной из причин того, что во время волнений 1989 г. и выборов 1990 г. она оказалась более способной противостоять воздействию антиком-мунистических-антисоциалистических выступлений в Албании, Сербии, Болгарии, Румынии, чем в Словении, Хорватии, Чехословакии, Восточной Германии, Венгрии и Польше. Изолированность структуры означает, что в рамках данного распределения ресурсов доступ действующих к другим группам ресурсов в известной мере ограничен. Например, люди без собственности и без контроля над организацией оказываются лишенными ресурсов коллективной власти (посредством мобилизации личных ресурсов или доступа к несогласной части правящей элиты). И поскольку здесь понятие «структура» относится к модели распределения, то именно асимметричная изолированность от совокупности ресурсов или асимметричный доступ к ней имеют решающее значение. Если в данной структуре имущие могут противопоставить коллективной мобилизации неимущих свои ресурсы, например военную силу, то первоначальная структура скорее всего, при прочих равных условиях, останется стабильной. В Восточной Европе изолированность власть имущих от военных ресурсов Советского Союза стала решающим компонентом структурной ситуации осенью 1989 г.
Взаимоотношение неизолированных культур зависит от относительного структурного местоположения принадлежащих к этим культурам индивидов, которое определяется извне. В первую очередь речь идет о способностях к принуждению, а также об уровне относительного благосостояния. Точно также взаимоотношение неизолированных структур определяется относительной культурной позицией и степенью уверенности в себе привилегированных и непривилегированных носителей культуры. Здесь общую ситуационную переменную можно обозначить как относительное культурно-структурное сцепление.
При условии открытости влиянию чужой культуры, чем больше относительное благосостояние или власть носителей данной культуры, тем она становится стабильнее и привлекательнее для носителей других культур. Изолированность и относительную власть надо рассматривать в качестве мультиплицирующих переменных. Например, уменьшение изолированности и увеличение разрыва в уровне благосостояния сделали социалистические культуры Восточной Европы весьма уязвимыми и непривлекательными в период 80-х годов. Механизм сцепления культуры и структуры можно рассмотреть и с точки зрения структуры. Так, в Восточной Европе (как и в Западной Германии) сразу после второй мировой войны капиталистическая структура экономики была сильно дискредитирована тем, что ассоциировалась с экономической отсталостью, депрессией и потерпевшим крах нацистским режимом. Идея повального обобществления пользовалась широкой поддержкой. Однако позже (а в Западной Германии очень скоро) исключительные права собственности и значительная дифференциация доходов стали уже рассматриваться в качестве необходимых опор свободы и демократии, поскольку первые стали уже ассоциироваться с послевоенным бумом демократии на Западе.
На шансы данной культуры или структуры подвергнуться влиянию другой культуры или структуры, видимо, должна влиять и степень сродства двух и более культур и структур, находящихся в контакте друг с другом. Продолжим пример с Восточной Европой. Здесь это положение можно проиллюстрировать тем, что наиболее раннее и сильное проникновение западного либерализма и либерального консерватизма произошло в регионах распространения западных религий - католицизма и протестантизма. При контакте данной культуры или структуры с другими культурами или структурами элементы последних, наиболее близкие первым, с большей вероятностью будут приняты носителями исходной культуры или исходного структурного местоположения.
Ни одна из вышеупомянутых ситуационных переменных ни в коем случае не оригинальна. Однако их появление в этом контексте подразумевает, что не существует пропасти между объяснением с точки зрения структурных характеристик действующих и объяснением с точки зрения их ситуационного выбора. Более того, оба объяснения могут прекрасно дополнять друг друга.
Делать прогноз последствий для всех вышеуказанных культурных и структурных ситуаций легче, исходя из выбора действующего. Уменьшение изолированности означает расширение спектра выбора и появление вероятности того, что хотя бы некоторые действующие будут совершать выбор из альтернатив, от которых они раньше были отрезаны. Вероятнее всего следует ожидать, что больше людей будет оказывать предпочтение культуре, носители которой обладают властью и богатством, нежели культуре, для которой характерны беспомощность и бедность; они будут скорее предпочитать культуру, предоставляющую больше шансов достичь власти и благосостояния, нежели культуру, предоставляющую меньше таких шансов. (О причинах выбора в пользу национализма см. [61]). Что касается структуры, то нет ничего удивительного, если люди станут поддерживать модель распределения, ассоциирующуюся скорее с высоким, нежели низким культурным престижем. Наконец, можно ожидать, что люди будут проявлять большую готовность принять или сохранять культуру и структуру, родственные чему-то положительному и знакомому; или, принадлежа к двум сосуществующим культурам или структурам, они скорее будут адаптировать их таким образом, чтобы сделать их еще более родственными.
Однако не стоит забывать, что принадлежность к культуре конститутивна для действующих, а не является предметом их выбора. Хотя сознательный выбор и может, конечно, быть существенной частью процессов восприятия или отвержения культуры, все же действующий едва ли может выбирать самые важные (в силу оказываемого на него влияния) элементы культуры только исходя из имеющихся возможностей, независимо от своей предшествующей культурной принадлежности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Концептуализация - важное и правомерное теоретическое занятие. Одна из основных задач социальной науки заключается в придании смысла событиям, например краху режимов Восточной Европы в 1989 г. Придание социального смысла событиям и явлениям, во-первых, состоит в том, чтобы отличить нечто в социальном пространстве от других явлений и, во-вторых, определить место события или явления в потоке времени. В данном контексте это означает ответить на следующие вопросы: «Каков тип этой революции? Каков ее исторический смысл?»
Тем не менее при всем том, что уже было сказано, сверхзадача социальной науки состоит в объяснении иных вопросов: «Почему люди действуют именно таким образом? Почему их действия имеют именно такие следствия (или не имеют их)?»
Объяснения, предлагаемые социальными науками, можно дифференцировать в зависимости от того, считаются ли в них объясняющей переменной сами действующие или ситуации, в которых действующие находятся. В моделях рационального выбора действующие считаются заданными величинами, а ситуации - переменными. Люди действуют именно таким образом, потому что такова ситуация, и они действуют иначе, когда изменяется ситуация, в которой они оказываются. В социологии и родственных ей теоретических построениях - в политической науке,' антропологии, демографии, педагогике и социологически ориентированной историографии - наоборот, принадлежность к культуре и/или местоположение действующих в структуре считают основной объясняющей переменной. Люди действуют вполне определенным образом, потому что принадлежат к определенной культуре и/или потому, что обладают определенными ресурсами для этого. И действия людей различны в той мере, в какой различаются культуры, носителями которых они являются, и/или в какой различаются их местоположения в структуре.
Здесь важнее и плодотворнее выявить то, что является общим для большинства социологов, и соотнести это общее с другими видами объяснения в социальной науке, а не сводить дело к размежеванию конкурирующих теоретиков и соперничающих парадигм. Этот социологический «основной поток» требует всеобъемлющей кодификации как основы для признания достижений и определения лакун, а, следовательно, и для дальнейших построений. Однако многообещающим может быть и соединение социологического видения дифференцированных действующих с близкими по духу интеллектуальными усилиями по развитию методов структурного анализа. Надо посмотреть, как различается поведение действующих, принадлежащих к разным культурам и имеющих разное местоположение в структуре, в различных культурных и структурных ситуациях.
В свете этой последней задачи подход с точки зрения рационального выбора представляется плодотворным для понимания того, как происходит изменение или сохранение действующими их культурной принадлежности и местоположения в структуре в результате их выбора и поступков. Освобожденная от допущения о стабильности универсальных предпочтений интерпретация человеческого действия как проявления рационального выбора при наличии ограничений является центральным звеном того, что М. Вебер называл «понимающей» социологией. Целерацио-нальное поведение, или «поведение, доступное рациональному толкованию», очень часто позволяет конструировать наиболее подходящий «идеальный тип», считал Вебер [2, 496]. Теория рационального выбора занимает законное место в социологии, и противоборство с хорошо разработанными моделями первой может способствовать развитию последней. Однако недавняя междисциплинарная дискуссия вновь укрепила старое социологическое убеждение в том, что нормы, верования и представления об идентичности несводимы к целерарациональности. Разрядить напряженность между этими двумя соперничающими выводами - вот, на мой взгляд, самый верный путь.
ЛИТЕРАТУРА
1.Беккер Г. С. Экономический анализ и человеческое поведение // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 1. С. 24 P. 1-21.
2.Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии [1922] // М. Вебер. Избранные произведения. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1990.
3.Льюс Р. Д., Райфа Г. Игры и решения. Пер. с англ. // Иностранная литература, 1961.
4.ТернерДж. Аналитическое теоретизирование// THESIS. 1994. Т. 2. Вып. 1. С. 119-157.
5.Уильямсон О. И. Поведенческие предпосылки современного экономического анализа // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 3. С. 39-49.
6.Хабермас Ю. Отношения между системой и жизненным миром в условиях позднего капитализма // THESIS. 1993. Т. 1. Вып. 2. С. 123- 136.
7.Шлезингер А. М. Циклы американской истории. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1992.
8.Alexander J. The centrality of the classics. // Social theory today / Ed. by A. Giddens and J. Turner. Cambridge: Polity Press, 1987.
9.Alexander J. Action and its improvements. N.Y.: Columbia University Press, 1988.
10.Alexander J. On the Autonomy of culture. Introduction // Culture and Society: Contemporary Debates/ Ed. by J. Alexander and S. Siedman. Cam-brige: Cambridge University Press, 1990.
11.Alexander J. el al. (eds.). The micro-macro link. Berkeley: University of California Press, 1987.
12.Alexander J., Colony P. (eds.). Differentiation theory and social change. N. Y: Columbia University Press, 1990.
13.Almond G., Verba S. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. Princeton: Princeton University Press, 1963.
14.Archer M. Culture and agency. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
15.Axelrod R. The evolution of cooperation. N.Y: Basic Books, 1984.
16.Axelrod R. Evolutionary approach to norms //American Political Science Review. 1986. Vol. 86. № 4. P. 1095-1111.
17.Ball-Rokeach S. J. Media Linkages of the Social Fabric // The social fabric / Ed. by J. Short. Beverly Hills: Sage, 1986. P. 305-318.
18.Barth F. (ed.). Ethnic groups and boundaries. Boston: Little Brown, 1969.
19.Basu K. et al. The growth and decay of custom: the new institutional economics in economic history // Explorations in Economic History. 1987. №24. P. 1-21.
20.Becker G. The economic approach to human behavior. Chicago: Chicago University Press, 1976.
21.BergerJ., Wagner D. and Zelditch Jr. M. Theoretical and metatheo-retical themes in expectation states theory // H. J. Helle and S. N. Eisenstadt (eds.). Microsociological Theory. L.: Sage, 1985.
22.Berkowitz S. D. Markets and market areas: some preliminary formulations // Social structures: a network approach / Ed. by B. Wellman and S. D. Berkowitz. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 261-303.
23.Black D. (ed.). Toward a general theory of social control. Orlando (FL): Academic Press, 1984.
24.Blalock H. Basic dilemmas in the social sciences. Beverly Hills: Sage, 1984.
25.Blau P. Inequality and heterogeneity. N.Y.: The Free Press, 1977.
26.Blau P. Contrasting theoretical perspectives // The micro-macro link /Ed. by J. Alexander et al. Berkeley, University of California Press, 1987. P. 71-85.
27.Cohen M., March J. K., Olsen J. A garbage can model of organizational choice // Administrative Science Quarterly. 1972. № 17. P. 1-25.
28.Coleman J. Foundations of social theory. Cambridge (Mass.): The Belknap Press, 1990.
29.Collins R. Theoretical sociology. San Diego: Harcourt Brace Jova-novich, 1988.
30.Douglas M. How institutions think. Syracuse (NY): Syracuse University Press, 1986.
31.Douglas M., Wildavsky A. Risk and culture. Berkeley: University of California Press, 1982.
32.Elster J. Sour grapes. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
33.Elster J. (ed.). Rational choice. Oxford: Blackwell, 1986.
34.Elster J. Solomonic judgements. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
35.Elster J. The cement of society. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
36.Etzioni A. The moral dimension. N.Y.: The Free Press, 1988.
37.Field A. J. The problem with neoclassical institutional economics: a critique worth special reference to the North-Thomas model of Pre-1500 Europe // Exploration in Economic History. 1981. № 18. P. 174-198.
38.Field A. J. Microeconomics, norms, and rationality // Economic Development and Cultural Change. 1984. № 32. P. 683-711.
39.Gerschenkron A. Economic backwardness in historical perspective. Cambridge (MA): Belknap Press, 1962.
40.GiddensA. The constitution of society. Cambridge: Polity Press, 1984.
41.Giddens A. Sociology. Houndmills Basingstoke: Macmillan, 1986.
42.Giddens A. Social theory and modern sociology. Cambridge: Polity Press, 1987.
43.Giddens A. A reply to my critics // Social theory of modern society. Ed. by D. Held and J. Thompson. Anthony Giddens and his critics. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
44.Giddens A., Turner J. (eds.). Social theory today. Cambridge: Polity Press, 1987.
45.Granovetter M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness // American Journal of Sociology. 1985. Vol. 91 P. 481-510.
46.HabermasJ. Theorie des kommunikativen Handelns. 2 vols. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1982.
47.Harsanyi’ J. Papers in game theory. Dordreicht: D. Reidel, 1982.
48.Hirschman A. Shifting involvements. Oxford: Basil Blackwell, 1982.
49.Jervis R. Realism, game theory, and cooperation // World Politics. 1988. Vol. 40, P. 317-349.
50.Korpi W. The democratic class strugle. L.: Routledge, 1983.
51.Krasner S. Sovereignty: an institutional perspective // Comparative Political Studies. 1988. Vol. 21. P. 66-94.
52.Luhman N. (ed.). Soziale Differenzierung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1985.
53.March J., OlsenJ Rediscovering institutions. N. Y: Free Press, 1989.
54.Merlon R. Social theory and social structure. Glencoe (П.): The Free Press, 1957.
55.Merlon R. Social theory and social structure. 2d ed. N.Y.: The Free Press, 1968.
56.Park R. Human migration and marginal man // R. Park. Race and Culture. Glencoe: Free Press, 1964. P. 346-356.
57.Parsons T. The structure of social action. N. Y: McGraw Hill, 1937.
58.Przeworsky A. Capitalism and social democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
59.Przeworsky A. Le defi de la methodologie individualiste a 1’analyse marxiste // Sur 1’individualisme /Ed. by P. Birnbaum and J. Le9a. P.: Presses de la Fondation Nationale des Sciences Politiques, 1986. P. 77-106.
60.Ringen A. The possibility of politics. Oxford: Clarendon Press, 1987.
61.Rogowsky R. Causes and varieties of nationalism // New Nationalisms of the Developed West /Ed by E. Tiriyakin and R. Rogowsky. Boston: Houghton Mifflin, 1985.
62.Simmel G. Quantitative aspects of the group [1928] // The Sociology of Georg Simmel /Ed. by K. Wollf. N. Y: The Free Press, 1964. P. 87-177.
63.Smelser N. Social structure // Handbook of Sociology/ Ed. by N. Smel-ser. Beverly Hills: Sage, 1988. P. 103-129.
64.Sorokin P. Social and cultural dynamics. 4 vols. N. Y: American Book Company, 1937-1941.
65.Stigler G., Becker G. De gustibus non est disputandum // American Economic Review. 1977. Vol. 67. P. 76-90.
66.Stinchcombe A. Merton’s theory of social structure // The idea of social structure. Papers in honor of Robert K. Merton/ Ed. by L. Coser. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1975.
67.SwedbergR. (ed.). Economics and sociology. Princeton: Princeton University Press, 1990.
68.Sztompka P. R. K. Merton. An intellectual profile. Houndmills, Ba-singstoke: Macmillan, 1986.
69.Therborn G. The ideology of power and the power of ideology. L.: Verso, 1980.
70.Therborn G. The right to vote and the four world routes to/through modernity // The State in Theory and History/ Ed. by R. Torsendahl. L.: Sage, 1991.
71.Tsebelis G. Nested games. Berkeley: University of California Press, 1990.
72.Turner J. Theory of social interaction. Cambridge: Polity Press, 1988. 72a. Turner J. The structure of sociological theory. Chicago: Illinois the Dorsly Press, 1986.
73.Van Parijs Ph. Evolutionary explanation in the social sciences: an emerging paradigm. Totowa (N. J.): Rowman and Littlefield, 1981.
74.Verba S. et al. Elites and the idea of equality. Cambrige (MA): Harvard University Press, 1987.
75.Wellman B. Structural analysis: from method and metaphors to theory and substance // Social structures: a network approach / Ed. by B. Wellman and S. D. Berkowitz. Cambridge (MA): Cambridge University Press, 1988. P. 19-61.
76.White H. Varieties of markets // Social structures: a network approach / Ed. by B. Wellman and S. D. Berkowitz. Cambridge (MA): Cambridge Univer-sity Press, 1988, P. 221-260.
77.Wildavsky A. Choosing preferences by constructing institutions: a cultural theory of preference formation // American Political Science Review. 1987. Vol. 81. P. 3-21.
78.Williamson O. The economic institutions of capitalism. N.Y.: The Free Press, 1985.
79.Wright E. O. Classes. L.: Verso, 1985.
Джонатан Тернер АНАЛИТИЧЕСКОЕ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ*
Термин «аналитическое», признаю, расплывчат, и все-таки я использую его здесь для описания ряда теоретических подходов, которые допускают следующее: мир вне нас существует независимо от его концептуализации; этот мир обнаруживает определенные вневременные, универсальные и инвариантные свойства; цель социологической теории в том, чтобы выделить эти всеобщие свойства и понять их действие. Боюсь, эти утверждения вызовут лавину критических нападок и сразу же сделают теоретическую деятельность предметом философского спора, неразрешимого по своей природе. В самом деле, обществоведы-теоретики и так потратили слишком много времени на защиту либо на подрыв этих позиций «аналитического теоретизирования» и в результате оставили в небрежении главную задачу всякой теории: понять, как работает социальный мир. Я не хочу превратиться во второго братца Кролика, увязшего в этой философской трясине, но позвольте мне все же поставить в общем виде некоторые философские проблемы.
* Jonathan H. Turner. Analytical Theorizing. In: A. Giddens and J. Turner (eds.). Social Theory Today. Stanford: Polity Press, 1987, p. 156-194. © Polity Press, 1987.
ФИЛОСОФСКИЕ СПОРЫ
Аналитическая теория предполагает, что, говоря словами А. Р. Радклифф-Брауна, «естественная наука об обществе» возможна [56]. Это убеждение очень сильно выражено У титулованного основателя социологии Огюста Конта, который доказывал, что социология может быть «позитивной наукой». Поэтому аналитическая теория и позитивизм тесно связаны, но природа этой связи затемнена тем, что позитивизм изображают очень по-разному. В отличие от некоторых современных представлений, ассоциирующих позитивизм с «грубым эмпиризмом», Конт настаивал, что «никакое истинное наблюдение явлений любого рода невозможно, кроме как в случае, когда его сначала направляет, а в конце концов и интерпретирует некая теория» [18, t. 1, 242; 2]. Фактически Конт считал «серьезной помехой» научному прогрессу «эмпиризм, внедренный [в позитивизм] теми, кто, во имя беспристрастности, хотел бы вообще запретить пользование какой-либо теорией» [18, t. 1, 242]. Таким образом, позитивизм означает использование теории для интерпретации эмпирических событий и, наоборот, опору на данные наблюдений для оценки правдоподобия теории. Но какова природа теории в позитивизме Конта? Начальные страницы его «Позитивной философии» говорят нам об этом: «Основной характер позитивной философии выражается в признании всех явлений подчиненными неизменным, естественным законам, открытие и сведение числа которых до минимума и составляет цель всех наших усилий, причем мы считаем, безусловно, тщетными разыскания так называемых причин - как первичных, так и конечных. Спекулятивными размышлениями о причинах мы не смогли бы решить ни одного трудного вопроса о происхождении и цели чего бы то ни было. Наша подлинная задача состоит в том, чтобы тщательно анализировать условия, в которых происходят явления, и связать их друг с другом естественными отношениями последовательности и подобия. Наилучший пример подобного объяснения - учение о всемирном тяготении» [18, t. 1, 5-6; см. также: 3; 8].
В этих высказываниях содержится ряд важных положений. Во-первых, социологическая теория включает поиски абстрактных естественных законов, которых должно быть относительно немного. А главная цель теоретической деятельности - по возможности уменьшить число законов настолько, чтобы предметом теоретического анализа остались инвариантные, базисные, опорные свойства данного универсума.
Во-вторых, причинный и функциональный анализ непригодны. Здесь Конт, видимо, принимает выводы Д. Юма, согласно которым определить причины явлений невозможно, но добавляет сходное предостережение и против анализа в категориях намерений, конечных целей или потребностей, которым эти явления служат. Печально, что социология проигнорировала предостережения Конта. Эмиль Дюркгейм поистине должен был «поставить Конта с ног на голову», чтобы защищать и причинный, и функциональный анализ в своих «Правилах социологического метода» 1895 г. [2]. Я думаю, что было бы гораздо мудрее в рамках нашей теоретической дисциплины следовать контовским «старым правилам социологического метода», а не предложениям Дюркгейма и, как я покажу вскоре, определенно не рекомендациям Гидденса и других относительно «Новых Правил» социологического метода [27]. К сожалению, социологическая теория больше следовала советам Дюркгейма, нежели Конта, а ближе к нашему времени склонна была доверять множеству антипозитивистских трактатов. Общий итог этого - отвлечение на второстепенное и размывание строгости теоретизирования в социологии.
В-третьих, социологические законы, согласно Конту, следовало моделировать по образцу физики его времени, но форма этих законов осталась очень неясной. Термины вроде «естественных отношений последовательности и подобия» неточны, особенно после того, как проблема поиска причин была элиминирована. Борясь с этой неясностью, более современные трактовки позитивизма в философии не совсем верно истолковали контовскую программу и выдвинули строгие критерии для формулировки «естественных отношений» между явлениями (см., напр.: [14; 34]). Этот новый позитивизм часто предваряется определением «логический» и принимает следующую форму: абстрактные законы выражают существование неких регулярностей в универсуме; такие законы «объясняют» события, когда предсказывают, что будет в конкретном эмпирическом случае; движущая сила этого объяснения - «логические де-Дукции» от закона (explanans) к некоторой группе эмпирических явлений (explicandum) [37]. Эти «логические дедукции» принимают форму использования законов в качестве посылки, позволяющей ввести в оборот высказывания, которые «связывают» или «сближают» закон с некоторым общим классом эмпирических явлений, и затем сделать прогноз о том, чего следует ожидать для одного конкретного эмпирического случая внутри этого общего класса явлений. Если прогноз не подтверждается данным эмпирическим случаем, теорию подвергают переоценке, хотя здесь существует разногласие, считать ли теорию с этого момента «фальсифицированной» [7; 55], или же неудача в ее «подтверждении» просто требует серьезного пересмотра теории [42].
Такая форма позитивизма «заполняет» неясные места у Конта чрезмерно строгими критериями, которым большинство аналитических теоретиков не в состоянии следовать и не следует. Правда, они часто отдают этим критериям словесную дань в своих философско-методологических размышлениях, но в реальной работе мало руководствуются ими. Для этой неспособности оставаться в смирительной рубашке логического позитивизма есть веские причины, и они очень важны для понимания аналитического теоретизирования. Остановимся на них подробнее.
Во-первых, критерий предсказания нереалистичен. Когда ученые вынуждены работать в естественных эмпирических системах, прогноз всегда затруднен, поскольку невозможно контролировать влияние посторонних переменных. Эти посторонние силы могут быть неизвестными или неподдающимися измерению с помощью существующих методик, и даже если они известны или измеримы, могут возникнуть моральные и политические соображения, удерживающие нас от контроля. В этой ситуации оказываются не только обществоведы, но и естественники. Признавая трудности предсказания, я, однако, не предлагаю, чтобы социология прекратила попытки стать естественной наукой, подобно тому, как геология и биология не пересматривают свое научное значение всякий раз, когда не могут предсказать соответственно землетрясений или видообразования.
Во-вторых, отрицание причинности - это очень слабое место в некоторых формах позитивизма, будь то версия Конта или более современных философов. Такое отрицание приемлемо, когда логические дедукции от посылок к заключению могут считаться мерилом объяснения, но аналитическая теория должна также заниматься действующими процессами, способными связывать явления. Т. е. нам важно знать, почему, как и какими путями производят определенный результат инвариантные свойства данного универсума. Ответы на такие вопросы потребуют анализа основополагающих социальных процессов и, безусловно, причинности. В зависимости от позиции теоретика, причинность может быть или не быть формальной частью законов, но ее нельзя игнорировать [37].
В-третьих, логический позитивизм допускает, что исчисления, по которым осуществляются «дедукции» от посылок к заключениям, или от explanans к explicandum, недвусмысленны и ясны. В действительности это не так. Многое из того, что составляет «дедуктивную систему» во всякой научной теории, оказывается «фольклорными» и весьма непоследовательными рассуждениями. Например, синтетическая теория эволюции непоследовательна, хотя некоторые ее части (как генетика) могут достичь известной точности. Но когда эту теорию используют для объяснения каких-то событий, то руководствуются не принципами строгого следования некоторому логическому исчислению, а скорее согласования с тем, что «кажется разумным» сообществу ученых. Но утверждая это, я отнюдь не оправдываю бегство к какой-нибудь новомодной версии герменевтики или релятивизма.
Все эти соображения требуют от социологической теории смягчить требования логического позитивизма. Мы должны видеть свою цель в выделении и понимании инвариантных и основополагающих черт социального универсума, но не быть интеллектуальными деспотами. Кроме того, аналитическую теорию должны интересовать не регулярности per se, а вопросы «почему» и «как» применительно к инвариантным регулярностям. Поэтому мое видение теории, разделяемое большинством аналитических теоретиков, таково: мы способны раскрыть абстрактные законы инвариантных свойств универсума, но такие законы будут нуждаться в дополнении сценариями (моделями, описаниями, аналогиями) процессов, лежащих в основе этих свойств. Чаще всего в объяснение не удается даже включить точные предсказания и дедукции, главным образом потому, что при проверке большинства теорий невозможен экспериментальный контроль. Вместо этого объяснение будет представлять собой более дискурсивное применение абстрактных суждений и моделей, позволяющих понять конкретные события. Дедукция будет нестрогой и даже метафорической, став, конечно, предметом аргументации и обсуждения. Но социология здесь вовсе не уникальна - большинство наук идет тем Же путем. Хотя анализ науки Томасом Куном далек от совершенства, он привлек внимание к социально-политическим характеристикам любых теорий [4]. И потому социологам надо отказываться от поисков инвариантных свойств ничуть не больше, чем физикам после признания, что многое в их науке сформулировано, по меньшей мере первоначально, весьма неточно и что на них самих влияют «политические переговоры» внутри научного сообщества.
Заключим этот раздел о философских спорах кратким комментарием к критике позитивизма и очень вольным очерком ее догматов. Один из критических доводов таков, что теоретические высказывания суть не столько описания или анализ независимой, внешней реальности, сколько построения и продукты творчества ученого. Теория говорит не о действительности вне нас, но скорее об эстетическом чутье ученых или об их интересах. Есть и такой вариант критики: теории не проверяемы «твердо установленными фактами» внешнего мира, потому что сами «факты» тоже связаны с интересами ученых и с такими «исследовательскими протоколами», которые политически приемлемы для научного сообщества. Вдобавок факты будут интерпретированы или проигнорированы в свете этих интересов ученых. Общий итог, доказывают критики, таков, что предполагаемая самокоррекция в процессе научной проверки теории и гипотез из нее - иллюзия.
По моему ощущению, в этой критике что-то есть, но все же ее скорее драматически преувеличивают. В известном смысле все понятия тяготеют к реификации, все «факты» искажены нашими методами и до некоторой степени подвергнуты интерпретации. Но несмотря на это, накапливается знание о мире. Оно не может быть целиком субъективным или искаженным: иначе ядерные бомбы не взорвались бы, термометры не работали, самолеты не взлетали и т. д. Если мы подойдем к построению теории в социологии серьезно, знание о социальном мире будет накапливаться, хотя бы таким же извилистым путем, как в «точных науках». Очень постепенно внешний мир навязывает себя в виде поправок к теоретическому знанию.
Вторая общая линия критики аналитического подхода, защищаемого мною, более специфична для социальных наук и затрагивает содержательную природу социального универсума. Существуют многочисленные варианты этой аргументации, но главное в ней - идея, что сама природа этого универсума непрочна и очень пластична вследствие способности человеческих существ к мышлению, саморефлексии и действию. Законы, относящиеся к неизменному миру, в обществоведении непригодны или по меньшей мере действуют временно, так как социальный универсум постоянно переструктурируется благодаря рефлексивным актам людей. Более того, люди могут воспользоваться теориями социальной науки для переструктурирования его таким образом, чтобы устранить условия, при которых действуют подобные законы [29]. Поэтому законы и прочие теоретические инструменты вроде моделирования в лучшем случае преходящи и годятся для определенного исторического периода, а в худшем - они не приносят пользы, поскольку сущность, базовые черты социального универсума постоянно меняются.
Многие из тех, кто давал такие рекомендации (от Маркса до Гидденса), нарушали их в своих собственных работах. К примеру, было бы совершенно незачем корпеть над Марксом, как вошло в привычку у современных теоретиков, если бы мы не чуяли, что он открыл нечто фундаментальное, общее и инвариантное в динамике власти. Или зачем Гид-денсу [28, 29] заботиться о развитии «теории структура-ции», которая постулирует известные отношения между инвариантными свойствами социума, если бы он не считал, что тем самым проникает под поверхность исторических изменений к самой сердцевине человеческого действия, взаимодействия и организации?
Многие такие критики аналитического теоретизирования путают закон и эмпирическое обобщение. Разумеется, реальные социальные системы изменяются, как изменяются солнечная, биологическая, геологические и химические системы в эмпирическом мире. Но эти изменения не меняют соответственно законов тяготения, видообразования, энтропии, распространения силы или периодической таблицы элементов. Фактически изменения происходят в согласии с этими законами. Люди всегда действовали, взаимодействовали, дифференцировали и координировали свои социальные отношения; и это уже дает некоторые из инвариантных свойств человеческих организаций и тот материал, к которому следует применять наши чрезвычайно абстрактные законы. Капитализм, нуклеарные семьи, кастовые системы, урбанизация и другие исторические явления - это, Конечно, переменные, но они - не предмет теории, как Убеждают многие. Таким образом, хотя структура социального универсума постоянно изменяется, главные движущие силы, лежащие в ее основе, не меняются.
Третье направление критики аналитического теоретизирования представляют сторонники так называемой «критической теории» (см., напр., [32]). Они доказывают, что позитивизм рассматривает существующие условия как определяющие то, каким должен быть социальный мир. В результате позитивизм не может предложить никаких альтернатив существующему положению вещей. Занимаясь закономерностями, относящимися к тому, как структурирован социум в настоящее время, позитивисты идеологически поддерживают существующие условия господства человека над человеком. «Свободная от ценностей» наука становится, таким образом, инструментом поддержки интересов тех, кому наиболее благоприятствуют существующие социальные порядки.
Эта критика не лишена некоторых достоинств, но как альтернатива позитивизму «критическая теория» склонна порождать формулировки, часто не имеющие опоры в реальных действующих силах универсума. Многое в «критической теории» представляет собой либо пессимистическую критику, либо безнадежно утопические построения, либо то и другое (см., напр., [33]).
Более того, я думаю, что эта критика основана на ущербном видении позитивизма. Теория должна не просто описывать существующие структуры, но раскрывать глубинную динамику этих структур. Вместо теорий капитализма, бюрократии, урбанизации и других комплексов эмпирических событий нам нужны соответственно теории производства, целевой организации, разрушения экологического пространства и других общих процессов. Исторические случаи и эмпирические проявления - это не содержание законов, а оселок для проверки их правдоподобия. Например, описания регулярных процессов в капиталистических экономиках суть данные (не теория) для проверки выводов из абстрактных законов производства.
Можно, конечно, доказывать, что такие «законы производства» некритически принимают status quo, но я предпочитаю думать, что формы человеческой организации требуют непрестанного поддержания производства и, следовательно, представляют родовое ее свойство, а не слепое одобрение существующего положения дел. Многим «критическим теориям» недостает понимания, что существуют инвариантные свойства, которые теоретики не могут «убрать по желанию» своими утопиями. Карл Маркс сделал подобную ошибку в 1848 г., предположив, что централизованная власть «отомрет» в сложных, дифференцированных системах [5]; не так давно Юрген Хабермас [31; 33] выдвинул утопическую концепцию «коммуникативного действия», которая недооценивает степень искажения всякого взаимодействия в сложных системах.
Я хочу подчеркнуть два аспекта. Во-вторых, поиск инвариантных свойств даже уменьшает вероятность появления утверждений в поддержку status quo. Во-вторых, допущение, что вообще нет никаких инвариантных свойств, провоцирует появление теорий, все менее способных понять, что мир нелегко, а иногда и вовсе невозможно подчинить идеологическим прихотям и фантазиям теоретика.
Было бы неумно и дальше углубляться в эти философские вопросы. Позиция аналитического теоретизирования по ним ясна. Реальный спор внутри этого направления ведется о выборе лучшей стратегии для разработки системы теоретических высказываний об основных свойствах социального мира.
РАЗЛИЧНЫЕ СТРАТЕГИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ
По моему мнению, имеется четыре основных подхода к построению социологической теории: метатеоретические схемы, аналитические схемы, пропозициональные схемы и моделирующие схемы (более детальное описание см. [63; 8]). Но внутри этих основных подходов имеются противоречивые варианты, так что на практике видов схем встречается значительно больше четырех.
Метатеоретизирование
Многие в социологии доказывают, что для продуктивности теории важно заранее наметить основные «предпосылки», которые руководили бы теоретической деятельностью. Т. е. еще до этапа теоретизирования необходимо поставить вопросы типа: Какова природа человеческой деятельности, взаимодействия, организации? Каков наиболее подходящий набор процедур для развития теории и какой род теории возможен? Каковы центральные темы или критические проблемы, на которых должна сосредоточиться социологическая теория? И так далее. Такие вопросы и весьма пространные трактаты, ими вдохновляемые (см., напр., [9]), втягивают теорию в старые и неразрешимые философские споры: идеализм против материализма, индукция против дедукции, субъективизм против объективизма и т. п.
Что делает эти трактаты «мета» (т. е., как говорит словарь, «приходящими после» или «следующими за»), так это то, что названные философские темы поднимаются в контексте очередных пересмотров наследия «великих теоретиков» (излюбленными фигурами оказываются здесь Карл Маркс, Макс Вебер, Эмиль Дюркгейм и, ближе к нам, Толкотт Парсонс). Хотя эти трактаты всегда учены, переполнены длинными примечаниями и подходящими цитатами, у меня остается впечатление, что они часто подменяют настоящую теоретическую деятельность. Они вовлекают теорию в круг неразрешимых философских проблем и легко превращаются в схоластические трактаты, теряющие из виду цель всякой теории: объяснять, как работает социальный мир. Поэтому метатеоретизирование бывает интересной философией и временами захватывающей историей идей, но это не теория и его принципы нелегко использовать в аналитическом теоретизировании.
Аналитические схемы
Существенную часть теоретической деятельности в социологии составляет построение абстрактных систем из категорий, которые предположительно обозначают ключевые свойства универсума и важнейшие отношения между этими свойствами. По сути, подобные схемы представляют собой типологии, отображающие основные движущие силы универсума. Абстрактные понятия расчленяют основные его свойства и затем упорядочивают их таким образом, чтобы предположительно проникнуть в его структуру и движущие силы. Конкретные события считаются объясненными, если схему можно использовать при истолковании какого-то конкретного эмпирического процесса. Такие истолкования бывают двух основных родов: во-первых, когда найдено место или ниша эмпирического события в системе категорий (см., напр., [49; 50; 52; 53; 54]); во-вторых, если схему можно использовать для создания описательного сценария того, почему и как происходили события в некоторой эмпирической ситуации (примеры см., [13; 29]).
Эти несколько различающиеся взгляды на объяснение с помощью аналитических схем отражают два противоречивых подхода: один выдвигает «натуралистические аналитические схемы», другой - «сенсибилизирующие аналитические схемы». Первый допускает, что упорядоченность понятий в схеме представляет «аналитическое преувеличение» упорядоченности мира [49]; вследствие этого изоморфизма в объяснение обычно включают и раскрытие места эмпирического события в данной схеме. Второй подход чаще всего отвергает позитивизм (как и натурализм) и доказывает, что система понятий должна быть лишь временной и чувствительной к непрерывным изменениям [13; 29]. Поскольку универсум будет изменяться, понятийные схемы тоже должны изменяться, и в лучшем случае они могут дать полезный способ истолкования эмпирических событий в некий конкретный момент времени.
Те, кто следует натуралистическому варианту, подобно метатеоретикам, часто стремятся доказать, что аналитическая схема есть необходимая предпосылка для других видов теоретической деятельности (см., напр., [48]), ибо, пока мы не имеем схемы, которая обозначает и упорядочивает на аналитическом уровне свойства универсума, нам трудно узнать, о чем теоретизировать. Поэтому для некоторых натуралистические аналитические схемы - это необходимый этап, предшествующий пропозициональному и моделирующему подходам к развитию социологической теории. Напротив, те, кто применяет «сенсибилизирующие аналитические схемы», обычно отвергают поиски универсальных законов как бесплодные, поскольку эти законы теряют силу, когда изменяется характер нашего мира [27; 29].
Пропозициональные схемы
Пропозициональные схемы имеют дело с суждениями, которые связывают переменные друг с другом. Т. е. эти суждения фиксируют определенную форму отношения между двумя или более переменными свойствами социального универсума. Пропозициональные схемы очень разнообразны, но могут быть сгруппированы в три общих типа: «аксиоматические схемы», формальные схемы и «эмпирические схемы».
Аксиоматическое теоретизирование подразумевает де-ДУкции (в виде точного исчисления) от абстрактных аксиом, содержащих точно определенные понятия, к эмпирическому событию. Объяснение состоит в установлении того, что эмпирическое событие «охватывается» одной или более аксиомами. В действительности, однако, аксиоматическая теория редко возможна в тех науках, которые не в состоянии осуществлять лабораторный контроль, определять понятия через указание «точных классов» и использовать формальное исчисление, логическое или математическое [24]. Хотя социологи [22; 36] часто употребляют словарь аксиоматической теории - аксиомы, теоремы, королла-рии, - они очень редко имеют возможность удовлетворить необходимым требованиям настоящей аксиоматической теории. Вместо нее они занимаются формальным теоретизированием [24].
Формальное теоретизирование - это «разбавленное» аксиоматическое. Абстрактные законы четко формулируют и часто очень приблизительно и непоследовательно «дедуцируют» из них эмпирические события. Объяснить - значит представить эмпирическое событие как случай или проявление более абстрактного закона. Следовательно, цель теоретизирования - развивать элементарные законы или принципы применительно к основным свойствам универсума.
Третий тип пропозициональных схем - эмпирические - в действительности вообще не теория. Но многие теоретики и исследователи думают иначе, и потому я вынужден упомянуть этот род деятельности. Часть критиков аналитического теоретизирования использует примеры эмпирических пропозициональных схем для вынесения приговора позитивизму. В этой связи я уже упоминал тенденцию критиков позитивизма смешивать абстрактный закон, относящийся к некоему общему явлению, и обобщение, касающееся некоторого множества эмпирических событий. Утверждение, что эмпирические обобщения суть законы, обычно используют для опровержения позитивизма: вневременных законов не существует, ибо эмпирические события всегда изменяются. Такое заключение основано на неспособности критиков понять разницу между эмпирическим обобщением и абстрактным законом. Но даже среди симпатизирующих позитивизму наблюдается тенденция смешивать объясняемое - то, что следует объяснить (эмпирическое обобщение), с объясняющим - тем, что должно объяснять (абстрактный закон). Это смешение встречается в нескольких формах.
В одном случае простое эмпирическое обобщение возводится в ранг «закона» (таков, например, «закон Голдена», который попросту содержит информацию, что индустриализация и грамотность коррелируются положительно). Другая идет по пути Роберта Мертона с его знаменитой защитой «теорий среднего уровня», где главная цель - развить ряд обобщений для какой-то содержательной области, скажем, урбанизации, организованного контроля, отклоняющегося поведения, социализации или других содержательных тем [47]. В действительности такие «теории» - всего лишь эмпирические обобщения, в которых установленные регулярные явления требуют для своего объяснения более абстрактной формулировки. Однако изрядное число социологов убеждено, что эти суждения «среднего уровня» - настоящие теории, несмотря на их эмпирический характер.
Итак, многое в «пропозициональной» схематизации бесполезно для построения теорий. Условия, необходимые для аксиоматической теории, редко встретишь на практике, а эмпирические суждения по самой их природе недостаточно абстрактны, чтобы стать теоретическими. По моему мнению, из всего многообразия пропозициональных подходов наиболее полезно для развития аналитической теории формальное теоретизирование.
Моделирующие схемы
Термин «модель» в общественных науках употребляется очень неопределенно. В более развитых науках модель - это способ наглядного представления некоторого явления таким образом, чтобы показать его основные свойства и их взаимосвязи. В социальной теории моделирование включает разнообразные виды деятельности: от составления формальных уравнений и имитационного моделирования на компьютерах до графического представления отношений между явлениями. Я буду применять этот термин ограниченно, только к теоретизированию, в котором понятия и их отношения дают обозримую картину свойств социального мира и их взаимоотношений.
Итак, модель есть схематическое представление некоторых событий, которое включает: понятия, обозначающие и высвечивающие определенные черты универсума; расположение этих понятий в наглядной форме, отражающей упорядочение событий в мире; символы, характеризующие природу связей между понятиями. В социологической теории обычно строят два типа моделей: «абстрактно-аналитические» и «эмпирико-каузальные».
Абстрактно-аналитические модели разрабатывают свободные от контекста понятия (например, понятия, относящиеся к производству, централизации власти, дифференциации и т. д.) и затем представляют их отношения в наглядной форме. Такие отношения обычно выражены в категориях причинности, но эти причинные связи - сложные, подразумевают изменения в характере связи (типа цепей обратной связи, циклов, взаимных влияний и прочих нелинейных представлений о соединениях элементов).
Напротив, эмпирико-каузальные модели обычно представляют собой высказывания о корреляциях между измеренными переменными, упорядоченными в линейную и временную последовательность. Цель - «объяснить изменчивость» зависимой переменной на основе ряда независимых и промежуточных переменных [11; 21]. Такие упражнения в действительности всего лишь эмпирические описания, потому что понятия в модели данного типа - это измеренные переменные для частного эмпирического случая. И все же, несмотря на недостаточность абстракции, подобные понятия часто считают «теоретическими». Следовательно, как и в случае с эмпирическими пропозициональными схемами, эти более эмпирические модели будут гораздо менее полезными при построении теории, чем аналитические. Подобно своим пропозициональным аналогам, каузальные модели описывают регулярность в совокупности данных, что требует для настоящего объяснения более абстрактной теории.
Мой обзор различных стратегий построения социологической теории подошел к концу. Из сказанного ясно, что пригодными для аналитического теоретизирования и теоретизирования вообще я признаю лишь некоторые из указанных стратегий. Завершим обзор более отчетливой оценкой их относительных достоинств.
Относительные достоинства разных теоретических стратегий
С аналитической точки зрения теория, во-первых, должна быть абстрактной и не привязанной к частным особенностям исторического эмпирического случая. Отсюда следует, что эмпирическое моделирование и эмпирические пропозициональные схемы - это не теория, но констатация регулярностей в массиве данных, которые требуют теории, объясняющей их. Они своего рода explicandum в поисках какого-то explanans. Во-вторых, аналитическое теоретизирование предполагает необходимость проверки теории на фактах, и потому метатеоретические и детально разработанные аналитические схемы тоже не теория в подлинном смысле слова. В то время как метатеория высоко-философична и не поддается проверке, сенсибилизирующие аналитические схемы можно использовать в качестве отправных пунктов для построения проверяемой теории. Если игнорировать антипозитивистские догматы их авторов, то такие схемы могут дать хорошую базу, чтобы начать концептуализацию основных классов переменных, могущих быть встроенными в проверяемые суждения и модели. Это возможно и с натуралистическими аналитическими схемами, но достигается труднее, так как они имеют тенденцию уделять чрезмерное внимание величию собственной архитектоники. Наконец, вопреки некоторым аналитическим теоретикам, я полагаю, что теория должна содержать нечто большее, чем абстрактные высказывания о регулярных явлениях: она должна обратиться к проблеме причинности, не ограничиваясь простой причинностью эмпирических моделей. По моему мнению, аналитические модели существенно дополняют абстрактные суждения, выясняя сложные причинные взаимосвязи (прямые и косвенные влияния, петли обратной связи, взаимные влияния и т. д.) между понятиями в этих суждениях. Без таких моделей трудно узнать, какие процессы и механизмы задействованы в отношениях, которые отражены в некотором абстрактном суждении.
Следовательно, аналитическая теория должна быть абстрактной. Она должна отображать общие свойства универсума, быть проверяемой или способной порождать проверяемые суждения. Такая теория не может пренебрегать причинностью, действующими процессами и механизмами. И потому наилучший подход к построению теории в социологии - это сочетание сенсибилизирующих аналитических схем, абстрактных формальных суждений и аналитических моделей [8; 63а]. Вместе они обеспечивают наибольшую творческую синергию. И хотя разные аналитические теоретики склонны возносить один вид схем над другим, именно одновременное использование всех трех подходов обеспечивает наивысший потенциал для развития «естественной науки об обществе». В несколько идеализированной форме мои выводы наглядно представлены на рис. 1 [более подробное пояснение элементов на рис. 1 см. 63; 8].
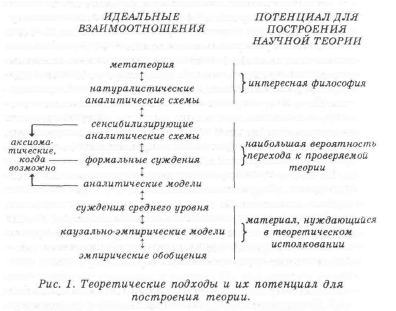
Напротив, натуралистические аналитические схемы и метатеоретизирование имеют тенденцию к излишней философичности и оторванности от практической работы в реальном мире. Они перерождаются в чрезмерно реифициро-ванные конструкции и либо сосредоточены на совершенстве своей архитектоники, либо одержимы схоластической страстью «разрешать» философские проблемы. И все-таки я считаю эти конструкции не совсем бесплодными, но скорее обретающими полезность только после того, как мы уже разработали законы и модели, в которых уверены. После этого дополнительная философская дискуссия полезна и может стимулировать пересмотр законов и суждений. Но без этих законов и суждений аналитические схемы и метатеории превращаются в самодовлеющие философские трактаты. Связующим звеном между отдельными суждениями и моделями и более формальными аналитическими схемами и метатеориями служат сенсибилизирующие аналитические схемы. Если использовать эти схемы, чтобы стимулировать формулировку суждений, и пересмотреть их в свете проверки суждений опытом, они смогут создать обогащенные эмпирической информацией предпосылки для более сложных натуралистических схем и метатеорий. В свою очередь, метатеория и натуралистические схемы, когда они отталкиваются от некоторой «пропозициональной» базы, могут стать источником важных догадок, стимулирующих оценку существующих суждений и моделей. Однако без привязки к проверяемой теории аналитические схемы и метатеория погружаются в реифицированный мир утонченных философских спекуляций и споров.
На более эмпирическом уровне построения теории, суждения среднего ранга, т. е. в сущности, эмпирические обобщения, применяемые к целой содержательной области, могут оказаться полезными как один из путей проверки более абстрактных теорий. Такие «теории» среднего уровня упорядочивают результаты исследований целых классов эмпирических явлений и, следовательно, обеспечивают сводный массив данных, который может пролить свет на некоторый теоретический закон или модель. Эмпирические каузальные модели могут выявить действующие во времени процессы, чтобы соединить соответствующие переменные в теории среднего уровня или простом эмпирическом обобщении. В качестве таковых они могут помочь оценить степень правдоподобия аналитических моделей и абстрактных суждений. Но без абстрактных законов и моделей эти эмпирические подходы не помогут выстроить теорию. Ибо не направляемые абстрактными законами и формальными моделями, теории среднего уровня, причинные модели и эмпирические обобщения создаются ad hoc, без заботы о том, способствуют ли они прояснению глубинной динамики универсума. Лишь иногда удается через индукцию выйти за рамки этих эмпирических форм и создать настоящую теорию, ибо в действительности построение теории идет иначе: сперва - теория, затем - проверка данными. Конечно, такие упорядоченные, направленные данные способствуют оценке теорий. Но когда начинают с частностей, то редко поднимаются над ними.
Такова моя позиция и позиция большинства аналитических теоретиков. Начинай с сенсибилизирующих схем, суждений и моделей и только потом берись за формальный сбор данных или метатеоретизирование и масштабное схе-мосозидание. Хотя большинство аналитических теоретиков и согласилось бы с такого рода стратегией, но существуют заметные разногласия по содержанию аналитического теоретизирования.
СПОР О СОДЕРЖАНИИ АНАЛИТИЧЕСКОГО ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЯ
Содержательные споры в стане аналитических теоретиков ведутся о том, чем должна заниматься теория. Каковы наиболее важные свойства универсума? Какие из них более «фундаментальны», какие следует изучать в первую очередь? Как примирить микропроцессы действия и взаимодействия с макродинамическими процессами дифференциации и интеграции больших людских совокупностей? Все это разновидности вопросов, занимающих аналитическую теорию, и, хотя они без сомнения важны, теоретики социологии потратили на их обсуждение слишком много времени. К счастью, при этом встречались и более плодотворные усилия, направленные на то, чтобы понять некоторое важное свойство социального мира, развивать сенсибилизирующую аналитическую схему для рассмотрения важных вопросов, разработать абстрактные понятия и суждения и строить абстрактные модели действующих механизмов и процессов, внутренне связанных с этим свойством.
Я не могу дать обзор всех таких попыток построения теории. Вместо этого я намерен изложить мои собственные воззрения на основные свойства социума и образцы того типа аналитического теоретизирования, который кажется мне наиболее продуктивным. При этом я поневоле буду суммировать большую часть того, что сделано в аналитических теориях, поскольку мой подход очень эклектичен и многое заимствует от других. Но я должен предупредить читателя относительно нескольких моментов. Во-первых, я заимствую избирательно и, следовательно, не вполне справедлив к тем концепциям, откуда беру идеи. Во-вторых, я весьма охотно заимствую и у тех, кто не относит себя к аналитическим теоретикам; вполне возможно, что они окажутся враждебно настроенными по отношению к тому роду теоретизирования, который защищаю я. С учетом этих оговорок приступим к делу.
Сенсибилизирующая схема анализа человеческой организации
Как упоминалось ранее, большинство натуралистических аналитических схем слишком сложны. Вдобавок они имеют тенденцию все более разрастаться, по мере того как новые измерения действительности отражаются в постоянно развивающейся системе категорий, а новые элементы в схеме согласуются со старыми. Сенсибилизирующие аналитические схемы также страдают этой склонностью к разбуханию путем добавления новых понятий и нахождения новых аналитических связей. Но я думаю, что, чем сложнее становятся аналитические схемы, тем меньше их полезность. На мой взгляд, со сложностью надо управляться на уровне суждений и моделей, а не сводной направляющей системы понятий <conceptual frame\vork>. Так, аналитическая схема должна просто обозначить общие классы переменных, предоставив детали конкретным суждениям и моделям. Поэтому сенсибилизирующая схема н&рис. 2 гораздо проще многих существующих, хотя она несомненно становится сложнее, когда каждый из ее элементов анализируют в деталях.
Одна из причин сложности существующих схем в том, что они пытаются сделать слишком много. Для них типично искать объяснения «всего и разом» [66]. Однако на ранних этапах своего развития науки не слишком продвигались вперед, пытаясь достигнуть преждевременно и. всесторонности. Отражением этого настойчивого стремления построить всеобъемлющую схему стало нынешнее возрождение интереса к проблеме «связи» микро- и макроуровня, или, как это часто называют, разрыва между ними [10; 39; 61]. Теперь теоретики хотят объяснить - микро- и макропроявления - все сразу, несмотря на то что ни микропроцессы взаимодействия между индивидами в определенных ситуациях, ни макродинамики больших скоплений людей не были адекватно концептуализированы. На мой взгляд, вся эта возня с пониманием микроосновы макропроцессов и, наоборот, [макроосновы микропроцессов] преждевременна. Рис. 1 предполагает сохранить разделение на макро- и микросоциологию, по крайней мере, на некоторое время. Поэтому «разрыв» между микро- и макропроцессами остается и, кроме как метафорически, я не предлагаю его заполнять.
Применительно к микропроцессам я вижу три группы движущих сил, имеющих решающее значение в аналитическом теоретизировании: процессы «энергизирующие» или побуждающие индивидов взаимодействовать (заметим, что я не говорю «действовать», ибо этот термин получил слишком большую понятийную нагрузку в социологии) [62]; процессы, действующие на индивидов в ходе взаимного приспособления их поведения друг к другу, и процессы, структурирующие цепи взаимодействия во времени и пространстве. Как показывают стрелки на Рис. 2, эти микропроцессы взаимосвязаны, каждый класс действует как некоторый параметр для других. Для макропроцессов я вижу в аналитическом теоретизировании три центральных типа динамики: процессы количественного собирания <assemb-lingprocesses>, определяющие число действующих (будь то индивиды или коллективы) и их распределение во времени и пространстве; процессы дифференциации действующих во времени и пространстве и процессы интеграции, координирующие взаимодействия действующих во времени и пространстве.
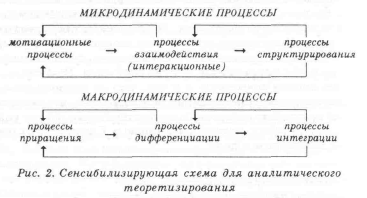
Как уже сказано, аналитическая сложность должна быть добавлена на уровне моделирования, а иногда и на уровне суждений, потому что только здесь теоретические идеи имеют шанс быть проверенными на фактах (причем все проблемы, о которых заявляют критики позитивизма, надлежащим образом учитываются и отвергаются, по меньшей мере, в их крайней и изнуряющей разум форме). Таким образом, задача микроанализа - поточнее определить в абстрактных моделях и суждениях движущие силы трех классов переменных: мотивационных, интеракционных и структурирующих. Начнем с мотивационных процессов.
Процессы мотивации. Концептуализация «мотивов» в теоретической социологии так и не вышла пока из состояния неопределенности. Трудности связаны с анализом и измерением того, «что движет людьми» и «заставляет их действовать». Социологи до сих пор говорят о поведении, действии и взаимодействии так, что это мешает увидеть: фактически речь в немалой степени идет о проблеме мотивации. Тем самым они затемняют анализ и мотивации, и взаимодействия. Гораздо полезнее аналитически разделить эти явления, представив простую модель того, что «толкает», «побуждает», направляет и сообщает энергию людям, заставляя их взаимодействовать определенным образом. Возможно, эти термины нечетки, но тем не менее они передают мои общие устремления.
Во всех ситуациях взаимодействия можно найти четыре вида мотивационных процессов: процессы, поддерживающие «онтологическую безопасность» [29] или удовлетворяющие скрытую потребность в уменьшении безотчетной тревоги и в достижении чувства взаимного доверия; процессы, сосредоточенные на поддержании того, что некоторые ин-теракционисты именуют «центральной концепцией Я», т. е. на подтверждение некоего центрального и основного определения человеком своего особенного типа бытия; процессы, относящиеся к тому, что экономисты-утилитаристы и бихевиористские теоретики обмена рассматривают как усилия индивидов, направленные на «получение выгоды» или увеличение своих материальных, символических, политических или психических ресурсов в ситуациях [36]; наконец, процессы, учитывающие то, что этнометодологи иногда называют «фактичностью», основанные на предположении, что мир имеет косный, объективно-фактуальный характер и соответствующий порядок [26]. Эти четыре вида процессов соотносятся с разными концепциями мотивации в психоаналитической [23], символико-интеракциони-стской [40], бихевиористско-утилитаристской [36] и этно-методологической [26] традициях. Обычно их рассматривали как антагонистические подходы, хотя существуют достойные внимания исключения (см., напр., [16; 29; 59]. На Рис. 3 представлена аналитическая модель основных взаимоотношений между названными четырьмя видами процессов.
Правая сторона Рис. 3 показывает, что всякое взаимодействие мотивировано соображениями обмена. Люди хотят почувствовать, что они повысили свой ресурсный уровень в обмен на трату энергии и вложение части ресурсов. Естественно, характер ресурсов может меняться, но аналитические теории обмена обычно рассматривают как наиболее общие из них - власть, престиж, людское одобрение и иногда материальное благосостояние. Поэтому с точки зрения самых современных «обменных» подходов индивиды «побуждаемы» искать выгоду именно на основе этого рода ресурсов. Большое место в человеческом взаимодействии занимают переговоры относительно власти, престижа и одобрения (и изредка материальных выгод). Я не буду здесь останавливаться на доводах теории обмена, поскольку они хорошо известны, но думаю, что ее основные принципы хорошо резюмируют один из мотивационных процессов.
Другой мотивационный процесс - тоже часть межличностных обменов: это разговор и беседа. Я думаю, что Коллинз [17] прав, усматривая в них главный ресурс взаимодействия, а не просто средство передачи или посредника. Т. е. люди «тратятся» в разговоре и беседе, надеясь получить не только власть (уступку), престиж или одобрение, но и вознаграждение в разговоре per se. Действительно, люди обговаривают ресурсы, скрытые в беседе, так же активно, как и другие ресурсы. Из таких бесед они извлекают «смысл» и «чувство удовлетворения» или то, что Коллинз называет «эмоцией». Иными словами, люди тратят и умножают свой «эмоциональный капитал» при обменах в ходе бесед. Таким образом, разговор - не только средство передачи власти, престижа, одобрения от человека к человеку, но и самостоятельный «ресурс».
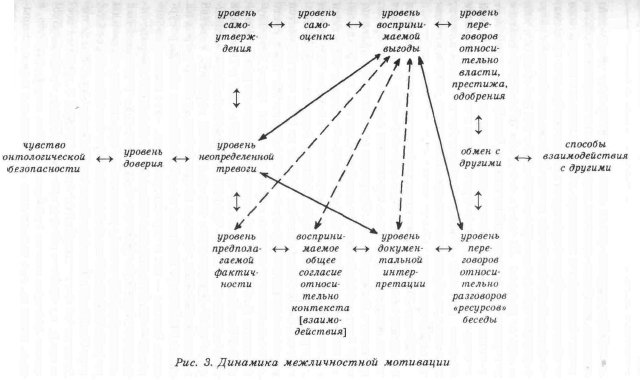
Вернемся к верхней части Рис. 3, где еще одну мотивирующую силу во взаимодействии составляют усилия при всех обстоятельствах сохранить представление о себе как личности определенного рода. Это реализуется в первую очередь через обменные отношения, организованные вокруг власти, престижа, одобрения, а также приобретения эмоционального капитала в беседах. Следовательно, если люди почувствуют, что получают некую «психологическую выгоду» в своих обменах, они подтвердят и свою самооценку, которую я рассматриваю как главный передаточный механизм посредничества между их «центральным Я» [41] и результатами обменов. Как указывают пунктирные стрелки, вторичный процесс в подтверждении «выгоды» - это динамика, приводящая к «ощущению фактичности». В той мере, в какой достижение фактичности проблематично, индивиды не будут чувствовать, что имеют «выгоду» от взаимодействия, и потому у них будут трудности с подтверждением самооценки и концепции Я в такой ситуации. Будь то от этого вторичного источника, либо просто от неспособности увеличить эмоциональный капитал или вырвать уступку, одобрение и престиж, неудача в самоутверждении порождает тревогу, которая, в свою очередь, разъедает веру [в себя] <trust>, столь существенную для онтологической безопасности.
Здесь не стоит вдаваться в подробности этой модели, но важно заметить, что она представляет собой попытку свести разные аналитические традиции в более синтетическую картину мотивационной динамики. В конце этого подраздела я бы хотел проиллюстрировать свою общую теоретическую стратегию, применив данную модель для разработки нескольких абстрактных «законов мотивации».
I. Уровень мотивационной энергии индивидов в ситуации взаимодействия есть обратная функция степени, в какой индивидам не удается: (а) достичь ощущения онтологической безопасности, (б) развить предпосылку фактичности, (в) утвердить свое центральное «Я» и (г) достичь ощущения приумножения своих ресурсов.
II. Форма, направление и интенсивность взаимодействия в некоторой ситуации будет положительной функцией относительной значимости вышеуказанных (а),(б), (в) и (г), равно как и абсолютных уровней (а), (б), (в) и (г).
Эти два принципа устанавливают на абстрактном уровне общее направление «энергетической подзарядки» людей для осуществления взаимодействия. Очевидно, что данные суждения не конкретизируют процессы мотивации, как это сделано в модели на Рис. 3.
По-моему, эта аналитическая модель сообщает необходимые подробности о механизмах «насыщения энергией» (о тревожности, самооценивании, извлечении выгоды, общем согласии относительно контекста взаимодействия, документальной интерпретации и переговорном процессе). Разумеется, я хотел бы встроить эти детали в абстрактные суждения, но тогда «законы» потеряют простоту и краткость, которые желательны для самых разных целей (напр., при использовании в дедуктивном исчислении). Поэтому, как я указывал выше, происходит творческое взаимодействие между абстрактными законами и аналитическими моделями. Одно без другого не вполне удовлетворительно: модель слишком сложна, чтобы быть проверяемой в целом (поэтому важно ее преобразование в простые законы), но простые законы не описывают сложных причинных процессов и механизмов, которые скрываются под отношениями, уточненными в законе (отсюда необходимость дополнить законы абстрактными аналитическими моделями).
Процессы взаимодействия. Следующий элемент «сенсибилизирующей схемы» на Рис. 2 - процесс взаимодействия как таковой. Ключевой вопрос здесь такой: что именно происходит, когда люди взаимно сигнализируют друг другу и истолковывают жесты друг друга? На Рис. 4 представлены важнейшие процессы: использование фондов имплицитного знания [58], или в моей терминологии, «фон-дообразование» <stock-making>, включающее ряд сигнальных процессов, а именно сценическую постановку взаимодействия <stage-making> - [30], постановку ролей <role-ma-king) - [64], выдвижение притязаний <claim-making> - [33] и придание значения ситуации <account-making> - [26] и другое использование фондов знания или овладение фондами <stock-taking>, охватывающее ряд процессов истолкования, в частности принятие ситуации в расчет <account-ta-king> - [26], принятие притязаний <claim-taking> - [33], принятие [на себя] роли <role-taking> - [46] и типизацию, принятие типа <type-taking> - [58]. Я не могу детально рассмотреть здесь эти процессы, особенно потому, что модель на Рис. 4 черпает из очень разных теоретических традиций, но все же кратко остановлюсь на каждом из них.
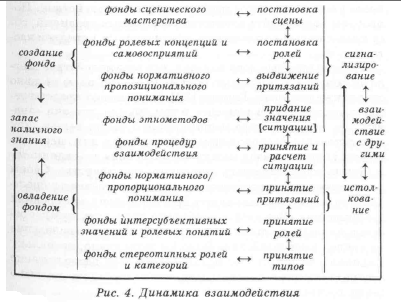
В средней части модели на Рис. 4 сделана попытка примирить ранние интуиции Мида и Шюца с тем, что иногда рассматривают как антагонистические традиции. Но эти традиции на деле не антагонистичны, ибо каждая что-то вносит в синтетическое изображение взаимодействия. Попробуем подтвердить совместимость разных традиций, обсуждая каждый из элементов, обозначенных в средней части Рис. 4.
Гофман впервые ясно показал, что взаимодействие всегда включает «сценическую постановку». Эту идею недавно стал также развивать Гидденс [29]. Люди имеют представление о «сценическом ремесле» в том смысле, что они «знают», по меньшей мере имплицитно, о таких вещах, как относительное расположение действующих лиц, передвижения вперед и назад между «авансценой» и «задником» и другие аспекты демографического пространства. Своим расположением в пространстве или передвижением в пространстве люди сигнализируют другим о своих намерениях и ожиданиях. Без этой способности извлекать нужное из фондов знания и «ставить» для самих себя свое «появление -на сцене» взаимодействие было бы затруднено, поскольку индивиды не смогли бы использовать свое расположение и передвижение в пространстве, чтобы сообщить другим о своих соответствующих действиях.
Много из этих манипуляций с пространственным расположением предназначено облегчить то, что Ральф Тернер назвал «постановкой роли», или оркестровкой жестов, чтобы сигнализировать, какую роль некто собирается играть в ситуации. В таких «постановках ролей» люди не полагаются исключительно на сценическое умение. Они располагают фондами «ролевых концепций», которые обозначают характерные совокупности жестов и последовательности поступков, связанные с определенной линией поведения. Эти ролевые понятия можно очень тонко настроить так, например, что мы сможем различить, как исполняется не только «роль студента» вообще, но и разновидности этой роли (учебная, научная, спортивная, общественная и т. д.). Таким образом, люди располагают обширным репертуаром ролевых понятий, и из этого репертуара они пытаются создать роли для самих себя, организуя подачу своих жестов. Конечно, роли, которые они готовят для себя, ограничены не только существующей социальной структурой (например, студенты не могут быть профессорами), но также их фондами самовосприятий и самоопределений. Поэтому люди выбирают из своего репертуара ролей те, которые согласуются с названными фондами. Некоторые из этих самовосприятий вытекают из центральной концепции Я, которая мотивирует взаимодействие. Но люди располагают также фондами более периферийных и ситуационных образов самих себя. Например, некто может признать без большого ущерба для самооценки и без понижения морального уровня «центрального Я», что он не в ладах со спортом, и, как следствие, это лицо разработает для себя роль, которая соответствует его «образу Я», не имеющего сноровки в «игровых ситуациях». Без этой способности ставить роли взаимодействие было бы чрезмерно нервозным и требовало бы больших затрат времени, поскольку индивиды не смогли бы заранее предполагать, что их «оркестровка» жестов сигнализирует другим о конкретной линии поведения. Но поскольку есть общепринятые представления о различных типах ролей, индивиды могут сигнализировать о своих намерениях и быть уверенными, что другие будут понимать их и впредь, без необходимости все время сигнализировать' о предлагаемой линии поведения.
Хотя в «критическом проекте» Юргена Хабермаса многое мне кажется излишне идеологизированным, идеализированным и местами социологически наивным, тем не менее его обсуждение «идеального речевого акта» и «коммуникативного действия» [33] открывает одну из основных движущих сил в человеческом взаимодействии: процесс выдвижения «притязаний на значимость». В процессе взаимодействия индивиды выдвигают «притязания на значимость», которые другие могут принимать или оспаривать. Такие притязания подразумевают утверждения (как правило, имплицитные, но иногда и явные) о подлинности и искренности жестов как проявлений субъективного опыта; о действенности и эффективности жестов как показателей выбора средств для известной цели; и о правильности действий с точки зрения соответствующих норм. Я не разделяю идеологической точки зрения Хабермаса, согласно которой выдвижение притязаний (и возражения, и дискурс, могущие затем последовать) якобы выражает самую суть человеческого освобождения от форм господства. Однако я полагаю, что взаимодействие действительно включает тонкий и обычно имплицитный процесс, посредством которого каждая участвующая сторона «заверяет» в своей искренности, эффективности и подчинении правилам. Такие притязания связаны с «постановкой ролей», но опираются также и на общие фонды знания о нормах, на совместные представления о честном поведении и на обусловленное культурой согласие относительно взаимосвязи целей и средств.
Наконец, последний сигнальный процесс связан с выдвижением притязаний, а более непосредственно - с фондами «этнометодов», таких как «принцип etcetera», порядок следования бесед, нормальные формы и другие «народные» практические приемы [15; 35], при помощи которых индивиды имеют обыкновение создавать у себя ощущение социального порядка. Поэтому сигнализирование всегда включает процесс придания значения ситуации, в ходе которого индивиды используют обыденно-народные методы или процедуры для убеждения других в том, что они разделяют с ними общий мир фактов. «Провоцирующие эксперименты» Гарфинкеля [25; 26] и другие использования бесед [35] указывают, что такие процедуры имеют решающее значение для гладкого взаимодействия; когда эти «этнометоды» не используются либо когда их не понимают или не принимают, взаимодействие становится проблематичным. Таким образом, многое из того, о чем индивиды сигнализируют другим, есть попытка придать [чему-либо] в данной ситуации значение реальности и фактичности.
Одновременно с этими четырьмя сигнальными процессами: постановкой сцены, постановкой ролей, выдвижением притязаний и приданием значения - идут ответные процессы истолкования сигналов, подаваемых другими. Более того, до известной степени люди толкуют и свои собственные сигналы, и потому взаимодействие требует рефлексивного отслеживания как своих, так и чужих жестов.
«Придание значения» идет бок о бок с «принятием в расчет», в ходе которого сигналы других, а также и собственные, особенно принадлежащие к фондам истолковывающего понимания, используются для образования набора неявных предположений об основных чертах обстановки взаимодействия. Т. е. действующие толкуют определенные классы сигналов (это и есть «народные» методы), чтобы «заполнить пробелы», «придать смысл» тому, что делают другие, а также чтобы почувствовать себя (возможно, в какой-то мере иллюзорно) в одном социальном пространстве с другими.
С таким «этнометодизированием» (если позволительно изобретать еще одно слово в области, и так переполненной лингвистическими нововведениями) связана другая сторона выдвижения притязаний, по Хабермасу: «понимание притязаний». «Притязания» других (и самого исходного действователя) на искренность, нормативную правильность и эффективность отношения средств к целям истолковываются в свете накопленных запасов нормативных представлений, культурно одобряемой формулы «средства-цели» и стиля удостоверения притязаний. Такое истолковыва-ние может вести к принятию притязаний или повлечь «возражения» какому-то одному или всем трем типам притязаний. Если случается последнее, тогда подается сигнал о контрпритязаниях и взаимодействие будет циркулировать вокруг процессов выдвижения и принятия притязаний до тех пор, пока притязания на значимость всех участников не будут одобрены (или же пока некий набор притязаний не будет просто навязан другим благодаря способности принуждать или возможности контролировать ре-сурсы).
Третий процесс истолкования Мид впервые концепту-влизировал как «принятие [насебя] роли» и «принятия [на себя] роли» другого, а Шюц назвал «взаимностью перспектив». Жесты или сигналы других людей используются, чтобы поставить себя в положение другого или усвоить себе его особенную точку зрения. Такое «принятие роли» имеет несколько уровней. Первый - это нечто противоположное «постановке роли»; запасы ролевых концепций используются, чтобы определить, какую роль играют другие. Второй, более глубокий уровень - это использование фондов согласованных представлений о том, как обычно действуют люди в разного вида ситуациях, когда пытаются реконструировать глубинные характеристики, необходимые для понимания того, почему данное лицо ведет себя определенным образом. Вместе оба названных уровня «понимания роли» индивидами могут обеспечить правильный взгляд на вероятные способы и направления поведения других людей.
Иногда взаимодействие включает то, что Шюц называл «типизацией», или взаимодействием в категориях «идеальных типов». Ибо многие взаимодействия подразумевают сперва представление других в стереотипных категориях и затем обращение с ними как с нелицами или чем-то идеальным. Тем самым «принятие роли» может незаметно перейти в «принятие типа», когда ситуация не требует особо чувствительных и тонко настроенных истолкований мотивов, эмоций и установок других. Если «принятие типа» - реальный процесс, то другие истолковательные процессы (принятие роли, принятие притязаний и принятие в расчет ситуации) сходят на нет, ибо они в сущности уже «запрограммированы» в фондах стереотипных ролей и категорий, используемых для типизации.
Итак, я рассматриваю взаимодействие как двойственный процесс одновременного сигнализирования и истолкования, питаемый запасами знания, приобретенного индивидами. В различных теоретических подходах выделялись разные аспекты этого основного процесса, но ни один не описывает динамики взаимодействия с достаточной полнотой. В модели на рис. 4 сделана попытка объединить упомянутые подходы в один, рассматривающий процессы сигнализирования и истолкования как взаимосвязанные. Чтобы завершить этот синтез разных подходов к процессу взаимодействия в аналитической теории, переформулируем ключевые элементы нашей модели в несколько «законов взаимодействия».
III. Степень взаимодействия между индивидами в некоторой ситуации есть совместная и положительная функция их соответствующих уровней (а) сигнализирования я (б) истолкования.
(а) Уровень сигнализирования есть совместная и положительная функция уровня сценической постановки, постановки ролей, выдвижения притязаний и придания значения.
б) Уровень истолкования есть совместная и положительная функция степени принятия в расчет, принятия притязаний, принятия ролей и принятие типа.
IV. Степень взаимного приспособления и сотрудничества между индивидами в ситуации взаимодействия есть положительная функция степени, в какой они владеют общими фондами знания и пользуются ими в своем сигнализировании и истолковании.
Процессы структурирования. Большая часть любого взаимодействия протекает в рамках существующей структуры, созданной и поддерживаемой предыдущими взаимодействиями. Такие структуры лучше всего рассматривать как ограничивающие параметры [12а], поскольку они обозначают пределы «сценической деятельности» индивидов, помещая их в реальное физическое пространство; ограничивают виды возможных процессов утверждения значимости притязаний и возражений; обеспечивают контекстуальную основу для учета всех видов деятельности, которые позволяют людям развивать чувство реальности; диктуют возможные виды постановки ролей; дают наметки для понимания ролей; организуют людей и виды их деятельности в направлениях, которые поощряют (или тормозят) взаимную типизацию.
И все же, так как индивиды проявляют отчетливое моти-вационное своеобразие и так как существующие структуры задают лишь некоторые параметры для процессов инсценирования, утверждения значимости взаимных притязаний, постановки ролей и типизации, то всегда остается известный потенциал для перестройки, переструктурирования ситуаций. Но основные процессы, участвующие в такой перестройке, - те же, что служат поддержанию существующей структуры, и потому мы можем пользоваться одинаковыми моделями и суждениями, чтобы понять как структурирование, так и переструктурирование. На Рис. 5 я представляю мои взгляды на динамику этих процессов.
Сначала я обрисую свое понимание того, что такое «структура». Во-первых, это процесс, а не вещь. Если воспользоваться модными теперь терминами, структура «производится» и «воспроизводится» индивидами во взаимодействии. Во-вторых, структура указывает на упорядочение взаимодействий во времени и пространстве [16; 28; 29]. Временное измерение может обозначить процессы, которые упорядочивают взаимодействия для некоторого конкретного множества индивидов, но гораздо важнее организация взаимодействий для последовательных множеств <sucsessive sets> индивидов, которые, проходя сквозь существующие структурные параметры, воспроизводят эти параметры. В-третьих, такое воспроизводство структуры обусловлено, как это акцентировано понятиями на правой стороне Рис. 5, способностью индивидов во взаимодействии «регионализиро-вать», «рутинизировать», «нормативизировать», «ритуали-зировать» и «категоризировать» свои совместные действия. Проанализируем теперь эти пять процессов более подробно.
Когда индивиды занимаются «сценической постановкой» (см. Рис. 4), они обговаривают использование пространства. Они решают такие вопросы: какую территорию кто занимает; кто, куда и как часто может передвигаться; кто может входить в данное пространство и оставаться в нем, и тому подобные проблемы демографии и экологии взаимодействия. Если действователи смогут достичь согласия по таким вопросам, они «регионализируют» свое взаимодействие в том смысле, что их пространственное расположение и мобильность начинают следовать определенному образцу. «Переговоры» по использованию пространства, безусловно, облегчаются, когда имеются вещественные опоры в виде улиц, коридоров, строений, кабинетов и служебных зданий, что сразу сужает круг переговоров. Равно важны, однако, и нормативные соглашения относительно того, что «значат» для индивидов эти опоры, а также другие межличностные сигналы. Т. е. регионализация подразумевает правила, соглашения и представления о том, кто какое пространство может занимать, кто может удерживать «желаемое» пространство и кто может передвигаться в пространстве (вот почему на Рис. 5 стрелка идет от «нормати-визации» к «регионализации»). Другая важная сила, которая связана с нормативизацией, но является также независимым и самостоятельным фактором, - это рутинизация. Регионализация деятельности во многом облегчается, когда совместные действия рутинизированы: индивиды делают приблизительно одно и то же (движения, жесты, разговоры и т. д.) в одно время и в одном пространстве. И наоборот, рутинизации и нормативизации способствует регио-нализация. Следовательно, между этими процессами имеется взаимная обратная связь. Установившиеся регулярные процедуры облегчают упорядочение пространства, но раз упорядочение произошло, эти рутинные практики становится нетрудно поддерживать (разумеется, если пространственный порядок рушится, то же происходит и с рутинными процессами).

Привычные, регулярные и неизменные процедуры («рутины») также составляют важную часть в процессе структурирования. Если какие-то множества действователей участвуют в более или менее одинаковых последовательностях поведенческих актов во времени и пространстве, тогда организация взаимодействия сильно облегчена. И наоборот, на рутинные процессы влияют другие структурирующие процессы - регионализации, нормативизации, ритуализации и категоризации. Когда разные виды деятельности упорядочены в пространстве, легче устанавливать рутинную практику. Если существуют соглашения по нормам, тогда ускоряется формирование рутинных процессов. Если к тому же взаимодействие может быть ритуализовано, так что контакты между людьми включают стереотипные последовательности жестов, тогда рутинные процессы можно поддерживать без большой «межличной работы» (т. е. без активного и осознанного сигнализирования и истолкования). А когда действователи имеют возможность успешно «категоризи-ровать» друг друга в качестве безличных объектов и тем самым взаимодействовать без больших усилий при сигнализировании и истолковании, тогда легче закреплять и поддерживать рутинные процессы.
Еще один существенный элемент в структурировании - ритуалы. Ибо если действователи могут начинать, поддерживать и заканчивать взаимодействие в разных ситуациях стереотипными разговорами и жестикуляцией, взаимодействие будет протекать глаже и упорядочиваться быстрее. Какие именно ритуалы исполнять, как их исполнять и когда - все это нормативно определено. Но ритуалы - также и результат рутинизации и категоризации. Если действователи способны представить друг друга в простых категориях, тогда их взаимодействие будет ритуализовано (включая предсказуемое начало и прекращение жестов) в некоей типичной форме беседы и жестикуляции между началом и окончанием ритуальных действий. Аналогично рутинные виды деятельности способствуют формированию ритуалов, ибо, стремясь подкрепить свои установившиеся рутинные практики, индивиды пытаются ритуализировать взаимодействие, чтобы удержать его от вторжения (путем навязывания сознательной «межличной работы») в свою привычную рутину. Но, возможно, наиболее важно то, что ритуалы связаны с расстановкой ролей, когда индивиды торгуются за соответствующие роли для себя, и, если они смогут договориться о взаимодополняющих ролях, тогда они смогут многое ритуализовать в их взаимодействии. Это особенно вероятно в случае, когда соотносящиеся роли неравны с точки зрения власти [16].
Последний из рассматриваемых основных структурирующих процессов - категоризация, плод переговоров людей о том, как взаимно типизировать друг друга и свои отношения. Этому процессу категоризации друг друга и любого отношения помогают успешная постановка ролей и рути-низация, а также и ритуализация данного отношения. Категоризация помогает индивидам трактовать друг друга как безличные объекты и экономить время и энергию, потребные при тонко настроенных и избирательных процессах сигнализации и интеграции. Таким образом, их взаимодействие сможет гладко протекать во времени (при повторных контактах) и в пространстве (без повторных переговоров о том, кто где должен быть).
Я не могу углубляться здесь во все тонкости этих пяти процессов, но стрелки на Рис. 5 показывают, в каком направлении я развил бы более подробный анализ. Поскольку люди взаимно подают сигналы и создают интерпретации, они вовлекаются в процессы инсценирования, утверждения значимости, учитывания, принятия роли, постановки роли и типизации, которые, соответственно, подразумевают переговоры касательно пространства, притязаний на значимость, процедур истолкования, взаимности перспектив, соответствующих ролей и взаимных типизации. Из этих процессов вырастают структурирующие процессы регионализа-ции, рутинизации, нормативизации, ритуализации и категоризации, которые организуют взаимодействие во времени и пространстве. В свою очередь, эти структурирующие процессы служат структурными параметрами, которые удерживают в определенных пределах интерактивные процессы инсценирования, утверждения значимости, учитывания, принятия роли, постановки роли и типизации. Таково в общих чертах видение процесса структурирования, который охватывает значительную часть аналитико-теоретиче-ской работы по истолкованию «социальной структуры» на уровне микровзаимодействий. Завершим этот обзор формулировкой нескольких «законов структурирования».
V. Степень структурирования взаимодействий есть положительная и аддитивная функция степени, в какой это взаимодействие может быть (а) регионализировано, (б) рутинизировано, (в) нормативизировано, (г) ритуа-лизировано и (д) катетеризировано.
(а) Степень регионализации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды способны успешно договориться об использовании пространства и рутинизировать, а также нормативизировать свою совместную деятельность.
(б) Степень рутинизации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды способны нормативизировать, регионализи-ровать, ритуализовать и категоризировать свою совместную деятельность.
(в) Степень нормативизации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды могут успешно договариваться о притязаниях на значимость, процедурах истолкования и взаимности перспектив, а также регионализиро-вать, рутинизировать и ритуализировать свою совместную деятельность.
(г) Степень ритуализации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды могут успешно договариваться о взаимности перспектив, равно как и о взаимодополнительности ролей, и нормативизировать, рутинизировать и категоризировать свою совме-стную деятельность.
(д) Степень категоризации взаимодействия есть положительная и аддитивная функция степени, в какой индивиды могут успешно договариваться о взаимных типизациях и взаимодополнительности ролей, а также ритуализировать и рутинизировать свою совместную деятельность.
Этим завершается мой обзор разработок по микродина-Мике в аналитической теории. Очевидно, что я заимствовал идеи у ученых, которые возражали бы против зачисления в стан аналитических теоретиков, но в той степени, в какой аналитическая теория обращается к проблеме микропроцессов (Рис. 3,4 и 5), она схватывает устремления этого теоретизирования. То же справедливо и в отношении суждений I-V. За некоторым заметным исключениям (см., напр.: [16; 17; 29; 65]) - представители аналитического теоретизирования сосредоточились на макродинамике, предпочитая рассматривать взаимодействие как некую данность, как случайные процессы (см., напр.: [45]) или как расчет [12]. Перейдем теперь к этому макроподходу.
Макродинамика
В социологическом теоретизировании нет ясности по поводу того, что конституирует «макрореальность». Некоторые макросоциологи сводят все к анализу структурных свойств, независимых от процессов, идущих среди индивидов (см., напр.: [12; 44]). Другие смотрят на макросоциологию как на анализ различных способов соединения микроединиц, ведущего к возникновению крупных организационных и социетальных [т. е. проходящих в масштабах всего общества] процессов (см., напр., [16; 17]). Критики обычно воспринимают весь макроанализ как реификацию или ги-постазирование [39]. И все-таки, несмотря на разные виды критики и явную понятийную неразбериху по вопросу о микробазисе социальной структуры, трудно отрицать простой факт общественной жизни: человеческие популяции растут, образуют большие по численности объединения и сложные социальные формы, которые распространяются на обширные географические регионы и существуют длительные исторические периоды. Утверждать, как делают многие, что такие формы можно анализировать исключительно на основе составляющих их действий и взаимодействий индивидов, было бы ошибкой. Такие редукционист-ские подходы порождают концептуальную анархию, поскольку так никогда не увидишь «леса за деревьями» или даже деревьев за отдельными ветками.
Конечно, нет сомнений, что макропроцессы включают взаимодействия среди индивидов, но зачастую разумнее вывести эту посылку за пределы анализа. Ибо точно так же, как для решения большинства аналитических задач при изучении многочисленных свойств взаимодействия полезно игнорировать физиологию дыхания и кровобращения, во многих случаях разумно пренебречь индивидами, индивидуальными актами и индивидуальными взаимодействиями. Естественно, конкретное знание того, что делают люди при регионализации, рутинизации, нормативизации, ритуализации и категоризации своих взаимодействий (см. Рис. 5), может послужить полезным дополнением к макроанализу. Но такое изыскание не может заменить чистый макроанализ, занимающийся процессами, благодаря которым все больше действующих собираются вместе, дифференцируются и интегрируются (см. Рис. 2). Такова моя позиция и позиция большинства аналитических теоретиков (см. [61]).
Рис. 6 дает представление о моих взглядах на основополагающие макродинамические процессы человеческой организации. Я разбил их, согласно Рис. 2, на три группы: процессы скопления <assemblage>, или приращения индивидов и их производительных способностей в пространстве; процессы дифференциации, или увеличения числа различных подъединиц и культурных символов среди возросшего населения и процессы интеграции, или увеличения степени координации отношений между подъединицами некоторой возросшей человеческой популяции. Но в отличие от моего анализа микропроцессов я не даю трех отдельных моделей этих макропроцессов. Я создал одну составную модель, которую можно разбить на части и развить более детально. Я планирую предпринять такой анализ в ближайшем будущем, но для целей этой статьи модель представлена в упрощенной форме.
а) Процессы приращения. Прежние теоретики социологии, особенно Герберт Спенсер [60] и Эмиль Дюркгейм [1], хорошо понимали эту динамику. Они сознавали, что рост населения (популяции), его концентрации в ограниченном пространстве и способы его производства взаимозависимы. Характер этой взаимозависимости показан направлением стрелок на Рис. 6: рост размеров популяции и производство взаимно усиливают друг друга с каждым циклом обратной связи и с каждым увеличением показателей другого фактора, особенно когда показатели наличия материальных, организационных и технологических ресурсов высоки; концентрация связана с ростом размеров популяции и Уровнями производства, и, хотя между этими силами имеется некоторая обратная связь, она вторична и не указана в данной упрощенной версии нашей модели.
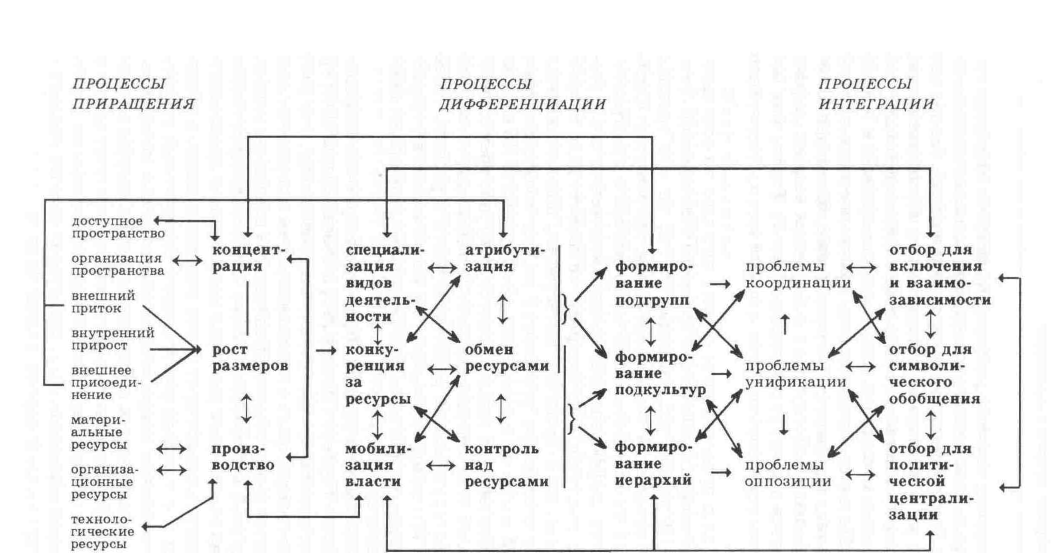
VI. Уровень приращения для популяции есть мультипликативная функция ее (а ) размера и скорости роста, (б) степени экологической концентрации и (в) уровня производства (явная тавтология, устраняемая ниже).
(а) Размер и скорость роста популяции есть аддитивная и положительная функция внешнего притока [ресурсов], внутреннего прироста, внешнего присоединения и уровня производства.
(б) Степень концентрации популяции есть положительная и аддитивная функция ее размера и скоростироста, уровня производства, способности организовать пространство, количества и разнообразия ее подгрупп и одновременно - обратная функция размеров доступного для нее пространства.
(в) Уровень производства для популяции есть положительная мультипликативная функция ее размера и скорости роста, уровня материальных, организационных и технологических ресурсов, а также способности мобилизовывать власть.
б) Процессы дифференциации. Увеличение концентрации, скорости роста размеров популяции и производства поднимают уровень конкуренции за ресурсы среди социальных подразделений. Такая конкуренция, как подчеркивали Спенсер и Дюркгейм, стимулирует процесс дифференциации среди индивидов и организационных подразделений в данной человеческой популяции. Эта дифференциация - результат двух взаимоусиливающих друг друга циклов: один сводится к процессам конкуренции, специализации, обмена и развития отличительных качеств <attributes> или тому, что я называю «атрибутизацией», а другой- к процессам конкуренции, обмена, власти и контроля над ресурсами. В свою очередь эти два цикла порождают три взаимосвязанных формы дифференциации: подгруппы или разнородность (гетерогенность), подкультуры или символическое разнообразие; иерархии или неравенства [12а]. Но прежде чем анализировать эти основные формы дифференциации, вернемся к взаимоусиливающим циклам, порождающим их.
Конкуренция и обмен взаимосвязаны. Конкуренция будет все время порождать обменные отношения среди дифференцированных действователей, и, наоборот, обменные отношения будут, по крайней мере на первых порах, увеличивать уровень конкуренции [12]. И обмен, и конкуренция порождают специализацию видов деятельности [1; 60], поскольку некоторые участники могут «переиграть» других и тем ускорить дифференциацию видов деятельности и поскольку обменные отношения побуждают действователей специализироваться в снабжении друг друга разными ресурсами [22]. Конкуренция, обмен и специализация - все действует в направлении формирования отличительных атрибутов (ресурсных потенциалов, видов деятельности, символов и других параметров) среди действующих [12а]. Более того, процессы накопления [ресурсов] внешнего присоединения также могут работать на увеличение отличий среди действующих субъектов, поскольку новые члены популяции могут приходить из очень разных систем (см. стрелку наверху Рис. 6). В свою очередь, эти различия способствуют обмену различными ресурсами, конкуренции и специализации.
Взаимоусиливающие результаты конкуренции, обмена, мобилизации власти и контроля над ресурсами закрепляют и интенсифицируют этот цикл. Конкуренция и обмен всегда влекут за собой попытки мобилизовать власть [12]. Такая мобилизация увеличивает, по меньшей мере на время, конкуренцию и обмен. Опираясь на эту систему положительной обратной связи, некоторые действователи имеют возможность использовать власть, чтобы контролировать те ресурсы (символические, материальные, организационные и т. д.), которые будут увеличивать их власть, их способность вступать в обмен и их конкурентоспособность. И существующие формы политической централизации работают, как показывает стрелка внизу (Рис. 6), на увеличение как мобилизации власти, так и контроля над ресурсами. В свою очередь эти процессы мобилизации и контроля поднимают уровень специализации и развивают отличительные атрибуты, ибо они ускоряют (до известной степени) конкуренцию и поощряют обмен.
Многие из этих взаимных причинных эффектов в наших двух циклах представляют собой либо нелинейные, либо ступенчатые логические s-функции. То есть они до какого-то момента увеличивают свои значения, а затем увеличение прекращается или наступает спад. Такая модель отношений отчасти объясняется тем, что процессы, присущие этим циклам, самопреобразуются. Например, обмен увеличивает конкуренцию, но раз была мобилизована власть и установлен соответствующий контроль над ресурсами, обмен, скорее всего, станет «институционализированным» [12] и сбалансированным [22], тем самым уменьшая конкуренцию. Другой пример: конкуренция увеличивает мобилизацию власти и в результате - контроль над ресурсами, но раз уж они возросли, эта власть и контроль могут быть использованы, чтобы подавить конкуренцию, по меньшей мере, на время. Эти примеры показывают, что существует множество подпроцессов, кроме тех, что изображены на Рис. 6. Их тоже можно включить в модель при более тонком анализе, но для моих целей здесь достаточно лишь упомянуть о них.
Эти два цикла определяют три основных вида дифференциации: формирование подгруппе высокой внутренней солидарностью и с плотной (относительно других подгрупп) сетевой структурой; формирование различающихся субкультур, у которых фонды знания и репертуары символов различны, а отличительность есть и причина, и следствие формирования подгрупп; формирование иерархий, различающихся по соответствующим долям материальных, политических и культурных ресурсов, которыми владеют разные действователи, и по пределам, в каких «совпадают» [19; 20], «коррелируют» [43] или «консолидируются» [12а] взаимозависимости при распределении ресурсов. Поэтому степень дифференциации популяции определяется исходя из количества подгрупп, субкультур и иерархий, и чем больше дифференциация, тем сложнее проблемы координации или интеграции для такой популяции. Прежде чем перейти к третьей группе макропроцессов, подытожим эти рассуждения в виде нескольких «законов дифференциации».
VII. Уровень дифференциации в некоторой человеческой совокупности есть положительная и мультипликативная функция количества (а) подгрупп, (б) субкультур и (в) иерархий, различимых в этой совокупности (опять явная тавтология, которая устраняется ниже).
(а ) Количество подгрупп в популяции есть нелинейная и мультипликативная функция уровня обмена, конкуренции, специализации и атрибутизации среди членов этой популяции и одновременно положительная функция числа субкультур в ней и скорости внешнего притока и встраивания в нее.
(б) Количество субкультур в популяции есть некоторая аддитивная и s-образная функция уровня конкуренции, обмена, специализации, атрибутизации, мобилизации власти и контроля над ресурсами и одновременно положительная функция формирования подгрупп и иерархий.
(в) Количество иерархий в популяции есть обратная функция мобилизации власти и контроля над ресурсами и положительная функция конкуренции, обмена и формирования субкультур, причем степень консолидации иерархий является положительной функцией мобилизации власти и контроля над ресурсами и отрицательной функцией конкуренции и обмена.
в) Процессы интеграции. Понятие «интеграции» в общем-то туманное, если не оценочное (в смысле, интеграция - это «хорошо», а неудовлетворительная интеграция - «плохо»), но все же оно полезно как этикетка для нескольких взаимосвязанных процессов. Для меня интеграция - это понятие, которое включает три отдельных измерения: степень координации социальных единиц; степень их символической унификации и степень противостояния и конфликта между ними.
С этой точки зрения ключевой теоретический вопрос таков: какие условия обеспечивают или тормозят координацию, символическую унификацию и противостояние-конфликт? В общих чертах ясно, конечно, что существование подгрупп, субкультур и иерархий само по себе увеличивает проблемы соответственно структурной координации, символической унификации и конфликтного противостояния. Следовательно, проблемы интеграции разнообразно дифференцированных единиц имманентны процессу дифференциации. Существование таких проблем вызывает к жизни разные силы «избирательного давления», но, как документально показывает история любого общества, организации, местной общины или иной социальной «макроединицы», наличие такого давления не гарантирует отбора подлинно интегрирующих процессов. В самом деле, при достаточно длительной работе все формы организации дезинтегрируются. Тем не менее в большинстве макроаналитических теорий главная ставка сделана на отбор структурных и культурных форм, которые решают в разной степени проблемы структурной координации, символической унификации и конфликтного противостояния.
Справа на Рис. 6 я изобразил ключевые процессы интеграции. Формирование подгрупп и субкультур порождает проблемы координации, которые, в свою очередь, способствуют включению в структуру (подъединиц внутрь все более обширных единиц) (подробнее см. [67]) и структурной взаимозависимости (совмещенному членству в разных подгруппах и функциональным зависимостям). Формирование субкультур и подгрупп ставит также проблему [1] унификации популяции с помощью «общего» и «коллективного сознания», или, более универсально, «общих символов» (язык, верования, нормы, фонды знания и т. д.). Создание иерархий обостряет эти проблемы. И, наоборот, проблемы унификации могут также повышать избирательное давление в пользу формирования структур, решающих проблемы координации и противостояния, которые связаны с существованием иерархий и подгрупп.
Чистый итог этих проблем символической унификации сводится к возникновению избирательно направленного давления в пользу символического обобщения или развития абстрактных и высокообобщенных систем символов (ценностей, верований, лингвистических кодов, запасов знания), которые способны пополнить символическое разнообразие подгрупп, подкультур и иерархий. Дюркгейм считал этот процесс «ослаблением коллективного сознания» и беспокоился об анемических последствиях высокоабстрактных культурных кодов и правил поведения, тогда как Парсонс [6; 51] называл это «ценностным обобщением» и рассматривал его как «интегрирующий» процесс, открывающий путь для дальнейшей социальной дифференциации. Оба они правы в определенном смысле: если обобщенные культурные коды не совместимы, не имеют определенных очертаний, оторваны или не согласуемы с особенными культурными кодами классов, подкультур или подгрупп, тогда они только отягощают проблемы унификации, но если они совместимы и способны выполнять руководящую роль по отношению к частным кодам, тогда они продвигают интеграцию подгрупп, классов и подкультур. Следовательно, как и показывают встречно направленные стрелки на Рис. 6, символическое обобщение может оказаться обоюдоострым оружием: оно важно для интеграции дифференцированных систем, но часто неадекватно этой задаче и временами отягощает не только проблемы унификации, но также и проблемы координации и конфликтного противостояния.
Как подчеркивают все версии теории конфликта, иерархии среди социальных единиц, особенно консолидированные, взаимозависимые или наложенные друг на друга, порождают проблемы противостояния. Такое противостояние может усилиться, когда почти нет обобщенных символов, но иерархии также порождают тягу к политической централизации в любом из двух направлений. Во-первых, когда существующие элиты стремятся к политической централизации, чтобы контролировать оппозицию. Во-вторых, если они не добиваются успеха и терпят поражение в конфликте, то новая элита будет централизовать власть, чтобы утвердить свое положение и подавить остатки старой иерархии. Как правило, новая элита апеллирует к обобщенным символам (т. е. идеологиям, ценностям, верованиям), чтобы леги-тимизировать эти усилия, и, если удается, она облегчает себе централизацию власти, создавая легитимный авторитет. Но, как указывает длинная стрелка обратной связи внизу Рис. 6, эти процессы приводят в движение те самые силы, которые порождают противостояние. И, как показывают стрелки справа на Рис. 6, централизованная власть не только подавляет на некоторое время оппозицию, она также важна для включения в структуру и становления взаимозависимости, поскольку эти процессы требуют регуляции и контроля в категориях власти и/или авторитета [57]. В самом деле, существование включенности и взаимозависимости, так же как и обобщенных символов, способствует политической централизации. Как проясняет стрелка обратной связи наверху (Рис. 6), политически регулируемые включение и взаимозависимость облегчают дальнейшую специализацию видов деятельности. Этот рост специализации запускает динамические процессы, ведущие к эскалации проблем символической унификации и координации, которые ведут к большей политической централизации. А она в конечном счете породит оппозицию (это демонстрирует стрелка обратной связи внизу на Рис. 6) (подробнее см. [38]).
Итак, динамике интеграции внутренне присущи силы, которые увеличивают дифференциацию и трудности интеграции. Во всех системах в какой-то момент их истории эти проблемы обострялись настолько, что социальный порядок рушился - и воссоздавался уже в другой форме. Таковы, я полагаю, главные выводы из причинно-следственных связей, циклов и петель обратной связи, изображенных на Рис. 6. Завершим этот беглый обзор формулировкой нескольких «законов интеграции».
VIII. Чем больше степень дифференциации популяции на подгруппы, субкультуры и консолидированные иерархии, тем сложнее проблемы структурной координации и конфликтного противостояния в этой популяции.
IX. Чем сложнее проблемы координации, унификации и противостояния в популяции, тем сильнее избирательные давления в пользу структурного включения и взаимозависимости, символического обобщения и политической централизации в этой популяции.
X. Чем больше интегрирована популяция благодаря политической централизации, обобщенным символам и установившимся образцам взаимозависимости-включения, тем более вероятно, что популяция должна увеличить степень своей дифференциации и, следовательно, обострить проблемы координации, унификации и противостояния.
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ТЕОРЕТИЗИРОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Главная проблема аналитического теоретизирования заключается в том, что оно существует во враждебном интеллектуальном окружении. Большинство социальных теоретиков не приняло бы моих посылок с первой же страницы этой статьи. Большинство этих теоретиков не согласилось бы, что существуют общие, вневременные и универсальные свойства социальной организации; и опять же большинство не признало бы целью теории выделение этих свойств и развитие абстрактных законов и моделей их действия. В социологической теории, на мой взгляд, слишком много скептицизма, историцизма, релятивизма и солипсизма, вследствие чего теория, как правило, занимается обсуждением разных тем и персоналий, а не проблемами оперативной динамики социального мира.
В этом очерке я предлагаю вернуться к первоначальному представлению Огюста Конта о социологии как науке. Защищая данный тезис, я наметил общую стратегию: строить гибкие, сенсибилизирующие аналитические схемы, абстрактные законы и абстрактные аналитические модели, использовать каждую их этих трех аналитических стратегий как корректировку к двум другим; затем испытывать абстрактные суждения на их правдоподобие. Я проиллюстрировал эту стратегию, представив мои собственные взгляды на процессы микровзаимодействий и на макроструктурные процессы. Эти идеи носят лишь предварительный и временный характер. Они изложены бегло и в общих чертах. Даже при этом условии мой подход эклектичен и соединяет очень разные научные разработки, и, следовательно, модели и суждения в этой статье представляют на момент ее написания схематический итог аналитического теоретизирования в современной социологии. Наилучшие перспективы для социологии заключаются, по-моему, в дальнейшем развитии такого рода аналитической теории.
ЛИТЕРАТУРА
1.Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. Пер. с фр. М.: Наука, 1991.
2.Дюркгейм Э. Метод социологии //Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М.: Наука, 1991.
3.Конт О. Курс положительной философии. СПб.: Посредник, 1899- 1900, т. 1.
4.Кун Т. Структура научных революций. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1975.
5.Маркс К., Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии // К. Маркс, Ф. Энгельс. Сочинения. 2-е изд. М., 1955. Т. 4. С. 419-^159.
6.Парсонс Т. Система современных обществ. М.: Аспект Пресс, 1997.
7.Поппер К. Р. Логика и рост научного знания. Пер. с анг. М.: Прогресс, 1983.
8.Тернер Дж. Структура социологической теории. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1984.
9.Alexander J. С. Theoretical Logic in Sociology. 4 vols. Berkeley; Los-Angeles: University of California Press, 1982-1983.
10.Alexander J. C. et al. The Micro-Macro Link. Berkeley; Los-Angeles: University of California Press, 1986.
11.Blalock H. M. Causal Inferences in Nonexperimental Research. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1964.
12.Blau P. M. Exchange and Power in Social Life. New York: Wiley, 1966.
1.12a. Blau P. M. Inequality and Heterogenety: A Primitive Theory of Social Structure. N.Y. The Free Press, 1977.
13.Blumer H. Symbolic Interaction: Perspective and Method. Englewood Cliffs (NJ): Prentice-Holl, 1969.
14.Carnap R. Philosophical Foundations of Physics. New York: Basic Books, 1966.
15.Cicourel А. К Cognitive Socioligy. London: Macmillan, 1973.
16.Collins R. Conflict Sociology. New York: Academic Press, 1975.
17.Collins R. Interaction Ritual Chains, Power and Property. In: Alexander et al. The Micro-Macro Link. Berkeley; Los-Angeles: University of California Press, 1986.
18.Conte A. Systeme de philosophic positive. Paris: Bachelier, 1830- 1842.
19.DahrendorfR. Toward a Theory of Social Conflict // Journal of Conflict Resolution, 1958, v. 7, p. 170-183.
20.DahrendorfR. Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford (CA): Stanford University Press, 1959.
21.Duncan O. D. Path Analysis: Sociological Examples // American Sociological Review, 1966, v. 72, p. 1-10.
22.Emerson R. Exchange Theory: Part 2. In: J. Berger, M. Zelditch, B. Anderson (eds.). Sociological Theories in Progress, v. 2. Boston: Houghton Mifflin, 1972.
23.Erikson E. Childhood and Society. New York: Norton, 1950.
24.Freese L. Formal Theorising // Annual Review of Sociology, 1980, v. 6, p. 187-212.
25.Garfinkel H. A Conception of, and Experiments with, «Trust» as a Condition of Stable Concerted Actions. In: O. J. Harvey (ed.). Motivation and Social Interaction. New York: Ronald Press, 1963.
26.Garfinkel H. Studies in Ethnometodology. Cambridge: Polity Press, 1984.
27.Giddens A. New Rules of the Sociological Method. New York: Basic Books, 1977.
28.Giddens A. Central Problems in Social Theory. London: Macmillan, 1981.
29.Giddens A. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press, 1984.
30.Goffman E. The Presentation of Self in Everyday Life. New York: Doubleday, 1959.
31.Habermas J. On Systematically-Distorted Comunication // Inquiry, 1970, v. 13, p. 205-218.
32.Habermas J. Knowledge and Human Interests. Cambridge: Polity Press, 1972.
33.Habermas J. Theory of Communicative Action. 2 vols. v. 1: Reason and the Rationalisation of Society. London: Heinemann, 1981.
34.Hempel C. G. Aspects of Scientific Explanation. New York: Free Press, 1965.
35.Heritage J. Garfinkel and Ethnometodology. Cambridge: Polity Press, 1984.
36.Homans G. C. Social Behavior: Its Elementary Forms. New York: Harcourt, Brace, 1974.
37.KeatR. and UrryJ. Social Theory as Science. London: Routledge and Kegan Paul, 1975.
38.Kelley J. and Klein H. S. Revolution and the Rebirth of Inequality // American Journal of Sociology, 1977, v. 83, p. 78-99.
39.Knorr-Cetina K. D. and Cicourel A. V. (eds.). Advances in Social Theory and Methodology: Toward an Integration of Micro- and Macro-Sociologies. London: Routledge and Kegan Paul, 1981.
40.Kuhn M. H. and McPartland T. S. An Empirical Investigation of Self-Attitudes // American Sociological Review, 1954, v. 19, p. 68-96.
41.Kuhn M. H. and Hickman C. A. Individuals, Groups, and Economic Behavior. New York: Dryden Press, 1956.
42.Lacatos I. Falsification and the Methodology of Scientific Research Programmes. In: I. Lacatos and H. Musgrave (eds.). Criticism and the Growth of Scientific Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
43.Lenski G. Power and Privilege. New York: McGraw-Hill, 1966.
44.Mayhew B. H. Structuralism versus Individualism // Social Forces, 1981, v. 59, p. 627-648.
45.Mayhew В. H., Levinger R. Size and Density of Interaction in Human Aggregatives // American Journal of Sociology, 19”*6, v. 82, p. 86-110.
46.Mead G. H. Mind, Self and Society. Chicago: University of Chicago Press, 1934.
47.Merlon R. K. Social Theory and Social Structure. New York: Free Press, 1968.
48.Munch R. Theory of Action: Reconstructing the Contributions of Tol-cott Parsons, Emile Durkheim and Max Weber. 2 vols. Frankfurt a. M.: Suhr-kamp, 1982.
49.Parsons T. The Structure of Social Action. New York: McGraw-Hill, 1937.
50.Parsons T. An Outline of the Social System. In: T. Parsons et al. (eds.). Theories of Society. New York: Free Press, 1961.
51.Parsons T. Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1966.
52.Parsons T. The System of Modern Societies. Englewood Cliffs (NJ): Prentice Hall, 1971.
53.Parsons T. Some Problems in General Theory. In: J, C. McKinney, E. C. Tiryakian (eds.). Theoretical Sociology: Perspectives and Developments. New York: Free Press, 1971.
54.Parsons T. Action Theory and the Human Condition. New York: The Free Press, 1978.
55.Popper K. R. Conjectures and Refutations. London: Routledge and Kegan Paul, 1969.
56.Raddiff-Brown A. R. A Natural Science of Society. Glencoe (IL): Free Press, 1948.
57.Rueschemeyer D. Structural Differentiation, Efficiency and Power // American Journal of Sociology, 1977, v. 83, p. 1-25.
58.Schiitz A. The Phenomenology of the Social World. Evanston: Northwestern University Press, 1967.
59.Shibutani T. A Cybernetic Approach to Motivation. In: W. Buckley (ed.). Modern Systems Research for the Behavioral Scientist: A Sourcebook. Chicago: Aldine, 1968.
60.Spenser H. Principles of Sociology. New York: Appleton, 1905.
61.Turner J. H. Theoretical Strategies for Linking Micro and Macro Processes: An Evaluation of Seven Approaches // Western Sociological Review, 1983, v. 14, p. 4-15.
62.Turner J. H. Societal Stratification: A Theoretical Analysis. In: G. Seebass and R. Tuomela (eds.). Social Action. Dordreht: D. Riedel, 1985a, p. 61-87.
63.Turner J. H. In Defence of Positivism // Sociological Theory, 1985b, v. 4.
63а. Turner J. H. The Structure of Sociological Theory. 4th end. Home-wood, 111.: The Dorsey Press, 1986.
64.Turner R. H. Role-Taking: Process versus Conformity. In: A. M. Rose (ed.). Human Behaviour and Social Processes. Boston: Houghton Mifflin, 1962.
65.Turner R. H. A Strategy for Developing an Integrated Role Theory // Humboldt Journal of Social Relations, 1980, v. 76 p. 128-139.
66.Turner ch. 1, 1984.
67.Wallace W. L. Principles of Scientific Sociology. New York: Aldine, 1983.
Маргарет Арчер РЕАЛИЗМ И МОРФОГЕНЕЗ
ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Публикуемая работа представляет собой одну из глав книги: Арчер М. «Реалистская социальная теория: морфогенетический подход»1. Эта книга продолжает и развивает некоторые идеи, высказанные в предыдущем теоретическом труде М. Арчер «Культура и деятельность: место культуры в социальной теории»2. Некоторые принципиальные положения автора таковы.
Социолог, полагает Арчер, должен аналитически различать с одной стороны, структуру (или культуру), а с другой - деятельность. Это два аспекта социальной жизни. Стремление представить их в неразличенном единстве она называет конфляционизмом. Слово «conflation» означает «соединение», «сплав», а также сведение двух текстов в один (в публикуемом тексте оно для удобочитаемости переводится как «сращение»). Иногда Арчер использует весьма специфический термин "elision" («элизия»). Имеется в виду особенность некоторых языков, например, французского: при следовании двух слов друг за другом отпадает конечный гласный перед начальным гласным (вместо «la opinion» - «1'opinion»), так что образуется как бы иное слово. Конфляционисты-элизионисты, говорит Арчер, утверждают, что любая деятельность структурирована, а структуры не могли бы существовать, если бы не реализовались через деятельность. Здесь есть три логических возможности. Одни авторы считают, что деятельность - это эпифеномен структуры. Другие - что структура есть эпифеномен деятельности. В первом случае сращивание происходит «сверху вниз», т. е. деятельность лишается автономии по отношению к структуре; во втором случае - «снизу вверх», т. е. структура3 лишается автономии относительно деятельности. Наконец, есть третья возможность: и структура, и деятельность лишаются автономии, сращение, элизия происходит посередине.
1 Archer Margaret S. Realist social theory : the morphogenetic approach. Cambridge; New York : Cambridge University Press, 1995.
2 Archer M. S. Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1988.
3 Арчер часто использует дихотомию «parts and people»; первое можно было бы перевести как «роли», что, собственно, в известном смысле тоже структура, второе - просто «люди», действующие человеческие существа.
Именно с концепцией «сращения в центре» Арчер полемизирует особенно подробно. Тем самым становится очевидным, на что в первую очередь нацелена критика: это концепция двойственности структуры, теория структурации Э. Гид-денса. Помимо Гидденса, упоминается ряд весьма известных авторов: 3. Бауман, М. Дуглас и др.
Конфляционисты, пишет Арчер, забывают о временном измерении социальной жизни. Ведь структуры по времени предшествуют структурируемой деятельности. А если в результате деятельности возникает структура, то ею определяется уже последующая деятельность. В «Культуре и деятельности» основное внимание уделено аналитическому различению (основанному на различении «социальной интеграции» и «системной интеграции» у Д. Локвуда) «ролей и людей» в области культуры. С одной стороны, культура, мир идей как таковой требует логической последовательности. В чисто смысловом аспекте взаимосвязь идей неслучайна. С другой стороны, эти идеи, компоненты культуры так или иначе навязываются людям, благодаря чему возникает каузальное (т. е. причиненное, а не просто следующее логике смысла) согласие. Аналитическое различение этих двух моментов позволяет развить идеи Локвуда. На основе принципа противоречия, логической последовательности происходит интеграция культурной системы (КС); на основе каузального принуждения - взаимоотношений между агентами культуры - со-циокультурная интеграция (СК). Различение «КС/СК» выступает затем у Арчер как основной исследовательский принцип.
В этой же работе Арчер вводит и понятия морфогенеза и морфостазиса, т. е. становления и существования социальных форм. Она выделяет трехчленные циклы как применительно к социальной структуре, так и к культуре: структура создает условия для взаимодействия действующих; это взаимодействие происходит согласно своим внутренним особенностям; в результате возникает новая или видоизменяется старая структура.
Такого рода исследования приводят теоретика к необходимости выстроить здание своих положений на более прочном основании. Новая книга М. Арчер посвящена фундаментальным вопросам социальной онтологии, а философской базой для нее служит современный английский реализм, в первую очередь, концепция Р. Бхаскара. Важнейший ее элемент (он присутствует и в данной статье) - различение транзитивных и нетранзитивных объектов, т. е., с одной стороны, моделей и понятий, а с другой - реальных «сущностей». Отечественный читатель уже имел возможность ознакомиться с работами реалистов. В первом выпуске альманаха «Социо-Логос» были напечатаны отрывки из работ Р. Бхаскара и У. Аутвейта4. К этому же направлению относит себя и М. Арчер.
4 Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Социо-Логос. М.: Прогресс, 1991. С. 141 -158; Аутвейт У. Действие, структура и философия реализма // Там же. С. 159-169; Бхаскар Р. Общества // Там же. С. 219-240.
Социальная теория должна быть полезной и применимой: сама по себе она не самоцель. Общество как досадный факт приходится постигать и в теории, и для практики. Нельзя отделять одну из этих задач от другой, ибо если бы практическая полезность была нашим единственным критерием, мы обрекли бы себя на инструментализм, двигаясь наощупь без какого-либо теоретического осмысления. И напротив, чисто теоретическое приручение досаждающей нам твари может лишь распалить ученого, глубоко убежденного в онтологической правильности своих суждений, но вряд ли согреет практиков социального анализа, которым нужны удобные, изготовленные в расчете на пользователя инструменты. Правда, вряд ли удастся придать им карманный формат и снабдить простым руководством, но потребитель имеет все основания выражать недовольство, получая взамен громоздкую махину без каких-либо инструкций о том, что же он сможет для себя прояснить при более или менее правильном ее применении.
Но, поскольку социальные теоретики робеют перед «эмерджентностью», у нас, действительно, не так-то много конкретных примеров того, как подходят к досадному факту общества, основываясь на его «эмерджентных» свойствах. Напротив, очень заметно отсутствие последовательных социальных теорий, которые бы безоговорочно признавали эмерджентность своим центральным принципом. Исключение составляет плодотворная, хотя и не увенчавшаяся полным успехом, попытка Д. Локвуда проторить дорогу в этом направлении [14]. Другим удавалось продвинуться еще немного дальше, но затем они теряли присутствие духа и спешили укрыться: одни - в стане индивидуализма, другие - холизма. Примером первого может служить У. Бакли, который вначале выдвинул концепцию морфогенетиче-ских/морфостатических процессов структурного развития, а затем лишил их онтологических оснований, истолковав эмерджентные свойства как эвристический инструмент. «Структура, - писал он, - это абстрактный конструкт, не что-то отличное от непрерывного процесса взаимодействия, но скорее временное удобное его отображение в какой-то один момент» [8].
Напротив, П. Блау [7] сначала кропотливо трудился над выведением свойств сложных социальных явлений из простейших форм обмена, а затем, по-видимому, увлекся рассмотрением обратного влияния этих сложных явлений на процесс обмена, в ущерб исследованиям их взаимодействия, и фактически оказался в плену холистского подхода. Трудно обнаружить полнокровную эмерджентистскую теорию: ведь никому еще не удавалось пройти между Сциллой индивидуализма и Харибдой холизма.
Именно из-за предостережений, что «редукционизм» и «реификация» - это дорожные указатели на пути в ад, вымощенном дурной концептуализацией, все больше теоретиков будут, несомненно, обнаруживать склонность к срединному сращению (конфляции) уровней структуры и деятельности. Такая позиция обещает онтологическую безопасность*, однако эта самоудовлетворенность носит слишком фарисейский характер. Они радуются, что их нельзя обвинить ни в атомизме, ни в неправедном предпочтении индивида или общества, ни в заигрывании с социальными фактами. Они гордятся своей теоретической воздержанностью, кормясь одним только аредукционизмом и малой долей синкретизма, взятого ради укрепления их позиций. Им выгодно сравнивать себя с теми из нас, кто открыто высказывает неудовлетворение нынешним бедственным положением теории (мы можем указать лишь на несколько ценных теоретических замыслов), и вместе с тем верит, что единственный выход из него - видеть ситуацию такой, какова она есть, пытаться исправить ее и надеяться, что наши усилия принесут свои плоды.
* Это явный намек на А. Гидденса, в концепции которого «ontological security» («онтологическая безопасность») занимает центральное место.
С этой точки зрения, представляют значительный интерес работы Р. Бхаскара, поскольку его онтологический реализм, эксплицитно опирающийся на эмерджентность, нацелен на разработку такой социальной теории, которая помогла бы вырулить между опасными крайностями индивидуализма и холизма. Реалистская метатеория «очевидным образом совместима с широким спектром теоретических подходов» [15, 366], а философский реализм Бхаскара выступает как общая платформа, на которой могут базироваться различные социальные теории (в число которых, однако, не входят никакие формы конфляционизма - все равно, ориентирован ли он сверху вниз или снизу вверх - поскольку их эпифеноменализм сводит к нулю слоистую природу социальной реальности). Однако бхаскарова трансформационная модель социального действия (ТМСД) может претендовать и на статус самостоятельной теории. Разумеется, она пока не завершена (философская проработка основ - еще полдела для нас, социологов), но именно эта незавершенность позволяет поставить вопрос, можно ли ее завершить или хотя бы дополнить морфогенетическим/ морфостатическим подходом (М/М).
Хотя ответ будет утвердительным, здесь требуются некоторые модификации и оговорки - в этом и состоит задача теоретика: нам приходится вскарабкиваться на плечи коллег. Более того, в некоторых решающих вопросах нужно внести полную ясность и добиться размежевания. В частности, нельзя отрицать, что многие комментаторы (а иногда, предупреждая их, и сам Бхаскар) отмечали сродство между ТМСД и теорией структурации Э. Гидденса, представляющей собой одну из версий срединного сращения. Поэтому прежде чем рассматривать совершенно правомерный вопрос о совместимости ТМСД с М/М-подходом (ибо обе эти конструкции базируются на реализме), следует показать, что модель Бхаскара содержит такие базовые допущения, которые делают невозможным отнести его к лагерю сторонников срединного сращения. В особенности это касается основополагающих для реализма и принципиально неприемлемых для срединного сращения положений о самой эмерджентно-сти. Безусловно в теоретических построениях Бхаскара был такой момент, когда призывные песни сирен, поющих о взаимном конституировании структуры и деятельности слышались весьма отчетливо. Есть даже пассажи, где Бхаскар заигрывает с сиренами конфляционизма, однако эмер-джентистские основания ТМСД всегда оказывались сильнее. Наш Одиссей ускользнул от опасностей, и он, наверное, вообще бы не медлил, если бы в тот момент его манили к себе какие-то иные социологические гавани. Кроме того, если бы не существовало некоторого сходства в позициях эмерджентистов и элизионистов, основанного на непризнании существа спора между холистами и индивидуалистами, никто бы не стал думать, что враги врагов должны быть друзьями.
Отсюда вытекает необходимость в уточнении исходных посылок всех трех упомянутых социальных теорий. (Бхаскара, Гидденса и моей), в равной мере не признающих продуктивность спора в терминах индивидуализма и холизма, чтобы установить, в чем заключаются позитивное сродство между ними.
Морфогенез, структурация и трансформационная модель социального действия
Прежде всего отметим, что по замыслу и по общим установкам ТМСД и М/М-подход действительно кажутся очень близкими. В книге «Возможность натурализма» Бхаскар дает набросок того, что можно назвать шестью пунктами Хартии, воплотившейся в его ТМСД.
(1) «Я утверждаю, что общество несводимо к индивидам и... даю общие контуры модели взаимосвязи между индивидами и обществом...
(2) ...что социальные формы составляют необходимое условие для всякого интенционального акта,
(3) ...что на пред существовании социальных форм основана их автономность как возможных объектов исследования...
(4) ...что их реальность основана на их причиняющей силе...
(5) Лредсуществование социальных форм будет рассматриваться как отправная точка для выведения трансформационной модели социального действия...
(6) ...причиняющая сила социальных форм опосредуется человеческой деятельностью». (Выделение и курсив мои - М.А)[4, 25-26].
Пункт (1), где говорится о модели, связывающей структуру и деятельность, очень созвучен с М/М-подходом, нацеленным скорее на рассмотрение взаимосвязи этих двух уровней, чем на выявление различий между ними. Тем не менее сходство это не имеет решающего характера. В конце концов, теория структурации* тоже не утверждает, что общество сводимо к индивидам.
* То есть концепция Э. Гидденса. Гидденсу же принадлежит и упоминаемое ниже понятие «дуальность (т. е. двойственность) структуры».
Она признает реальность структурных свойств, даже если их существование невозможно без непосредственного сиюминутного человеческого действия*, и именно для учета взаимосвязей между структурой и деятельностью разрабатывает концепцию «модальностей». Итак счет в поединке между аналитическим дуализмом и двойственностью структуры - 15 : 15. В пункте 2 идея структурации развивается несколько дальше, ибо структурные свойства оказываются настоящей средой социального действия. Однако М/М-теория, в свою очередь, с большой осторожностью относится к положению о том, что социальные формы составляют необходимые условия для любого интенционального акта, усматривая в нем слишком решительный разрыв с природой, и утверждает, что естественное взаимодействие может [само по себе] обеспечить необходимые и достаточные условия для целенаправ-ленности.<...> Счет в игре стал 30 : 15 в пользу структурации.
Пункт 3, говорящий о пред существовании и автономности социальных форм (и то, и другое носит принципиальный характер) склоняет чашу весов в другую сторону. Темпоральность - неотъемлемый компонент М/М-подхода, что закреплено в его первой аксиоме: «структура предшествует действию (или действиям), которое (которые) ее трансформируют». Отсюда следует, что в любом социологическом исследовании есть начальная фаза, где «постулируется, что некоторые свойства социальной структуры и культуры являются стратегически важными и длящимися во времени и что они задают те пределы, внутри которых могут иметь место конкретные социальные ситуации. Основываясь на этой посылке, деятельностный подход может помочь в изучении природы этих ситуаций, а также того, как они воздействуют на поведение. Он не объясняет социальную структуру и культуру как таковые, если только не считать изучения процесса в развитии, когда следует начинать с некоторого предшествующего момента, в который элементы структуры и культуры берутся как данность» [9, 93]. Итак, автономность имеет временной (и временный) характер. Это означает, что подразумеваемые здесь структурные свойства не являются изобретением ныне действующих деятелей, но их нельзя и онтологически свести к «материально-сущему» (необработанным ресурсам) и поставить в зависимость от совершаемых действий непосредственного человеческого осуществления (направляемого правилами) и их прямых последствий.
* Арчер использует понятие «instantiation», что должно подчеркивать моментальный характер происходящего.
Именно эти последние производят «зримый образец» - те хорошо известные, поддающиеся обнаружению регулярности человеческого взаимодействия, которые никогда не были предметом «социальной гидравлики» в М/М подходе. Это уже очень сильно отличается от утверждения Гидденса о том, «что социальные системы существуют только благодаря непрерывному их структурированию в течение времени» [11, 217]. Лредсуществование и автономность означают прерывания в процессе структурирования/реструктурирования, который можно понять только путем аналитического различения между «до» (фаза 1), «во время» (фаза 2) и «после» (фаза 3), что отнюдь не должно отрицать непрерывности человеческой деятельности, необходимой для длительного существования всего социального.
Бхаскар также бескомпромиссно высказывается в пользу необходимости изучения фазы «до», когда пишет, что «общество существует до индивида» [8, 77]. Мы ходим в церковь, в общении мы используем язык; эти верования и язык уже существовали в момент нашего рождения. Таким образом, «люди не создают общество, ибо оно всегда существовало до них... Социальная структура всегда уже готова». Бхаскар сам отмечал, что, по сравнению с Гидден-сом, «склонен придавать структурам, имеющим трансфактическую действенность*, более сильное онтологическое обоснование и акцентировать яредсуществование социальных форм» [6, 85]. Поскольку «отношения, в которые вступают люди, существуют до вступающих в отношения людей, чья деятельность воспроизводит и трансформирует отношения, то сами эти отношения суть структуры» [5, 4]. Они являются структурами в силу своих эмерджентных свойств, которые несводимы к действиям современников, а ведут свое происхождение от прошлых действий, породивших их и, таким образом, создавших контекст нынешней деятельности. Счет снова становится ничейным - 30 : 30.
* То есть не просто обнаруживающим свое воздействие на социальную жизнь в данный конкретный момент, но заставляющим признать свое более продолжительное и независимое существование.
Но если это так, то для Бхаскара отсюда следует, что теоретическая модель, которую я называю срединным сращением, «должна быть кардинально скорректирована» [5, 76], а остальные варианты конфляционизма отвергнуты. Критика всех трех моделей конфляционизма (сращение снизу вверх, сверху вниз и в центре) у Бхаскара идентична: «в первой модели есть действие, но нет условий; во второй - есть условия, но нет действия; третья модель не делает различий между ними» [5, 77]. Это различение необходимо не только из-за гаредсуществования и автономности социальных форм, но и потому, что реляционные свойства обладают причиняющей силой (см. пункт 4), хотя их причинность отличается от причинности в природе (о чем см. ниже, ибо именно здесь-то М/М-подход может кое-что добавить). Если предшествующие эмерджентные свойства действительно обусловливают последующую интеракцию, им нельзя отказывать в реальности и сводить их, как это делает Гидденс, «к следам в памяти», тем самым скатываясь к свойственной индивидуализму стратегии «персонализации» и являя собой один из примеров отчаянной попытки втиснуть неуловимое социальное в якобы более осязаемые рамки индивидуального. Как ядовито заметил Э. Геллнер [10, 262], раз выпуклость внутри Альджи, то и Альджи выпукл, и выпуклость - это Альджи*.
* По-английски - непереводимая игра слов: «The bulge is inside Algy, Algy is buldgy and the buldge is Algy».
Как неудобно получается: раз теперь оба элемента взаимно конституированы, то и речи не может идти о том, чтобы рассмотреть их взаимодействие и выявить их независимые причиняющие силы. Условия и действия нужно рассматривать порознь, чтобы можно было говорить об обусловленном действии. <...> Теперь морфогенез выходит вперед со счетом 40:30.
Делая это временное различение, Бхаскар использует образ скульптора, который извлекает форму из существующих уже материалов с помощью имеющихся в распоряжении иструментов. Подходя с точки зрения М/М, следовало бы просто добавить, что некоторые материалы менее податливы, чем другие, что для работы с ними существуют специальные инструменты, и что социологи должны учитывать эту разницу. Иными словами, приступая к изучению какого-либо социального процесса, необходимо прежде всего четко различать, чем является этот процесс по преимуществу: трансформацией или воспроизводством.
Морфогенез и морфостазис в действительности очень близки к понятиям трансформации и воспроизводства: все четыре термина обозначают процессы, во время которых нечто, что существовало «до», обретает свое «после». Поэтому о социальной структуре «больше уже нельзя говорить, что ее создают люди как агенты. Скорее мы должны сказать, что они воспроизводят или трансформируют ее. Иными словами, если общество уже сотворено, то любая конкретная человеческая практика... может только трансформировать его; вся целокупность действий людей может либо поддерживать существующее общество, либо изменять его» [4, 33-34]. Снова Бхаскара тянет в компанию к Гидденсу, ибо тот тоже не позволяет себе выходить за рамки настоящего времени. Как говорит Бхаскар, «именно потому, что (в перспективе преднамеренной человеческой деятельности) социальная структура всегда дана, я предпочитаю говорить не о структурации, как Гидденс, а о воспроизводстве и трансформации (хотя и признаю, что эти понятия очень близки). По-моему, термин «структурация» отдает волюнтаризмом. Социальная практика - это всегда, так сказать, реструктурирование» [6, 85]. В моей терминологии, морфогенез - это всегда трансформация морфоста-зиса. Таким образом пункт 5 модели Бхаскара, а именно, что «гаредсуществование социальных форм будет рассматриваться как отправная точка для выведения трансформационной модели социального действия» оказывается ключевым для всей игры. ТМСД содержит фазы: «до» (предсуще-ствование социальных форм), «во время» (сам процесс трансформации) и «после» (трансформированное, так как социальные структуры имют только относительно продолжительное существование). То же самое относится и к морфогенезу, происходит взаимозацепление, ибо и ТМСД должна рассматривать свою последнюю фазу как начало нового цикла. Как отмечает Бхаскар, «эмерджентное возникновение предполагает реконструкцию того, как исторические процессы формируются из «более простых» составляющих» [5, 80]. Логическим образом отсюда вытекает, что мы можем также теоретизировать относительно совершающегося ныне эмерджентного возникновения более сложных вещей, если, конечно, мы рассматриваем это возникновение как нечто протяженное во времени, четко различаем предшествующее и следующее в этой последовательности, но, прежде всего, сохраняем демаркационную линию между /гредсуществующими условиями и актуальными действиями.
Ядовитое жало находится здесь в хвосте, в самой последней фразе. М/М-подход настаивает на необходимости поддерживать аналитическое различение структуры и деятельности, чтобы трансформационная модель могла доказать свою работоспособность, т. е. выполнять ту работу, в которой нуждаются практики социального анализа. Все же морфогенез еще не выиграл ни гейма, ни сета; здесь скорее речь идет о долгом скучнейшем матче, так как Бхаскар не решается сделать окончательный выбор в пользу аналитического дуализма, от которого зависит, заработает ли ТМСД. Ввиду досадной уникальности социальных объектов многое в подходах к ним Гидденса оказывается исключительно соблазнительным. Заманчив путь срединного сращения, но это уже сигнализирует о начале следующего гейма.
Сирены призывают не делать разделений
Характерная особенность социального состоит в зависимости от деятельности. Без человеческой деятельности ничто в обществе не может возникнуть, постоянно существовать и изменяться. В этом мы все можем согласиться: в отличие от природной, социальная реальность несамодостаточна. В этом ее онтологическая причудливость, вот почему она представляет собой досадный факт. Задача упростится, если мы попытаемся последовательно ответить на вопрос, чья именно деятельность за что и когда ответственна? Нам кажется, что путаница в ответах на эти вопросы происходит из-за слишком резкого и совершенно ненужного логического перехода от банального положения «нет людей - нет общества» к в высшей степени сомнительному утверждению «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди». Этот переход очень хочется сделать, когда мы в самом общем виде мысленно охватываем историческую панораму «социетального»*.
* Т. е. относящегося ко всему обществу (от англ, «society» - общество»).
Ведь непонятно, как может общество переходить от одной эпохи к другой без постоянно поддерживающей его деятельности сменяющих друг друга поколений действующих, и как можно вычленить совершающееся в данную конкретную эпоху из контекста мириадов смыслов и практик, без переплетения которых нет социальной ткани? Между тем, само это желание во многом диктуется впечатляющим образом «цельнотканого полотна», бесконечного рулона, развертывающегося во времени. В этой ткани нет ни прорех, ни разрезов, в любой момент обозреть ее можно только целиком, просто потому что в ней нет отдельных кусков. Каждый кусок вплетается в единое целое своим собственным, постоянно меняющимся узором и при этом - не отделим от уже готовой материи.
Впечатляющие образы редко отступают под напором контраргументов. Рациональные доводы не лечат слепоту, поэтому нам придется прибегнуть к гомеопатии и попытаться сконструировать свой собственный образ теми же средствами. Представим общество как платье, которое передавалось по наследству внутри большой человеческой семьи и сохранило на себе следы пережитого. Все в заплатах, оно местами то застрачивалось, то распарывалось для различных надобностей, многократно перелицовывалось, так что сегодня в этом платье осталось совсем немного материи, из которой оно было первоначально сшито. Совершенно изменился и покрой. От старины осталось кое-что, вроде бабушкиных кружев на подвенечном наряде у внучки. Зачем нам этот образ платья? Затем, что в нем есть швы, а значит, и возможность изучать отдельные части, спрашивать себя, когда и какие делались изменения, кем они делались и как к ним относились наследники. Именно так я намерена трактовать социальные структуры, отношения между ними и человеческой деятельностью. Гидденс зачарован образом полотна, да и Бхаскар все-таки остается под его впечатлением. Ошибочность заключена в теоретических следствиях.
Для начала мы подтвердим очевидное: нет людей - нет общества. Более того, и Гидденс, и Бхаскар, и я, пожалуй, согласимся с тем, что «между обществом и людьми пролегает онтологическая пропасть» [4, 37], ибо свойства общества могут существенно отличаться от свойств людей, причем первые зависят от деятельности последних. Можно было бы согласиться даже с утверждением Бхаскара о том, что «люди и общество... не состоят в диалектической взаимосвязи. Они конституируют не два момента одного процесса, но, скорее, означают нечто радикально отличное друг от друга» [5, 76]. Однако именно отсюда Гидденс перескакивает к утверждению: «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди». Структурные свойства общества обретают реальность (в противоположность виртуальному материальному существованию) только тогда, когда они непосредственно осуществляются действующими. Их непосредственное осуществление, таким образом, ставится в зависимость от теперешней деятельности, которая, в свою очередь, обусловлена возможностью для действующих в данное время агентов познавать, что они делают. Бхаскар испытывает искушение сделать тот же самый скачок, что и Гидденс, и по той же самой причине, а именно по причине несамодостаточности общества как социальной реальности. Подробно рассматривая эту проблему, он формулирует тезисы об отличительных особенностях самодостаточной реальности. Будь эти положения правильными, Бхаскар оказался бы в стане конфляционистов. Первые два тезиса, которые утверждают, что социальные структуры зависят от деятельности и от того, как действующие ее понимают, очень близки к положению Гидденса о том, что общество конституируется в деятельности, осознаваемой действующими, на что уже указывал Аутвейт [11, 70]. Я хочу показать, что оба эти тезиса не верны, что это признает сам Бхаскар и что его третье положение (эффект существования социальных структур проявляется только через человеческую деятельность) фактически означает отказ делать указанный выше необоснованный переход.
Первый тезис Бхаскара заключается в том, что социальные структуры «в отличие от природных механизмов... существуют только благодаря деятельности, которой они управляют, и не могут быть охарактеризованы независимо от нее» [5, 78]. Бентон убедительно показал, что, если ключевым словом считать слово «управляют», то с этой теоремой никак нельзя согласиться [3, 17]. По собственному утверждению Бхаскара, власть, например, может существовать безотносительно к ее применению, таким образом, в отдельно взятый момент времени она может ничем не править. Однако Бентон оставляет лазейку для зависимости °т деятельности и признает ее необходимость для сохранения потенциала управления. Например, государство может не использовать свою способность к принуждению в полной мере, однако такие действия, как повышение налогов и Увеличение армии могут быть совершенно необходимы для поддержания властного потенциала. Бхаскар принимает этот довод и спешит им воспользоваться. Он пишет, что «структура власти может воспроизводиться без применения власти, а власть может применяться в отсутствие какого бы то ни было наблюдаемого конфликта... находя поддержку в человеческой практике, которая ее воспроизводит или потенциально трансформирует. Понимаемый таким образом тезис о зависимости социальной структуры от деятельности должен быть принят. Социальные структуры существуют материально, но переносятся из одного пространственно-временного местоположения в другое только благодаря человеческой практике» [4, 174]. То же самое мог бы сказать Гидденс, и надо честно признать, что это положение работает в отношении некоторых аспектов социальной структуры. Но главное состоит в том, что оно неприменимо к социальной структуре в целом. Возьмем для примера демографическую структуру. На первый взгляд может показаться, что она полностью зависит от деятельности - она все время структурируется так, какова она есть, если люди в буквальном смысле слова занимаются воспроизводством вообще, а не воспроизводством какого-то образца. Предположим, однако, что все действия будут направлены на ее преобразование: структура (неустойчивая, а тем более устойчивая) полностью не исчезнет в течение нескольких поколений. Кто будет ее поддерживать все это время? Те кто конституирует ее простым фактом своего существования? Да. Но при таком понимании все сводится к банальному «нет людей - нет демографии»; структура сохраняется в том или ином виде не благодаря их намерениям, не как непреднамеренное следствие их действий, т. е. не благодаря интециональности нынешних действующих - поскольку мы предположили, что все они стремятся ее преобразовать. Таким образом, тезис о зависимости структур от деятельности можно принять только в том случае, если иметь в виду зависимость от деятельности давно умерших. Актуальная демографическая структура ничем не обязана живущим в данный момент людям, кроме как в совершенно банальном смысле. Мы здесь имеем дело с относительно устойчивым эмерджентным свойством (чтобы демографическая структура стала неустойчивой, необходимы пропорциональные отношения между возрастными когортами), которое на протяжении определенного времени обнаруживает сопротивление всяким действиям, направленным на его изменение.
Можно ли считать наш пример каким-то исключением? Вовсе нет, ибо существуют по меньшей мере три класса структурных свойств того же рода. Во-первых, отметим, что это утверждение применимо к структурам распределения самых разных уровней и признаков (например, распределение капитала), хотя и не ко всем (например, цвет глаз). Во-вторых, и это существенно, если говорить об эмерджент-ных свойствах взаимодействия человека с природой (парниковый эффект, исчезновение целых биологических видов, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и разрушение озонового слоя), от которых зависит будущая деятельность всего человечества, то складывается впечатление, что все большее число таких свойств уже сегодня становится необратимыми, а воспроизводство некоторых из них оказывается просто ненужным из-за того, что предыдущая деятельность людей сделала эти свойства неотъемлемыми и неискоренимыми чертами современной жизни. Не нужно быть ярым сторонником партий «зеленых» или «красных», чтобы понять, что последствия наших недружественных отношений к природе падут на головы последующих поколений. Что-то из этих следствий они попытаются не воспроизводить, но другие изменить будут просто не в состоянии. Вместо этого они будут страдать, если придется, и избегать, если смогут,- но оба рода деятельности ограничены свойствами и обстоятельствами, которые не этими поколениями сотворены.
Может показаться, что наши примеры взяты из области, которую Гидденс безоговорочно наделяет статусом «материально сущего», так что свойства, не зависимые от актуальной деятельности, следует относить к разряду физических законов, запущенных в ход деятельностью предыдущих поколений. В ответ мы можем указать на другую сферу с интересующими нас свойствами, к которой это возражение неприменимо.
Обратимся к культуре. Ясно, что появление и накопление человеческого знания было непосредственно связано с Деятельностью. Тем не менее, будучи однажды записано (вырезано рунами или покрываясь пылью в Британском музее), оно остается знанием без непосредственно знающего субъекта. Это Знание с большой буквы, поскольку оно сохраняет диспозиционный характер* быть понятым. Даже будучи никому неизвестным, оно потенциально сохраняет силу** (в противоречивости и дополнительности по отношению к другим элементам культуры), которая сохраняется, и не будучи применяема. Онтологически оно существует; и, если заключенная в нем теория истинна, если описываемый им метод применим на практике, или содержащееся в нем утверждение можно проверить, то оно остается знанием, совершенно независимо от того, знают ли о нем, используют ли его, верят ли в его истинность актуальные деятели. О реальности знания мы можем судить по возможным последствиям от его применения. Старинное снадобье, обладающее лечебными свойствами, будет лечить и через сто лет, если его рецепт заново обнаружат и опробуют. В этом случае знание активируют, а не осуществляют (это совершенно разные вещи), ибо лечебное средство не становится реальным, истинным и полезным только потому, что кто-то стал его принимать. Значимость культурной системы, которая существует (т. е. в своем существовании не зависит от знания о ней), но решающим образом каузально соотнесена с социокультурным уровнем, который зависит от деятельности, будет подробно разъяснена в следующей главе. Эмерджентные культурные свойства вводятся здесь в качестве еще одной широкой категории социального, которая онтологически не зависит от деятельности людей здесь и теперь.
* Т. е. предрасположенность.
** Потенциальная власть государства сохраняется, даже если не применяется, потенциальная сила знания сохраняется, даже если не применяется. По-английски это передается в оригинале одним и тем же выражением: «potential power(s) ...unexercised».
Итак, рассматривая эмерджентные свойства, мы показали, что проблема их зависимости от деятельности в настоящем или прошедшем времени - это проблема эмпирическая. Каждый момент осуществления в деятельности подтверждает полную необоснованнось резкого перехода К утверждению: «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди».
Второй тезис Бхаскара об особенностях социальных структур отрицает их существование, независимое от того, «как действующие понимают то, что они делают» [5, 78]. Бхаскар опять оказывается очень близок к Гидденсу, который говорит о сознательной социальной деятельности и о том, что все происходящее в обществе доступно для понимания и зависит от умелых действий людей, oh-от тезис допускает тройную интерпретацию. Во-первых, можно понять, что социальные структуры существуют только потому, что действующие имеют некоторое понятие о том, что они делают. Как верно замечает Бентон, при таком понимании тезис не содержит ничего нового, ибо «трудно себе представить, как вообще можно говорить о действующем, не прибегая к понятию осознаваемой деятельности, а поскольку действующие индивиды составляют необходимое условие существования социальной структуры (что едва ли можно оспорить), то тезис можно считать доказанным» [3, 17]. Все верно, но здесь мы вновь оказываемся перед банальным «нет людей - нет и общества». Во-вторых, можно понять, что существование социальных структур зависит от специфической трактовки действующими своих взаимоотношений. Однако наряду с немногими специфическими отношениями дружбы, верности, измены, существует множество других структурных отношений, основанных на принуждении, законе, запрете, идеологическом манипулировании и санкционированных процедурах, которые, регулируя те или иные реляционные свойства, тщательно нивелируют или маскируют различия (и конфликтную природу) их трактовок. С этим Бхаскар соглашается и делает это вынужденно, если конечно он всерьез хочет вести войну против эмпирического реализма, признающего только опыт. В-третьих, он признает, «что генерирующая роль умений и желаний акторов, их верований и смыслов должна быть признана; при этом не следует впадать в интерпретационный фундаментализм, наделяя их статусом дискурсив-ности и/или некорректируемости» [8, 98]. Само по себе это утверждение не разводит Бхаскара и Гидденса (допускающего различные степени «дискурсивного проникновения» и корректируемого знания) и мало что прибавляет к убеждению Бхаскара в том, что специфические воззрения действующих могут систематически искажаться идеологией. Поскольку понимание со стороны действующих действительно может быть ложным inter alia* из-за идеологических искажений, Бхаскар, чтобы не противоречить себе, вынужден Далее признать, что «условия феноменов (т. е. концептуализируемой в пределах опыта социальной деятельности) существуют нетранзитивно и, следовательно, могут быть независимыми от адекватности их концептуализации» [5, 51].
* Среди прочего (лат.).
Введение «нетранзитивно существующих условий» знаменует разрыв с Гидденсом, ибо происходящее совершается теперь у нас за спиной. Как пишет Бхаскар, «действующие могут осознавать, а могут и не осознавать те отношения, в которые они вовлечены» [4, 26]. Таким образом, если «какого-то рода объяснение оказывается успешным в отношении идентификации реальны*, но до сих пор непознанных условий и образцов детерминации, оно тут же увеличивает наше знание» [5, 91], а вместе с ним - и нашу свободу. Все это нарушает entente cordiale* с «весьма способным к познанию» агентом Гидденса, однако не порывает полностью с тезисом о зависимости социальных структур от концептуализации действующими своей деятельности.
* Сердечное согласие (франц.).
Но остается еще одна возможность интерпретации. Бхаскар допускает существование структур, независимое от их адекватного понимания, но он мог бы, продолжая эту мысль, сказать, что существование структур зависит от их неадекватного понимания. Последнее утверждение может характеризовать каузальные отношения между ложными концептами агентов и устойчивостью социальных структур, разумеется, предполагая, что изменения одних повлекут за собой изменения других. Подобные примеры найти нетрудно (подъем и закат торговли мехами, рост влияния идеологий и их разоблачение), однако придать этому тезису универсальный характер (уже не говоря о том, что здесь явственно слышатся отзвуки теории заговора) значило бы пустить побоку все проблемы функциональной необходимости каждого из неадекватных понятий и фундаментального априорного сопряжения между понятиями и реальностью. Поскольку у нас нет оснований принимать это за априорную истину, проблема разрешима только в эмпирическом исследовании. Мы можем привести очевидные факты, когда масштабные концептуальные сдвиги (феминизм) не сопровождаются кардинальными изменениями существующих структур. Все это, в свою очередь, свидетельствует лишь о необходимости теоретически осмыслять конкретные структуры и эмпирически исследовать, чьи концептуальные сдвиги приводят к каким структурным изменениям, когда, где и при каких условиях.
Короче говоря, ни в одном из аргументов о зависимости социальных структур от представлений действующих о них не находит оправдания вывод: «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди, и у них есть представление о своей деятельности». Напротив, многие социальные структуры демонстрируют гибкость и устойчивость перед лицом глубоких концептуальных разногласий между действующими по поводу их действий и концептуальных сдвигов в оценках этих структур. Мы снова вернулись к тому, что тезис о зависимости социальных структур от понятий и представлений можно принять только в одном-единствен-ном смысле: имея в виду концепты (идеи, убеждения, намерения, взаимные соглашения и уступки, а также непреднамеренные последствия деятельности) давно ушедших поколений. Именно эти представления продолжают играть важную роль в современных структурах, несмотря на энергичные усилия действующих изменить их (например, расизм и сексизм).
Третий тезис Бхаскара об особой онтологии общества гласит, что социальные структуры присутствуют только в своих воздействиях и посредством их, т. е. в деятельности и посредством деятельности людей. Здесь снова виден дрейф в сторону позиции Гидденса, и ТМСД рискует сесть на мель модели одновременности*, выработать которую, как правильно замечает Д. Лейдер, стремится теория структурации. Ибо как еще «могут объективные структуры извне детерминировать взаимодействие и одновременно быть порожденным внутри этого взаимодействия результатом? Именно это и пытается нам доказать модель одновременности» [13, 73]. Бентон тоже спешит указать на этот промах, ибо здесь само существование эмерджентных свойств оказывается под вопросом. Они попросту могут исчезнуть, растворившись в «других людях» типичным для индивидуалистского подхода образом. Он совершенно справедливо настаивает на том, что единственная защита против этого - разграничивать структурные условия и человеческую деятельность, т. е. строго следовать аналитическому дуализму и не соглашаться с тезисом о двойственности структуры.
* Т. е. одновременного взаимного конституирования.
Таким образом, для обеспечения существования эмерджент-ных свойств, «необходимо делать разграничение между деятельностью, которую действующие производят в силу своих внутренне присущих им способностей, и деятельностью, способность исполнять которую исходит от социальных структур и лишь реализуется посредством человеческих действий». Трудность, однако, состоит в том, что, «если некий индивид «А» является агентом деятельности «а», то «А» должен обладать способностью выполнить «а». Но если так, то в лучшем случае мы можем различать способности, которыми агенты обладают в силу своей внутренней природы, и способности, которыми они обладают в силу своих реляционных свойств». Все это, разумеется, возможно лишь в тех пределах, которые допускает теория структу-рации, и с учетом недоверия Гидденса к эмерджентности. Согласно Бентону, это означает приговор всей программе ТМСД. Бхаскар «в своей трактовке социальных структур в конечном счете, лишает их независимого статуса причиняющих сил, а следовательно, статуса реальностей sui generis. Бхаскар, похоже, привержен одному из вариантов индивидуализма в социальной теории» [3, 17]. Бентон готов допустить ошибочность своего вывода, и ему самому бы было интересно найти, в чем здесь ошибка.
Бхаскар парирует возражения, однако нам еще придется немного потрудиться, поскольку кое-чего в его ответе не хватает. Мало сказать (чтобы избежать реификации), что наличие социальных структур проявляется только в деятельности и посредством деятельности людей, ибо с этим согласятся все индивидуалисты-дескриптивисты. Тем не менее, влияние эмерджентных свойств не сводится к влиянию «других людей», и в этом тоже нет реификации. Однако Бхаскар, скорее всего, не желая впадать в «персонализа-торство» индивидуалистов, прямо заявляет, что, говоря о структурах, он переносит акцент с людей на отношения (включая отношения к позициям, природе и социальным продуктам, таким как машины и фирмы). Здесь еще рано делать окончательный вывод, ибо, например, Дж. Уоткинс выразил полную готовность включить «убеждения, ресурсы и взаимодействия индивидов» в свою «хартию Методологического Индивидуализма», для которого «конечными кон-ституентами социального мира являются индивиды» [14, 270-271]. Только под конец Бхаскару удается отразить удар. «От индивидуализма, - пишет он,- остается тривиальная истина, что ничто не происходит в обществе помимо того, что человеческие существа делают или уже сделали» [4, 174] (курсив мой - М. А).
«Или уже сделали». Это сказано без ударения, а должно зазвучать в полную силу. Если главным считать то, что «люди нечто делают», то придется согласиться с утверждением «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди» и невозможно будет избежать редукционизма, так же как и опровергнуть вывод Бентона. Добавляя «или уже сделали», мы допускаем прошлые действия и снимаем все претензии. Здесь можно вспомнить о гениальной интуиции О. Конта: большинство действующих - это мертвые. Он прав, поскольку значима эмерджентность. Теперь можно говорить об эмерджентных свойствах и результатах (результатах результатов) прошлых действий, которые существовали до действующих в настоящем времени людей и все же обусловливают их действия, открывая возможности для одних и ограничивая другие. Открывающиеся возможности и налагаемые ограничения не зависят от совершаемой деятельности и оказывают свое влияние безотносительно к тому, как они ныне концептуализируются (т. е. верна ли она, ложна ли, или вообще не имеет места). Здесь нет угрозы реификации. Тезис о том, что влияние социальных структур может проявляться только посредством деятельности людей, утверждается в единственно приемлемой трактовке, а именно, что социальные структуры суть результаты, пережившие прошлые действия людей, которых зачастую уже давно нет в живых (именно так, убежав от времени, социальные структуры становятся sui generis). Только так сохраняется их воздействие как автономных носителей причиняющих сил на деятельность последующих действующих. И именно то, как социальным структурам удается сохранять свое воздействие, пытается теоретически осмыслить М/М-подход. Следование аналитическому дуализму структур и деятельности (разграничение предзадан-ных условий и актуальной деятельности) не просто оказывается желательным, но становится неотъемлемой частью программы ТМСД.
Если бы пение сирен конфляционизма, зовущих к срединному сращению, оставалось притягательным, вывод Бентона был бы неотразим. Но к концу опасного перехода сиренам было оказано решительное сопротивление. Открылось громадное различие между утверждением Гидденса, что «структура не может существовать независимо от осознания агентами своей повседневной деятельности» [2, 26] и положением Бхаскара, что «наделение объектов знания нетранзитивностью приводит к тому, что эти объекты начинают существовать и действовать независимо от того, знают о них или нет» [4,14], и что социальные структуры являются такими нетранзитивными объектами. Приведем еще одно высказывание Бхаскара (под которым не подписался бы ни один сторонник срединного сращения), а именно, что «общество можно понимать как ансамбль подвижно сочлененных относительно независимых и устойчивых во времени структур» [4, 78] (курсив мой - М.А.). Теперь мы можем перейти к рассмотрению взаимодействия между этими структурами и действующими индивидами. Конфля-ционисты отрицают возможность предлагаемого нами способа рассмотрения, ибо настаивают на взаимном конститу-ировании агентов и структур.
Взаимодействие между структурой и деятельностью: возможность их разделения.
В предыдущем разделе довольно легко удалось показать, что влияние конфляционистской модели (срединного сращения) наТМСД постепенно ослабевает, аТМСД, обращаясь к концепции эмерджентности, занимает последний рубеж обороны, дабы нанести решительный ответный удар. Этот результат неизбежен. Ведь если Бхаскар будет стойко держаться своего же собственного понимания онтологической роли эмерджентных свойств, то ему, в отличие от теории структурации, совершенно не нужна «двойственность структуры». Представляется логически неизбежным вывод о том, что, если унаследованные социальными структурами от прошлого «силы», «тенденции», «трансфактичность» и «порождающие механизмы» могут существовать невостребованными (или нераспознанными) в открытых системах (например, в обществе), то должно быть разделение между этими структурами и каждодневным феноменологическим опытом действующих. Это Бхаскар с особой силой подтверждает своим неприятием эмпирического реализма и его приверженности опыту. Структура и деятельность часто или обычно «не синхронны», а, следовательно, аналитический дуализм становится логически необходимым, когда Бхаскар отталкивается от общих положений реализма и развивает свою ТМСД как вклад в социальную теорию. Из-за несинхронности эмерджентных свойств структур и актуального опыта действующих (в силу самой природы общества как открытой системы) нужно всегда иметь в виду два момента. С одной стороны, выявляются свойства («силы»* и т. п.) социальной структуры per se, с другой,- концептуализируется опыт, т. е. то, что доступно действующим в любое данное время в своей незавершенности и искаженности, что изобилует слепыми пятнами неведения. Таким образом, это будут не два тождественных подхода, но два описания, сделанные с двух разных точек зрения: одно будет включать элементы, отсутствующие в другом, и наоборот.
* В оригинале здесь стоит powers, т. е., собственно, способность вызвать некоторый эффект. Ниже применительно к действующим это переводится как способности.
Итак, Бхаскар пишет, что «хочет четко разграничивать, с одной стороны, человеческое действие, берущее начало в соображениях и планах людей, и, с другой, - структуры, управляющие воспроизводством и трансформацией социальной деятельности и, таким образом, разделить сферы психологической и социальной наук» [5, 79-80]. Необходимость в таком разграничении и, как следствие из него, в двойной перспективе видения совершенно не признается конфляционизмом. К сожалению, читать Бхаскара надо осторожно: его способ выражать мысли местами очень сильно напоминает теорию структурации.
Примером может служить следующее выражение: «Общество есть постоянно наличествующее условие и непрерывно воспроизводимый результат человеческой деятельности. В этом заключается двойственность структуры. Человеческая же деятельность есть одновременно и труд (с точки зрения родовой), т. е. (нормальным образом, сознательное) производство, и (нормальным образом, неосознаваемое) воспроизводство условий производства, включая общество. В этом состоит двойственность практики» [5, 92]. Несмотря на то, что первое предложение сформулировано совершенно в духе теории структурации, в дальнейшем мы видим, что Бхаскар вкладывает в него совершенно отличный от «одновременности» смысл, ибо его «условия» следует понимать как «предварительные условия», а «результат» - как «нечто, следующее за действиями». (Это разделение полностью соответствует двум базовым теоремам М/М-подхода.) Гид-денс же говорит об одной единственной вещи: структурные свойства (чтобы быть действенными) требуют «непосредственного осуществления» наличными действующими, а «результат» - неотъемлемая часть единого одновременного процесса. В этом заключается его монизм. Бхаскар, напротив, в приведенной цитате подчеркивает необходимость двойной перспективы, одна из которых имеет дело с «двойственностью структуры» (так как учитывается временной лаг и не признается совмещение в настоящем), а другая - с «двойственностью практики» (где «производство» и «воспроизводство» опять-таки разнесены во времени и могут вовлекать в себя совершенно разных агентов). Раздельное рассмотрение «структуры» и «практики» решительно разводит ТМСД и теорию структурации. В последней эти два уровня могут быть выделены только посредством операции искусственного заключения в скобки, которая, как мы уже видели, снова возвращает структурацию к одновременности, ибо эпохе заключает нас в рамки одной и той же эпохи и не позволяет объяснять взаимодействия между структурой и деятельностью во времени*. «Двойная перспектива» приводит Бхаскара к аналитическому дуализму, к необходимости изучать взаимодействие между структурой и практикой (третья перспектива), объяснению чего путь надежно заблокирован в теории структурации.
* Арчер обыгрывает здесь несколько ходячих понятий феноменологической философии (и социологии), наложившей отпечаток и на теорию структурации. «Заключение в скобки», равно как и «эпохе» - это характеристики, связанные с методом феноменологической редукции, в частности, воздержания от высказываний о существовании.
Фактически достаточно немного поразмыслить, чтобы понять, что реализм сам основывается на аналитическом дуализме. При переходе из сферы абстрактной онтологии во владения практического социального теоретизирования это становится очевидным. На уровне структурного обусловливания необходимы обе перспективы, поскольку в любой временной точке «системная» интеграция (по Локвуду) может не совпадать с интеграцией «социальной», и для объяснения результата на уровне действия потребуется учет их взаимодействия. Допущение двух перспектив (в отличие от срединного сращения) предполагает необходимость третьей, которая сочленяла бы две первые. Именно это резко отличает аналитический дуализм от любой из трех версий сращения, общий недостаток которых в их одномерности: будь то грубый эпифеноменологический редукционизм (концепции сращения сверху вниз или снизу вверх), или редукционизм более изощренный, но все-таки «заложенный» в версии срединного сращения, - ибо только искусственное заключение в скобки может разделить эти подходы, не в реальности, но исключительно для удобства анализа, что зависит от исследовательских интересов.
Поскольку Бхаскар уже различил в своей ТМСД необходимость сохранить утверждение «нет людей - нет социальных структур» (чтобы избегнуть реификации) и необходимость отвергнуть постулат «вот они структуры, потому что здесь и теперь - эти люди», то расширение временных рамок (для включения эмерджентных и совокупных следствий прошлых действий и прошлых агентов) фактически делает аналитический дуализм методологически необходимым для его ТМСД.
Человеческая деятельность, считает Бхаскар, «состоит в трансформации предзаданных материальных (природных и социальных) причин посредством целесообразной (интен-циональной) деятельности» [5, 92]. Хотя из этого высказывания можно понять, что социальные формы должны быть используемы (по Бхаскару, дабы задать рамки интенциям), в нем заложен и другой, совершенно чуждый конфляцио-низму смысл, а именно, что предзаданные свойства навязаны актуальным агентам и не могут быть подведены под волюнтаристские понятия типа «непосредственное сиюминутное человеческое действие». Эмерджентное возникновение в прошлом реляционных свойств обусловливает ситуации, в которых оказываются актуальные действующие, независимо от их воли и согласия. Эта реляционная концепция структур, эксплицитно включающая в себя прошлое, а равно и настоящее время, «позволяет сосредоточиться на распределении структурных условий действия, и в частности ...на дифференцированном размещении (а) всех видов производственных ресурсов (включая, например, когнитивные) среди индивидов (и групп) и (б) распределении индивидов (и групп) по функциям и ролям (например, в разделении труда). Такая трактовка позволяет локализовать появление различных (в том числе антагонистических) интересов и конфликтов внутри общества, а следовательно, возможность мотивируемой исходя из этих интересов трансформации в социальной структуре» [4, 41]. Здесь мы находим ясное утверждение того, что актуальные действующие не несут ответственности за создание той структуры распределения ролей и связанных с ними интересов, в которой им приходится жить. Не менее существенно и принципиальное признание того, что именно состоявшееся в прошлом структурирование ситуаций и интересов обусловливает настоящее таким образом, что деятельность одних акторов оказывается направленной на трансформацию социальных структур, а деятельность других - на их стабильное воспроизводство. Бесконечная сложность социального не представляет непреодолимых трудностей для теорий социального изменения. Воспроизводство берет начало в унаследованных интересах, а не в простой рутинизации. Трансформация не есть неопределенный потенциал всякого момента времени, она коренится в конкретных конфликтах между определенными группами, унаследовавшими конкретные позиции с конкретными интересами. Основания аналитического дуализма теперь заложены, но для завершения ТМСД как социальной теории, необходима еще «третья перспектива» - перспектива взаимодействия между социальными структурами и людьми как агентами. Бхаскар признает это, так как указывает на необходимость ввести опосредующие концепты для объяснения того, каким образом структура реально обусловливает деятельность (чью и где) и как на это обусловливание реагируют действующие, воспроизводя структуру или трансформируя ее (в моих терминах это звучало бы так: запуская процесс морфогенеза и морфостазиса). Переходя к описанию этих посредников, следует подчеркнуть ту огромную дистанцию, которая теперь отделяет их от «свободно парящих «модальностей» Гидденса(«интерпретативной схемы», «возможности» [или «нормы»], составляющих запас знаний, способностей и условностей,- все они универсально доступны, а не диффе-ренцированно распределены и конкретно локализованы). Бхаскар подчеркивает, что «мы нуждаемся в системе опо-средующих концептов, которые бы заключали в себе обе стороны практики и обозначали бы в социальной структуре, так сказать, «прорези» (как в автоматах, срабатывающих от монеты или жетона), в которые должны проскользнуть деятельные агенты для ее воспроизводства. Иначе говоря, речь идет о системе концептов, обозначающих «место контакта» между человеческой деятельностью и социальной структурой. Такие точки соприкосновения действия и структуры должны быть и устойчивы во времени, и непосредственно заняты индивидами [4, 40] [курсив мой - М. А]. Эти типы сцеплений вполне конкретны («прорези»), локализованы («точки соприкосновения») и дифференцирование распределены (не все могут «проскользнуть» в одну и ту же «прорезь»). Взятые как система отношений, они удовлетворяют требованиям временной продолжительности, эмерджентны и нередуцируемы, поскольку предполагают «интеракции» между занимающими их индивидами, но не сводятся к ним.
Эти уточнения позволяют говорить о совпадении понятийного аппарата Бхаскара и М/М-подхода, хотя концептуальные рамки первого могут оказаться несколько тесноватыми для второго. Обратимся к следующей цитате из Бхаскара: «ясно что необходимая нам опосредующая система понятий - это система позиций (мест, функций, правил, обязанностей, прав), занимаемых (в силу освободившихся вакансий, взятой или возложенной ответственности etc.) индивидами, и их практик (действий и т. д.), в которые индивиды вовлечены в силу занимаемых позиций (и наоборот). Я буду называть ее опосредующей системой «позиция-практика» [4, 41]. «Позиция», таким образом, оказывается двусмысленным понятием. Если оно означает «пассивный аспект роли», в соответствии с принятым терминологическим употреблением*, то такое понимание оказывается слишком узким для моих целей.
* Это различие введено Р. Линтоном и используется, например, Т- Парсонсом.
Занимая или будучи назначены на свои ролевые позиции, агенты действительно вступают в очень важную, но не единственную «сферу контакта» со структурой. Если «позиция» понимается и в обыденном смысле («положение», в котором они очутились), как сложившаяся в результате выбора (или благодаря счастливому стечению обстоятельств) ситуация (или контекст), не связанная прочно с какими-то особыми нормативными ожиданиями, а следовательно, не подпадающая под определение роли (например, положение «униженных», «верующих» или «сторонников теории X»), то совмещение будет полным. Последнее значение, похоже, также приемлемо для Бхаскара, что видно из приведенной выше цитаты. Например, обсуждая мир жизненного опыта, он поясняет, что этот «мир зависим от онтологического и социального контекстов, в которых протекает значимый опыт» [5, 97]. Хотя это утверждение не относится к числу принципиальных сходств между нашими концепциями, я привожу его потому, что в М/М-подходе я не задаюсь целью свести все проблемы, с которыми сталкиваются агенты в унаследованных от прошлого структурах, к ролям (и, таким образом, не ограничиваю морфогенетическии потенциал деятельностью в рамках ролевых требований, не свожу двигающие морфогенез интересы к ролевым интересам). При рассмотрении взаимодействия между двумя уровнями М/М-подход главное внимание уделяет тому, как структуры обусловливают действующих в их деятельности.
Подчеркну, наконец, одно из важнейших совпадений ТМСД с М/М-подходом. С точки зрения последнего, структурное обусловливание деятельности (принуждением и ограничением или созданием благоприятных условий) никогда не оказывает непосредственного «гидравлического давления». Именно поэтому предпочтительнее говорить о сочленяющих их «посредниках», чем о соединяющих их «механизмах», ибо в рассматриваемых процессах нет ничего механического (и ничего, что бы отрицало человеческую субъективность). То же самое можно сказать о ТМСД, ибо, по Бхаскару, интенциональность отличает деятельность от структуры. «Интенциональное человеческое поведение причинно, ...оно всегда причиняется соображениями... и только поэтому оно определяется как интенциональное» [5, 90]. М/М-подход отражает тоже самое убеждение, а потому фактически концептуализирует обусловливание действия структурой в понятиях последней, добавляя мотивирующие соображения для объяснения по-разному совершающихся (в силу различия позиций) действий.
Картина трансформации и морфогенеза
Мы говорили о «структуре» и «взаимодействии» как двух принципах объяснения и об «опосредующих процессах» как принципе объяснения, соединяющем два первых. Теперь взаимосвязи этих процессов необходимо наглядно изобразить так, чтобы вид этих связей отличался от обычных разнонаправленных стрелок, а наш рисунок не был бы похож на диаграммы теоретиков-конфляционистов. Основное отличие состоит, конечно, в том, что конфляциони-сты, хотя и могут приписать значимость течению времени, все-таки совершенно неспособны признать внутреннюю историчность процесса. Ведь время - это среда, куда более необходимая для совершения процессов, чем необходим воздух для дышащих существ. Но допущение эпифеномена-лизма или взаимного конституирования означает, что во всякое мгновение времени процесс можно обрисовать совершенно одним и тем же образом. Однако для неконфляцио-нистов все обстоит совершенно иначе, ибо для них сам по себе процесс протяжен во времени (и каждый момент его согласуется не с одной и той же вечной диаграммой, но с особой фазой на карте исторического потока). Как аналитически, так и практически различные фазы разведены между собою не просто как аспекты единого процесса, но и как части временного следования. Более того, так как считается, что структуры имеют лишь относительную длительность и трансформация/морфогенез характеризует лишь окончательную фазу процесса, то и модель тоже указывает на последовательные циклы его прохождения.
Таким образом, признается, что каждому циклу, привлекающему наше внимание, поскольку он представляет для нас содержательный интерес, предшествуют предыдущие циклы, а за ним идут последующие, будь то воспроизводящие или трансформирующие, морфостатические или мор-фогенетические. Действие обязательно непрерывно («нет людей - нет и общества»), но ведь структуры действуют в течение какого-то времени и потому прерывны (имеют лишь относительную длительность). Изменение структур означает, что последующая деятельность будет обусловлена и оформлена совершенно иначе (нынешнее общество является продуктом ныне живущих людей ничуть не более, чем будущее общество окажется продуктом деятельности наших наследников). От конкретной проблемы зависит то, как вычленяются особые аналитические циклы: результатом являются общие диаграммы, которые наполняет содержанием исследователь. Утверждения о значительном сходстве между трансформационной моделью и М/М-подходом будут в конце концов подкреплены решающим доводом в том и только в том случае, если графические отображения процессов в них будут совершенно отличаться от того, что предлагают теоретики-конфляционисты, а диаграммы окажутся очень похожими друг на друга. Как будет показано ниже, дело обстоит именно так, но для этого нам необходимо сделать некоторые замечания и уточнения, касающиеся эволюции в графических схемах Бхаскара.
В ранней работе «Возможность натурализма» (1979) [4] он предложил, так сказать предварительную модель связи между личностью и обществом. В многих отношениях она слишком фундаментальна. Во-первых, хотя в ней есть и «до», и «после», но нет подлинной историчности; несмотря на разрыв посередине, данная модель могла бы служить эвристическим инструментом описания каждого и любого момента времени, а не какой-либо одной конкретной фазы исторического процесса. Во-вторых, в некоторых отношениях эта модель «сверхперсонализирована», кажется, что структурные влияния идут исключительно через социализацию и сказываются непосредственно на (всех) индивидах. В-третьих, «прежде» и «после» не связаны взаимодействием и не опосредованы «отношениями производства». Короче говоря, перечисленное указывает на недооценку, соответственно, историчности, эмерджентного возникновения и опосредования.

Однако через десять лет Бхаскар переработал эту фундаментальную модель, причем за счет того, что ввел в нее те свойства, которые были опущены ранее. В работе * Но вое призвание реальности» (1989) он внес следующие принципиальные изменения (они отражены на диаграмме). Во-первых, в точках 1 и 2 эксплицитно представлено вначале эмерджентное возникновение, а затем влияние (в настоящем) структурных свойств, непреднамеренные последствия прошлых действий и непризнаваемые условия нынешней деятельности.
Во-вторых, было уточнено, что понимание действующими своего социального мира ограничено воздействием этих свойств, причем в точках 3 и 4 это усугубляется ограниченностью в их понимании самих себя, что, в свою очередь, обеспечивает необходимый процесс производства (который теперь включается в диаграмму) опосредованным продуктом агентов, далеко не в полной мере способных осознать, почему они находятся в таких именно отношениях и почему они в этих ситуациях делают именно то, что делают.
Наконец, в-третьих, ключевую роль теперь играет разбиение процесса на временные фазы, диаграмма теперь является протяженной во времени последовательностью, где точка 1 - эксплицитный результат предшествующего цикла, а 1' сигнализирует о начале нового, отличающегося последующего цикла (в случае трансформации). Если результатом является воспроизводство, то в следующем цикле нам вновь придется иметь дело с той же самой структурой, но не обязательно с тем же самым действием.
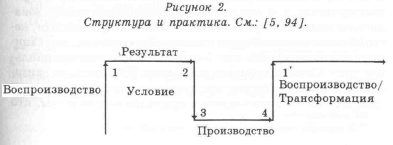
* Игра слов: «space/time is to be seen/scene as a flow».
Таким образом, оправдано эксплицитное введение в модель потока как историчности, но оправдано также и расчленение его на фазы, так как Бхаскар утверждает, что ТМСД «порождает» четкий критерий исторически значимых событий, а именно тех, которые «инициируют или конституируют размежевания, мутации или общие трансформации социальных форм» [5, 77]. Наконец, его уточненная диаграмма содержит теперь опосредую-щие процессы, т. е. она показывает отношения между локализованными на определенных позициях практиками, несводимыми к межличным взаимодействиям тех, кто занимает эти позиции для какой-то работы или как официальное лицо. Сходным образом и в рамках М/М-подхода считается, что взаимодействие исходит от тех, кто занимает позиции, находится в ситуациях и принадлежит не к тем, кто обусловливает многое из того, что можно из них сделать.
Ниже приводится основная диаграмма морфогенезиса/ морфостазиса:
Его основные теоремы, конституирующие аналитический дуализм, таковы: (i) структура с необходимостью предшествует по времени действию(ям), трансформирующе-му(им) ее (Бхаскар, как мы видели, с этим согласен и усиливает значимость аналитического вычленения, когда подчеркивает, что «игры жизненного мира всегда инициируются, обусловливаются и завершаются извне самого жизненного мира»); (п) разработка структуры с необходимостью оказывается по времени более поздней, чем действия, трансформировавшие ее (для Бхаскара структуры лишь относительно постоянны; их постоянство или трансформация - это результат установленной практики, а не произвольного взаимодействия).
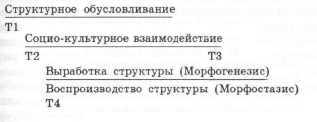
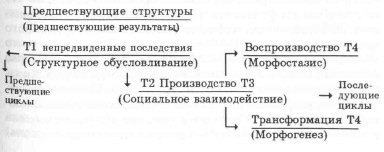
Я утверждала, что аналитический дуализм - это дело теоретической необходимости, если мы хотим четко зафиксировать процессы, способные объяснить определенные социальные изменения, т. е. если мы хотим развивать полезные социальные теории для работающих исследователей (для которых социальная онтология, утверждяющая tout court, что каждое действие в любой момент обладает потенциалом воспроизводства и трансформации, - это белый слон). По Бхаскару, ТМСД «может служить основой для подлинного понятия изменения, а следовательно, и истории» [5, 77]. На то же самое претендует и М/М-подход, а содержательно мне удалось, надеюсь, продемонстрировать это в «Социальных истоках системы образования» [2]. Я согласна с Бхаскаром, что такой подход дает нечто, на что не способны конфляционистские теории всех видов сращения. Действительно, что касается концепций срединного сращения, изменение в них остается для Бхаскара «чем-то мистическим» [5, 77]. Так оно и есть, и выше мы как раз показали, почему это должно быть так, когда придерживаются понятия «двойственности структуры». Таким образом, теория структурации перекликается здесь с разочаровывающим утверждением Гидденса о том, что «не имеет смысла искать общую теорию стабильности и изменения социальных систем, так как условия социального воспроизводства слишком резко разнятся среди различных типов общества» [11, 215]. Следовательно, его социальная онтология вручает исследователю-практику приспособление для «обострения чувствительности»; подходы ТМСД и М/М стремятся обеспечить набор инструментов, а поскольку эти инструменты предполагают, что ученые-практики будут много (и основательно) работать с ними, то они и устроены так, чтобы с ними можно было работать, чтобы они имели практическое применение.
С учетом этой цели важно отметить, что сходство, установленное между ТМСД и М/М-подходом, коренится в самом реализме. Так же, как индивидуализм и холизм представляли собой социальные онтологии, приверженность к которым соответствующим образом конституировала социальный мир, а затем и давала указания, как его изучать и объяснять (методологический индивидуализм и холизм как конфляционистские программы, действующие в противоположных направлениях), так и реалистская социальная онтология предполагает методологический реализм, воплощающий в жизнь ее приверженность глубине, стратификации и возникновению, как основным определениям социальной реальности. Таким образом, моя задача здесь заключалась в том, чтобы показать, что если иметь в виду эти основополагающие принципы реализма, то их можно только уважать и отражать в методологическом реализме, который рассматривает структуру и деятельность через «аналитический дуализм» (чтобы быть в состоянии исследовать связи между этими раздельными стратами, каждая из которых обладает своими собственными автономными, неуничтожимыми, развивающимися качествами) и который, следовательно, отвергает любую форму сращения (восходящего, нисходящего или срединного) в социальном теоретизировании.

ТМСД - это щедрый дар философа, в разработке фундаментальных вопросов вышедшего далеко за рамки нашей дисциплины; М/М-подход - произведение социолога-практика, который чувствует себя обязанным углубиться в уточнение своего инструментария, чтобы создать в высшей степени применимую социальную теорию. Таким образом, этот подход не просто дает «ясный критерий исторически значимых событий», не просто пытается идентифицировать их, но стремится идти дальше, к раскрытию их смысла. Предстоит еще много тонкой работы над концептуализацией стуктурного обусловливания, конкретизацией того, как совершается перенос структурных влияний (не гидравлическим способом, но как разумных оснований поведения) на данных агентов, занимающих определенные позиции и находящихся в определенных ситуациях («кто», «когда» и «где») и над стратегическими комбинациями, результатом которых является скорее морфогенез, чем морфостазис (с каким результатом). [...] Оказывается, что это предприятие получило благословение Бхаскара, если учесть его мнение о том, что «особый теоретический интерес социологии заключен именно в (объяснении) процессов дифференциации и стратификации, производства и воспроизводства, мутации и трансформации, непрерывного перемалывания и беспрестанных подвижек сравнительно постоянных отношений, предполагаемых данными социальными формами и структурами» [4, 41]. Так и обстоит дело, и мой главный интерес выходит за рамки создания приемлемой социальной онтологии, поскольку я стремлюсь представить действующую социальную теорию. Но последняя должна иметь в основании первую (в противном случае предрешено ее сползание в инструментализм). Именно этому и была посвящена данная глава, т. е. было показано, как эмерджентист-ская онтология с необходимостью влечет за собой аналитический дуализм, особенно если она должна произвести работающую методологию для практического анализа общества как досадного факта.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Бхаскар Р. Общества // Социо-Логос. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991.
2.Archer M. The Social Origins of Educational System. L.: Sage, 1979.
3.Benton T. Realism and Social Science: Some Comments on Roy Bhaskar’s The Possibility of Naturalism // Radical Philosophy, 27, Spring, 1981.
4.Bhaskar R. The possibility of naturalism. N.Y.; L.: Harvester Wheat-sheaf, 1979.
5.Bhaskar R. Reclaiming Reality. L.: Verso, 1989.
6.Bhaskar R. Beef, Structure and Place: Notes from a Critical Naturalist Perspective // Journal for the Study of Social Behavior, 13, 1985.
7.Blati P. Exchange and power in social life. N.Y.: Wiley, 1964.
8.Bucklev W. Sociology and modern systems theory. N.Y.: Prentice Hall, 1967.
9.Cohen P. S. Modern Social Theory. L.: Heinemann, 1968.
10.Gellner E. Explanations in History // Modes of Individualism and Collectivism / Ed. by J. O’Neill. L.: Heinemann, 1973.
11.Giddens A. Central problems in Social Theory: Structure and Contradiction in Social Analysis. L.: Macmillan, 1979.
12.Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Struc-turation. Cambridge: Polity Press, 1984.
13.Layder D. Structure, Interaction and Social Theory. L.: Routledge and Kegan Paul, 1981.
14.Lockwood D. Social integration and system integration // Exploration in social change / Ed. by Zollschau Z. and Hirsch W. L.: Routledge and Kegan Paul, 1964.
15.Outhwaite W. Realism, naturalism and social behavior // J. for the Theory of Social Behaviour. Vol. 20. № 4, 1990.
16.Outhwaite W. Agency and Structure // Anthony Giddens: Consensus and Controversy / Ed. by Clarke J. et al. Palmer: Basingstoke, 1990.
17.Saver A. Method in Social Sciences: A Realist Approach. L.: Rout-ledge, 1992.
18.WatkinsJ. W. N. Methodological Individualism and Social Tendencies “ Readings in the Philosophy of the Social Sciences / Ed. by Brodbeck M. N-Y.: Macmillan, 1971. 7*
Никлас Луман ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА
(вариант San Foca '89)
Глава 1 Общество как социальная система
I. Теория общества в социологии
Исследования, предлагаемые вниманию читателя, посвящены социальной системе современного общества. Прежде всего надо в полной мере уяснить себе, что таким образом актуализируется циркулярное отношение к предмету*. Ведь заранее отнюдь не известно, о каком предмете идет речь. Со словом «общество» не связаны никакие однозначные представления. И даже то, что обычно называют «социальным», вовсе не обозначает только какой-то один объект. Но попытка описать общество не может состояться и вне общества. Дело в том, что при описании используется коммуникация, активируются социальные отношения. Попытка описывать общество оказывается наблюдаемой. Как ни определять предмет, но сама дефиниция уже есть операция предмета. [Само] описываемое и совершает описание. Таким образом, в ходе описания описание должно описывать также и самое себя. Оно должно постигать свой предмет как сам себя описывающий предмет. В терминах логического анализа языка можно было бы также сказать, что всякая теория общества должна продемонстрировать свой «ауто-логический» компонент1.
* Т. е. включение себя самого в предмет рассмотрения. См. ниже.
1 Ларе Лёфгрен в сходном смысле говорит об «аутолингвистическом» как форме, которая должна быть логически развернута посредством различения уровней. См.: [29].
Тому, кто полагает, что это должно быть запрещено в силу эпистемологических оснований, придется отказаться от теории общества, от лингвистики и многих других тем.
Социология пока что не определилась в отношении этой проблемы с надлежащей жесткостью и последовательностью. В конце XIX в. самым естественным казалось воспринимать всякое включение описания общества в предмет описания как «идеологию» и потому отказываться от такого включения, на основе которого было бы невозможно возвести социологию в ранг строгих академических дисциплин. Кое-кто даже считал, что по этой причине следовало бы отказаться и от понятия общества, ограничив себя строго формальным анализом социальных отношений2.
2 Так думают даже сейчас! См.: [44].
Другие, прежде всего Дюркгейм, считали строго позитивную науку о «социальных фактах» и об обществе как условии их возможности вполне осуществимой. Но были еще и такие, кто удовлетворялся различением наук о природе и наук о духе и исторической релятивизацией всех описаний общества. Каковы бы ни были отдельные рассуждения, в целом, по теоретико-познавательным основаниям, неизбежным считалось различение субъекта и объекта. А отсюда можно уже было выбирать только между сциентистски наивной позицией и позицией, отрефлектированной в духе трансцендентальной теории.
Многие отличительные черты социологии, ставшей ныне классической, следует отнести на счет ограниченности этой избирательной схемы и попыток все же как-то выйти из положения. Сказанное имеет силу и для того своеобразного сочетания трансцендентализма и социальной психологии, которое мы обнаруживаем у Г. Зиммеля, и для понятия действия М. Вебера, который заимствует у неокантианцев теорию ценностей. Все это, конечно, еще представляет сегодня интерес для экзегезы классиков. Однако классическая социология, несмотря на эту безусловную привязку к схеме «субъект/объект» и неразрывно связанную с ней проблему предмета, во всяком случае, предложила весьма примечательное и поныне уникальное описание общества. Быть может, именно этим лучше всего объясняется то, почему классики все еще продолжают восхищать и очаровывать нас, почему их тексты смогли стать в строгом смысле слова как бы неподвластными времени. Почти все теоретические усилия направлены сегодня в ретроспективу, на реконструкцию. Поэтому стоит задать вопрос, как стал возможным такой успех.
Без признания циркулярного отношения к предмету! Уж это точно. Решение проблемы одновременно скрывало ее для классиков. Оно состояло в том, чтобы определить свое историческое местоположение, т. е. разорвать круг посредством исторического различия, в котором теория могла зафиксировать себя исторически (и только исторически). Становящаяся социология реагирует на проблемы, которые стали видимыми в XIX в., и она знает, что сама является реакцией на эти проблемы. Даже если ее понятия сформулированы абстрактно, то благодаря исторической ситуации они становятся правдоподобными. Приходится признать конец веры в прогресс, и предпосылка о позитивном (несмотря на все издержки) развитии заменяется структурным анализом, прежде всего, анализом социальной дифференциации, организационных зависимостей, ролевых структур. Таким образом, появляется возможность отказаться от сосредоточенного на хозяйстве («политэкономи-ческого») понятия общества, которое было в ходу с конца XVIII в. Начало этому было положено спором между сторонниками идей о преимущественно материальной (экономической) и преимущественно духовной (культурной) детерминации общества. Одновременно положение индивида в современном обществе становится центральной, в известном смысле, ключевой проблемой, обращение к которой позволяет в целом судить об обществе скептически и уже не оценивать его безоговорочно как прогрессивное. Такие понятия, как «социализация» и «роль», указывают на потребность в теоретическом опосредовании «индивида» и «общества». Различение «индивида» и «общества» оказывается, наряду с историческим различием, основанием для [построения] теорий. Однако и здесь, как и в случае с историческим различием, вопрос о единстве различения не может быть поставлен. На вопрос, что же такое история, налагается методический запрет [45], а проблема единства различия индивида и общества даже не распознается именно как проблема, ибо и теперь традиционно исходят из того, что общество состоит из индивидов. Наконец, у Вебера скепсис, ставший возможным благодаря такой теоретической установке, выливается в критику современного западного рационализма. Можно, пожалуй, напомнить и о том, что одновременно возникает литература, показывающая, что современный индивид ни в обществе, ни вне общества не способен найти прочную основу для самонаблюдения, самоосуществления или - модное впоследствии слово - для идентичности. Назовем хотя бы только для примера Флобера, Малларме, Антонена Арто (см. [17]).
Со времени классиков прошло уже 70-80 лет, а социология ощутимым образом так и не продвинулась в сфере теории общества. Она много сделала в других областях, как в методическом отношении, так и в теоретическом, однако более всего преуспела в том, что касается накопления эмпирического знания; но она как бы воздерживалась от описания всего общества. Возможно, это связано с тем, что она продолжает воспринимать как обязательное для себя различение «субъект-объект». Правда, есть специальные исследования по «социологии социологии», а недавно появилась еще «рефлексивная» социология науки3.
3 См. самые характерные примеры: [37; 38].
В этой связи на поверхность выходят проблемы самореференции, но они как бы изолируются в качестве особых феноменов и рассматриваются как курьезы или методические трудности. То же самое можно сказать и о «self-fulfillingprophesy»*.
* Самоисполняющемся пророчестве (англ.)
В настоящее время имеется лишь одна систематическая социологическая теория - общая теория системы действия Т. Парсонса. Она заявляет о себе как кодификация классического знания и как разработка категориального понимания действия с помощью методологии крестообразных таблиц. Но именно эта теория оставляет открытым поставленный здесь вопрос о когнитивной самоимпликации, ибо не делает никаких высказываний о степени совпадения аналитических понятий с реальным образованием систем. Она только постулирует «аналитический реализм» и тем самым приводит проблему самоимпликации к парадоксальной формуле. Она не учитывает, что познание социальных систем уже как познание зависит от социальных условий, причем не только из-за своего предмета, но и потому, что познание (или выработка дефиниций, или анализ) действий само Уже является действованием. Соответственно, сам Парсонс еще не раз появляется во многих сегментах своей теории. Вот почему теория не может систематически различать социальную систему и общество, но предлагает высказывания о современном обществе лишь импрессионистского, более или менее фельетонного плана4.
4 Подробнее об этом см.: [7].
Как можно объяснить, что социология оказывается несостоятельной перед лицом одной из имманентных ее предмету проблем, в решении задачи, возможно, очень важной для ее общественного престижа? Ответ напрашивается сам собой: достаточно указать на огромную сложность общества и на отсутствие подходящей методологии для обращения с высокосложными и дифференцированными системами (так называемая организованная комплексность). Этот аргумент станет еще более весомым, если принять во внимание, что описание системы есть часть системы и что может быть множество таких описаний. И уж конечно, для «гиперсложных» систем такого рода конвенциональная методология, которая исходит либо из весьма простых связей, либо из условий применения статистического анализа, совершенно непригодна. Отсюда могла бы следовать рекомендация отказаться от теории общества и, прежде всего, заняться методологией обращения с высокосложными и даже гиперсложными системами. Однако ведь именно так и поступают уже сорок лет (см.: [8]), со времени открытия этой проблемы метода, - но пока без особого успеха.
Рассуждая иначе, можно было бы использовать понятие «obstacles epistemologiques»* Г. Башляра5. Здесь имеется в виду бремя традиции, которая препятствует адекватному научному анализу и порождает ожидания, которые не могут быть исполнены, но, несмотря на эти явные недостатки, не могут и быть заменены другими ожиданиями.
В современном понимании общества мы обнаруживаем три взаимосвязанных и поддерживающих друг друга предпосылки, которые блокируют познание:
1) что общество состоит из конкретных людей и отношений между людьми6;
Эпистемологические препятствия (фр-) - Прим. перев.
5 См: [13, 13 ff.; 2, 199-200]. Ср. рассуждения Э. Уайлдена о контрадаптивных результатах адаптивных изменений: [47, 205 Г.].
6 Даже новейшие теории систем, которые вводят понятие самореференции, иногда еще продолжают работать с положением о том, что социальные системы состоят из людей. Приведем в пример одного физика, одного биолога и одного социолога: [16; 34, 21]. Но такая путаница не позволяет точно указать, какая операция осуществляет аутопойесис в случае органических, нейрофизиологических, психических и социальных систем. Обычно соглашаются на том, что человек является частью социальных систем не целиком, но лишь постольку, поскольку он находится во взаимодействии, т. е. актуализирует с другими людьми тождественные по смыслу (параллельные) переживания. См.: [22, 128]. Правда, тем самым дело не Улучшается, но ухудшается, потому что тогда нельзя указать, какая операция осуществляет это различение «постольку/поскольку» - ведь это явно делает не химия клетки, не мозг, не сознание, не общественная коммуникация, но, во всяком случае, соответствующим образом производящие Различение наблюдатели.
2) что общества суть региональные, территориально ограниченные единства, так что Бразилия - это иное общество, чем Таиланд, США - иное, чем Советский Союз, а тогда уж, пожалуй, и Уругвай - другое общество, чем Парагвай;
3) наконец, что общества, как группы людей или как территории, могут быть поэтому наблюдаемы извне.
Первые две предпосылки препятствуют точному определению общества в понятиях. Явно не все, что можно наблюдать в человеке, принадлежит обществу (если ему вообще принадлежит здесь хоть что-то). Общество отнюдь не весит ровно столько же, сколько все люди вместе взятые, и не меняет своего облика с каждым рождением и каждой смертью. И воспроизводство его состоит отнюдь не в том, что, скажем, в отдельных клетках людей заменяются макромолекулы или в организмах отдельных людей заменяются клетки. Итак, оно не живет. И недоступные даже сознанию нейрофизиологические процессы мозга тоже никто не станет всерьез рассматривать как общественные процессы; то же самое относится и ко всем тем восприятиям и последовательностям мыслей, которые протекают в области актуального внимания отдельного сознания.
И если вопреки всему столь очевидному все-таки продолжают настаивать на «гуманистическом», сопряженном с человеком понятии общества, то это обусловлено, видимо, опасением, что иначе придется отказаться от всяких масштабов оценки общества и от всякого права требовать, чтобы общество было устроено «по-человечески». Даже если бы это было именно так, то следовало бы, однако, независимо от таких критериев, прежде всего иметь возможность устанавливать, что именно общество делает из людей и каким образом это происходит.
Столь же очевидны возражения и против территориального понятия общества. Больше, чем когда бы то ни было, территориальные взаимозависимости мирового масштаба вторгаются ныне во все детали социального. Тот, кто захотел бы это игнорировать, должен был бы вернуться к культур-ностальгическому понятию общества, резервируя все важные для последующего развития условия за другим понятием, например, говоря о «глобальной системе» (см.: [16]). Но тем самым это понятие оказалось бы подлинным преемником того, что традиционно называлось «обществом» (societas civilis, гражданским обществом). Понятие общества пришлось бы поставить в зависимость от произвольно проведенных государственных границ и, несмотря на все связанные с этим неясности, ориентироваться на единство региональной «культуры», язык и т. д.
В том случае, когда понятие общества сопрягается с человеком, в него включается слишком много; в случае территориального понятия общества - слишком мало. В обоих случаях за непригодные понятия такого рода держатся, видимо, потому, что об обществе хотели бы думать как о чем-то, что возможно наблюдать извне. Если бы удалось отказаться от таких предпосылок, то тем самым познание было бы разблокировано, господствующие эпистемологические препятствия остались бы без своей скрытой поддержки. Гуманистическая и регионалистская традиции рухнули бы из-за своей собственной непригодности.
Итак, мы дерзаем перейти к такому радикально антигуманистическому и радикально антирегионалистскому понятию общества. Отнюдь не отрицая, что люди существуют, не игнорируя самые резкие противоположности в условиях жизни на Земном шаре, мы только отказываемся выводить из этих фактов критерий для дефиниции понятия общества и для определения границ соответствующего предмета. И именно благодаря этому отказу появляется возможность познавать нормативные и оценочные стандарты обращения с людьми; например: познавать права человека или нормы коммуникации, ориентированной на достижение согласия, в смысле Хабермаса, или, наконец, установки на различие в развитии отдельных регионов как нечто, произведенное самим обществом, а не предполагать их как регулятивные идеи или компоненты понятия коммуникации.
II. Различение системы и окружающего мира
Чтобы революционизировать парадигму теории общества, мы отказываемся от традиций социологической дисциплины и обращаемся к теоретическим ресурсам, которые привносим в социологию извне. При этом мы ориентируемся на новейшие тенденции в теории систем, а также в теориях, функционирующих под иными названиями: например, кибернетике, cognitive sciences*, теории коммуникации, теории эволюции. В каждом случае речь идет о состоянии междисциплинарных дискуссий, которые за последние два-три десятка лет претерпели радикальные изменения и не имеют почти ничего общего с понятиями 50-х - начала 60-х гг. Это совершенно новые, завораживающие интеллектуальные тенденции, которые впервые позволяют избежать старого противопоставления наук о природе наукам о культуре или противопоставления предметных областей, данных либо в форме закона либо в форме текста (герменевтически).
Самая глубокая, совершенно неизбежная для понимания всего остального перестройка состоит в том, что речь теперь идет не об объектах, но о различениях. Прояснить это можно с помощью понятия формы, на котором Джордж Спенсер Браун основывает свои «Законы формы»[43]. В соответствии с ним формы следует рассматривать уже не как образы (более или менее красивые), но как линии границ, метки различия, которые вынуждают четко определить, какую сторону ты обозначаешь, т. е. на какой стороне формы находишься и где, соответственно, должны начинаться все последующие операции. Другая сторона линии границы («формы») дается одновременно. Каждая сторона формы есть другая сторона другой стороны. Ни одна из сторон не есть нечто совершенно самостоятельное. Сторона актуализо-вана только в силу того, что обозначают ее, а не другую сторону**.
* Когнитивных науках (англ.).
** Ниже Луман приводит дословно лишь две аксиомы Спенсера Брауна. Мы процитируем начальные положения «Законов формы» более подробно:
«1. ФОРМА
Мы принимаем как данную идею различения и идею обозначения, а также, что мы не можем совершить обозначение, не проводя различения. Мы принимаем, следовательно, форму различения за форму.
Дефиниция
Различение есть совершенное примыкание
То есть различение проводится <путем> установления границы с раз-Дельными сторонами, так что точка на одной стороне не может достичь Другой стороны, не пересекая границу. Например, на плоском пространстве круг проводит границу.
Если различение проведено, то пространства, состояния или содержания на каждой стороне границы, будучи различены, могут быть обозначены. Не может быть различения без мотива, и не может быть мотива, если не усматривается, что содержания отличаются по значению <value>. Если содержание имеет значение, то может быть принято имя, чтобы обозначить это значение.
Итак, называние <calling> имени может быть отождествлено со значением содержания.
Аксиома 1. Закон называния
Значение называния <са!1>, совершенного вновь, есть значение называния.
То есть если имя названо, а затем названо снова, то значение, указанное двумя называниями, взятыми вместе, есть значение, указанное одним из них.
То есть для любого имени назвать вновь значит назвать.
Равным образом, если содержание имеет значение, то может быть принят мотив или намерение, или наставление <instruction>, чтобы указать это значение.
Итак, пересечение границы может быть отождествлено со значением содержания.
Аксиома 2 Закон пересечения
Значение пересечения, совершенного вновь, не есть значение пересечения.
То есть если намереваются пересечь границу, а затем намереваются пересечь ее вновь, то значение, указанное этими двумя намерениями, есть значение, не указанное ни одним из них.
То есть для всякой границы, повторное пересечение есть непересечение». [43, 1-2].
В этом смысле форма есть развернутая (именно во времени развернутая) самореференция. Ибо идти приходится всякий раз от той стороны, которая обозначена в данный момент, а для следующей операции требуется время, чтобы пересечь границу, конституирующую форму*. Пересечение креативно. В то время как повторение обозначения лишь подтверждает его тождество (позже мы будем говорить, что оно тестирует смысл в различных ситуациях и тем самым его конденсирует), пересечение в обе стороны - это не повторение, и потому оно не может быть стянуто в одно единственное тождество7. Иными словами, различение, когда оно используется, не может самое себя идентифицировать. Именно на этом, как мы покажем на примере бинарного кодирования, основывается плодотворность пересечения.
Правда, это понятие формы сходно с гегелевским понятием понятия, поскольку и то, и другое конституируется включением в него различения. Однако Гегель все-таки встроил в понятие понятия слишком много далеко идущих притязаний, которым мы не можем сочувствовать и в которых не нуждаемся. Иначе, чем форма (в указанном нами смысле), понятие берет на себя решение проблемы своего собственного единства. При этом оно устраняет самостоятельность различенного (например, в понятии «человек» устраняется самостоятельность противоположных моментов: чувственности и разума), причем делает это с помощью специфического различения всеобщего и особенного. Снимая его, понятие конституируется как отдельное. Об этом здесь можно напомнить только для того, чтобы зафиксировать нечто прямо противоположное: форма есть именно само различение, поскольку она вынуждает обозначать (а тем самым - наблюдать) одну или другую сторону и как раз поэтому (совершенно иначе, чем понятие) сама не может реализовать свое собственное единство. Единство формы не есть ее «высший», духовный смысл. Напротив, она есть исключенное третье, которое не может быть наблюдаемо, пока наблюдают при помощи формы. И в понятии формы предполагается, что каждая из сторон определена в себе через отсылку к другой; но это здесь считается не предпосылкой «примирения» их противоположности, а предпосылкой различимости различения.
Всякое определение, всякое обозначение, всякое познание, всякое действование - как операция - учреждает такую форму; оно, как грехопадение, рассекает мир, вследствие чего возникает различие, возникает одновременность и потребность во времени, а предшествующая неопределенность становится недоступной.
Тем самым понятие формы уже отличается не только от понятия содержания, но также и не только от понятия контекста8. Формой может быть отличие чего-либо от всего остального, а равным образом и отличие чего-либо от своего контекста (как, скажем, постройка отличается от городского или ландшафтного окружения), но также и отличие некой ценности от противоположной ей ценности, при исключении третьих возможностей.
* «Развертывание самореференции», а также появляющееся ниже «развертывание (размыкание) парадокса» следует понимать, примерно, следующим образом. Самореференция - это отсылка на самое себя. Каждая операция данной системы отсылает к другой операции той же системы и потому можно говорить, что система ссылается только на себя. Круг замыкается - так же, как он замыкается в тавтологическом или парадоксальном высказывании. Он может быть разомкнут, т. е. развернут, когда можно сослаться на что-то иное, кроме себя. Например, фиксируя историческое место какой-то теории, мы отличаем ее от предшествующих, т. е. иных, и через эту отсылку к иному делается попытка разорвать круг самообоснования (об этом говорит Луман в предыдущем параграфе).
7 Спенсер Браун различает соответственно две (единственных!) аксиомы: (1) «Значение называния, совершенного вновь, есть значение называния»; и (2) «Значение пересечения, совершенного вновь, не есть значение пересечения». См.: [43, 1 ff.].
8 Такую замену понятий предлагает произвести К. Александер. См.: [6].
Всегда, когда понятие помечает одну сторону различения, причем предполагается, что есть и определяемая благодаря этому другая сторона, тогда есть еще и некая суперформа, а именно, форма отличения формы от чего-то иного9.
С помощью этих понятий, выработанных для исчисления форм, для совершения различений, можно интерпретировать и различение системы и окружающего мира10.
9 Мы вернемся к этому в гл. 2, когда будем говорить о различении среды и формы.
10 См. об этом подробно: [42, 47 ff.].
С точки зрения общего исчисления форм, - это особый случай, случай приложения исчисления. Поэтому, с точки зрения методической, речь идет не о том лишь, чтобы заменить объяснение общества на основе некоего принципа (будь то «дух» или «материя») объяснением на основе различения. Правда, различению системы и окружающего мира, а тем самым и форме «система», мы придаем центральное значение, но только в том смысле, что, исходя из этого, мы организуем последовательность теории, т. е. взаимосвязь множества различений. Процесс оказывается тогда не дедуктивным, но индуктивным, т. е. представляет собой выяснение путем проб, что означают при этом генерализации одной формы для других. А последовательность при этом означает не что иное, как производство достаточной избыточности, т. е. экономное обращение с информацией.
Самой теории систем это понятие формы показывает, что она имеет дело не с особыми объектами (или даже техническими артефактами или аналитическими конструктами), но что ее тема есть особый вид формы, так сказать, особая форма форм, которая эксплицирует всеобщие свойства всякой формы-с-двумя-сторонами применительно к ситуации «система и окружающий мир». Все свойства формы значимы также и здесь: так обстоит дело с одновременностью системы и окружающего мира и потребностью во времени для любых операций. Но прежде всего, такой способ изложения должен ясно показать, что система и окружающий мир, правда, разделены, но не могут существовать - как две стороны друг без друга. Единство формы все еще предполагается как различие; но само различие не есть носитель операций. Оно не есть ни субстанция, ни субъект, однако в истории теории оно заступает место этих классических фигур. Операции возможны только как операции некоторой системы. Но система может также оперировать и как наблюдатель формы; она может наблюдать единство различия, наблюдать форму-с-двумя-сторонами как форму - но только в том случае, если она способна, со своей стороны, образовать для этого более широкую форму, т. е. различать также и различение. Итак, если системы достаточно сложны, они тоже смогут обратить на себя самое различение системы и окружающего мира - но только в том случае, если они производят для этого свою собственную операцию, которая и совершает это различение. Иными словами, они могут сами отличать себя от своего окружающего мира, но это может быть только операцией самой системы. Форма, которую они производят как бы вслепую, совершая рекурсивные операции и тем самым вычленяя себя, вновь находится в их распоряжении, если они наблюдают себя самих как систему в окружающем мире. И только таким образом, исключительно при этих условиях и теория систем оказывается основой для определенной практики различения и обозначения. Теория систем использует различение системы и окружающего мира как форму своих наблюдений и описаний; но чтобы иметь возможность делать это, она должна уметь отличать это различение от других различений, например, различений теории действия; и чтобы вообще иметь возможность совершать операции таким образом, она должна образовать систему, т. е. - в данном случае - быть наукой. Следовательно, в применении к теории систем, это понятие выполняет искомое требование, заключающееся в положении о самоимпликации теории. Отношение теории к предмету вынуждает ее делать заключения о себе самой.
Если принять эту теорию различения за исходный пункт, то все развитие новейшей теории систем окажется вариациями на тему «система и окружающий мир». Первоначально дело заключалось в том, чтобы при помощи представлений об обмене веществ или input/output объяснить, что некоторые системы не подчиняются закону энтропии, но в состоянии создать негэнтропию и благодаря этому, именно в силу открытости и зависимости от окружающего мира, усилить отличие системы от окружающего мира. Отсюда можно было сделать вывод, что независимость и зависимость от окружающего мира не суть взаимоисключающие признаки системы, но при определенных условиях они могут взаимно усиливаться. Вопрос тогда ставился так: при каких условиях? Ответ на него можно было искать при помощи теории эволюции.
Следующий шаг состоял во включении в рассмотрение самореферентных, т. е. циркулярных отношений. Прежде всего имелось в виду построение структур системы собственными системными процессами. Это позволяло вести речь о самоорганизации. Здесь окружающий мир понимался как источник неспецифического (бессмысленного) «шума», из которого система, однако, благодаря взаимосвязи своих собственных операций, могла якобы извлекать смысл. Так пытались объяснить то, что система (хотя она и зависит от окружающего мира и не обходится без него, но детерминирована отнюдь не им) может сама себя организовать и выстроить свой собственный порядок: order from noises11. Окружающий мир, с точки зрения системы, случайным образом воздействует на нее12, но именно эта случайность необходима для эмерджентного возникновения порядка, причем тем более необходима, чем сложнее становится порядок.
Новый момент в эту дискуссию внес своим понятием аутопойесиса Хумберто Матурана13.
11 См.: [11; 18]. [Order from noises - порядок из шума (англ.).]
12 А. Атлан даже утверждает, что изменения организации системы могут быть поэтому объяснены, лишь исходя из внешних воздействий. См.: [12, 115 ff.]. См. также: [10].
13 См. обобщающее изложение: [32].
Аутопойетические системы - это такие системы, которые производят не только свои структуры, но и свои элементы в сети именно этих элементов. Элементы (а во временном аспекте элементами являются операции), из которых состоят аутопойетические системы, не имеют никакого независимого существования. Они не просто сочетаются. Они не просто бывают соединены. Нет, они производятся только в системе, причем именно благодаря тому, что используются как различия (на каком бы то ни было энергетическом и материальном базисе). Элементы - это информации, это различия, которые составляют отличие в системе*. И потому они суть единицы применения для производства других единиц применения, которым ничто не соответствует в окружающем мире системы**.
* Чтобы лучше понять этот пассаж Лумана, тем, кто владеет английским, стоит вспомнить выражение «to make a difference», которому дословно соответствует немецкое «Unterschiedmachen». Остальным же рискну напомнить пресловутое «почувствуйте разницу». Иными словами, речь идет о различиях, которые и составляют эту самую «разницу», т. е. значимы для системы.
** Концепцию аутопойесиса X. Матураны мы решили представить более подробно при помощи нескольких обширных цитат из его работ: «Основной познавательной операцией, которую мы выполняем как наблюдатели, является операция различения. Посредством этой операции мы специфицируем единство как сущность, отличную от фона, характеризуем и единство, и фон через те свойства, какими операция наделяет их, и специфицируем их раздельность. Специфицированное таким образом единство - это простое единство, которое определяет своими свойствами пространство, в котором оно существует, и феноменальный домен, который оно может породить, взаимодействуя с другими единствами. Рекурсивно обратив операцию различения на единство, так, чтобы различить компоненты в нем, мы респецифицируем его как составное единство, которое существует в пространстве, определяемом его компонентами, потому что именно благодаря специфицированным свойствам его компонентов мы - наблюдатели - его различаем.» [31, xix]. «Следовательно, составное единство операционально различено как простое единство в метадомене относительно того домена, в котором различены его компоненты, потому что оно есть следствие операции составления. В результате компоненты составного единства и соотнесенное с ним простое единство находятся в конститутивном отношении взаимной спецификации. Таким образом, свойства компонентов составного единства, различенного как простое, предполагают свойства компонентов, конституирующих его как таковое, и наоборот, свойства компонентов составного единства и способ, каким они составляются, определяют те свойства, которые характеризуют его как простое единство, если оно различено как таковое. Соответственно, не бывает различения компонента, независимо от единства, которое его интегрирует, а простое единство, различенное как составное, не может быть разъято на произвольный набор компонентов, расположенных в произвольной композиции. Конечно же, нет никаких свободных компонентов, перемещающихся независимо от составного единства, которое их интегрирует [35, 58-59]. «Иными словами, наблюдатель характеризует единство, устанавливая те условия, в которых оно существует как могущая быть различенной сущность, но он познает его лишь настолько, насколько он определяет мета-домен, в котором он может оперировать с той сущностью, которую он охарактеризовал. Таким образом, аутопойесис в физическом пространстве характеризует живые системы, потому что он детерминирует различения, которые мы можем выполнить в наших взаимодействиях, если мы специфицируем их [эти системы], но мы знаем их лишь до тех пор, пока можем и оперировать с их внутренней динамикой состояний как составных единств, и взаимодействовать с ними как простыми единствами в окружающей среде, в которой мы их усматриваем. <...> Аутопойетическая машина - это машина, организованная (определенная как единство) как сеть процессов производства (трансформации и разрушения) компонентов, которые производят компоненты, каковые (i) своими взаимодействиями и трансформациями постоянно регенерируют и реализуют сеть процессов (отношений), которые их производят; (И) конституируют ее (машину) как конкретное единство в пространстве, в каковом они (компоненты) существуют, специфицируя топологический домен его реализации как такой сети [31, xxii, 78-79].
Конечно, и здесь не обходится без окружающего мира (ведь иначе, как мы знаем, другая сторона формы не была бы системой). Но теперь следует гораздо точнее указать (и от этого может выиграть наша теория общества), как ауто-пойетические системы, которые сами производят все элементы, необходимые им для продолжения их аутопойесиса, выстраивают свои отношения с окружающим миром. Все внешние связи такой системы даны, конечно, неспецифически (хотя это, разумеется, не исключает, что наблюдатель может специфицировать, что он сам хочет и может видеть). Всякая спецификация, в том числе и спецификация связей с окружающим миром, предполагает самодеятельность системы и историческое состояние системы как условие ее самодеятельности. Ибо спецификация сама есть некая форма, т. е. различение; она состоит в том, что делается выбор из самостоятельно сконструированной области выбора (информация), а эта форма может быть образована только в самой системе. Нет никакого input'& и outpuf& элементов, т. е. нет входа в нее и выхода из нее. Система автономна не только на уровне структур, но и на уровне операций. Об этом говорит понятие аутопойесиса. Система может конституировать свои собственные операции, только соединяя их со своими же операциями и предвидя другие операции той же системы. Но тем самым мы отнюдь еще не указали все условия ее существования, и вопрос следует поставить вновь: как же можно различить эту рекурсивную зависимость совершения операций от себя самой и зависимости от окружающего мира, которые, безусловно, остаются и впредь? Ответить на этот вопрос можно, только анализируя специфику аутопойетических операций (иначе говоря, рецепция самого понятия аутопойесиса, зачастую поверхностная, сама по себе еще не дает ответа). Эти рассуждения приведут нас к тому, чтобы признать за понятием коммуникации ключевое значение для теории общества.
Прежде всего, фиксируя понятия указанным образом, мы делаем более ясным и столь часто употребляемое ныне понятие оперативной (или самореферентной) замкнутости системы. Конечно, тем самым не предполагается ничего, что могло бы быть понято как каузальная изоляция, отсутствие контактов или закрытость системы. Уже теория открытых систем позволила увидеть, что усиление независимости и зависимости происходит одновременно, причем одно усиливает другое. Понимание этого в полной мере сохраняется и сейчас. Только теперь это формулируют иначе и говорят, что любая открытость системы основывается на ее замкнутости. Говоря более подробно, речь идет о том, что только оперативно замкнутые системы могут выстраивать высокую собственную сложность, которая затем может служить спецификации того, в каких именно аспектах система реагирует на условия своего окружающего мира, тогда как во всех остальных аспектах, благодаря своему ауто-пойесису, она может обеспечить безразличие <к окружающему миру>14.
До сих пор не оспорена и концепция Гёделя, который понял, что ни одна система не может замкнуться в логически непротиворечивый порядок15. В конечном счете, здесь говорится то же самое, что и у нас: понятие системы отсылает к понятию окружающего мира и поэтому его невозможно изолировать ни логически, ни аналитически. Но одновременно следует подчеркнуть, что это касается только наблюдателя, который наблюдает при помощи различения «система/окружающий мир» и еще ни к чему не привязывает нас в вопросе о том, как же реализуется единство системы.
14 Образцовый пример этого - мозг. См. сжатое введение в проблематику: [39].
15 Ныне это общепризнано, однако при этом часто упускают из виду специфику гёделевских доказательств. Ср. поэтому в дополнение системно-теоретическую аргументацию у Эшби: [5; 8].
В конце концов, понимание того, что эти системы построены циркулярным, самореферентным и - постольку - логически симметричным способом, привело к следующему вопросу: как же прерывается этот круг, как создаются асимметрии? И кто тогда скажет, что здесь - причина, а что - следствие; сформулируем еще радикальнее: что происходит прежде, а что - после, что - внутри, а что вовне? Инстанцию, которая это определяет, сегодня часто называют «наблюдателем». Под «наблюдателем» не следует понимать только процессы сознания, т. е. только психические системы. Это понятие используется в высшей степени абстрактно и независимо от материального субстрата, инфраструктуры или специфического способа оперирования, который делает возможным проведение наблюдений. «Наблюдение» означает (и мы в дальнейшем будем использовать это понятие только в данном значении) просто различение и обозначение. Оно говорит о том, что «различение» и «обозначение» суть единая операция; ибо нельзя обозначить ничего, что одновременно не различают, а различение тоже отвечает своему смыслу лишь постольку, поскольку служит обозначению одной или другой стороны (но не обеих сторон сразу!). Если сформулировать это в терминах традиционной логики, то можно сказать, что различение относительно сторон, которые оно различает, есть исключенное третье. И если, наконец, принять во внимание, что наблюдение - всегда оперирование, которое должно совершаться некоторой аутопойетической системой, и если такую систему в этой ее функции обозначить как наблюдателя, то это приведет к следующему высказыванию: наблюдатель есть исключенное третье своего наблюдения. Сам себя при наблюдении он видеть не может. «Наблюдатель есть ненаблюдаемое», - кратко и сжато формулирует М. Серр [30, 365]. Различение, которое наблюдатель использует всякий раз, чтобы обозначить одну или другую сторону, служит невидимым условием видения, его слепым пятном. И это относится ко всякому наблюдению, все равно, является ли операция психической или социальной, совершается ли она как актуальный процесс сознания или же как коммуникация.
III. Общество как объемлющая социальная система
В соответствии с разрабатываемой здесь концепцией, теория общества должна рассматриваться как теория объемлющей социальной системы, заключающей в себе все остальные социальные системы. Эта дефиниция - почти цитата. Она соотносится с вводными положениями «Политики» Аристотеля (1252а 5-6), где городское сообщество (koinoniapolitike) определяется как наипрекраснейшее (наиглавнейшее, kyriotate) сообщество, которое заключает в себе все остальные (pasas periechousa tas alias)*.
* У Лумана здесь сложная и непередаваемая по-русски игра однокорен-ных слов: herrlichste(herrscherlichste <...>) Gemeinschaft <...>. «Herrlich» означает, собственно, прекрасный, великолепный. Слово «herrscherlich» вообще не особенно употребительно и означает «господский» (оба прилагательных даны в превосходной степени). В русском переводе «Политики» читаем: «...больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным и обнимает собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим.» [1, 376]. Иными словами, Луман подчеркивает, что наипрекраснейшее общение («завершение», «наивысшее существование», говорит далее Аристотель [1, 378]) является и господствующим, и наиболее полно выражающим господство. Переводя «herrlichste» как «наиглавнейшее» мы имели в виду прежде всего цитированный перевод Аристотеля.
Таким образом, поскольку речь идет о понятии общества, мы присоединяемся к древнеевропейской традиции*. Правда, все компоненты этой дефиниции мы понимаем нетрадиционно (включая и понятие включенности, т. е. periechon, которое мы, в русле теории систем, подвергнем декомпозиции при помощи концепции дифференциации), ибо речь у нас идет о теории современного общества для современного общества.
* Это замечание Лумана очень важно. Обычно в своих сочинениях он подчеркивает именно свое размежевание с тем, что он называет «древнеевропейской» (alteuropaische) традицией. Хотя сам термин «древнеевропей-ский» не принадлежит Луману (его ввел известный историк философии и. Риттер), но именно Луман использует его очень часто, что стало привычной мишенью нападок для многих критиков.
Итак, общество прежде всего понимается как система, а форма системы, (об этом было сказано выше) есть не что иное, как различение системы и окружающего мира. Это не значит, что достаточно общей теории систем - и путем логических выводов можно будет заключить, что в данном случае есть общество. Напротив, следует дополнительно определить, в чем состоит особенность социальных систем, а в рамках теории социальных систем - определить еще и то, что составляет особенность системы общества, что имплицирует наша характеристика общества как объемлющей социальной системы.
Следовательно, мы должны различать три разных уровня анализа общества:
1) общую теорию систем, а в ней - общую теорию ауто-пойетических систем;
2) теорию социальных систем;
3) теорию системы общества как особого случая социальных систем. На уровне общей теории аутопойетических, самореферентных, оперативно замкнутых систем теория общества пополняется принципиальными понятиями и результатами эмпирических исследований, имеющими силу и для других систем того же типа (например, мозга). Здесь возможен широкий междисциплинарный обмен опытом иинициативами. Как показано в предыдущем параграфе, мы основываем теорию общества на инновативных тенденциях в этой сфере.
На уровне теории социальных систем речь идет об особенностях тех аутопойетических систем, которые могут быть поняты как социальные. На этом уровне следует определить специфическую операцию, аутопойетический процесс которой ведет к образованию социальных систем в соответствующем им окружающем мире. Теория социальных систем, следовательно, обобщает все высказывания (и лишь такие высказывания), которые имеют силу для всех социальных систем, даже для систем интеракции с их малой длительностью и ничтожным значением16.
16 См. об этом мои предварительные разработки: [26].
На этом уровне общество оказывается (как и классическое societas civili.s) одной из многих социальных систем, и его можно сравнивать с другими типами социальных систем - системами организации и системами интеракции присутствующих*.
Лишь на третьем уровне сказывается специфика систем общества. Здесь необходимо артикулировать значение того самого признака, который восходит к начальным положениям «Политики» Аристотеля. В основании явно лежит парадокс. Он состоит в том, что одна социальная система среди других (koinonia) одновременно включает в себя другие системы. Аристотель разрешал этот парадокс эмфазой, а в конечном счете - этическим пониманием политики. Тем самым для традиционного понимания общества парадокс был сделан невидимым. Мы же размыкаем парадокс путем предложенного здесь различения уровней анализа общества. Это допускает возможность при удобном случае напоминать о парадоксальном фундировании всей теории. (Ведь различение «уровней» - это, в наших понятиях, «форма», которая имеет две стороны; понятие уровня предполагает, что есть другие уровни.)
Хотя мы различаем эти уровни, но предметом наших исследований (их «референтной системой»**) является система общества.
* Луман различает три типа, или три уровня образования социальных систем. Системы интеракции образованы коммуникациями между теми, кто непосредственно присутствует. Системы организации основываются на формальных правилах членства. Общество объемлет все эти системы. Но они не являются его частями или подсистемами. Общество - это другой тип, другой уровень образования системы.
** Такой вариант перевода мы предлагаем для столь частого у Лумана понятия « Systemreferenz ». Оно, таким образом, выбивается в нашем переводе из ряда аналогично образованных у Лумана понятий, которые мы попытались передать одним словом: «Selbstreferenz» - «самореференция» и «Fremdreferenz» «инореференция» (т. е. референция, отсылка к другому, к чужому).
Иными словами, мы различаем в нашем предмете исследования (обществе) уровни анализа, и в данном контексте больше уже не занимаемся системами, которые могли бы быть тематизированы также и на других уровнях. Методологически различение уровней ведет к требованию исчерпать возможности абстракции, распространить сравнение систем на сколь возможно более разнородные системы и при оценке уровней большей общности опираться по возможности на результаты познания, полученные при анализе общества. При всем том, речь не идет о заключениях по аналогии, чего все время опасаются социологи; речь также не идет и о «только метафорическом» использовании богатства биологических идей. Различение не имеет никакого отношения к высказываниям о бытии или о сущности вещей в смысле «analogia entis»*. Оно представляет собой не что иное, как форму размыкания парадокса - единства, заключающего себя в самом себе. Специфическая функция этого различения состоит в том, чтобы способствовать междисциплинарному обмену идеями и повышать потенциал взаимного инициирования. Итак, это не высказывание о бытии, но специфическая научная конструкция.
* Аналогия бытия (лат.). Имеется в виду схоластическое учение о соответствии, сходстве преходящих вещей и Творца в том отношении, что Все они суть, хотя несходство их в том, что Бог еще и над всем бытием.
На всех уровнях анализа системы общества для спецификации необходимых теоретических решений мы будем пользоваться средствами теории систем. Общая теория ауто-пойетических систем требует, чтобы точно была указана та операция, которая совершает аутопойесис системы и тем самым отграничивает систему от ее окружающего мира. В случае социальных систем это происходит через коммуникацию.
У коммуникации есть все необходимые свойства: она является изначально социальной (причем единственной изначально социальной) операцией. Она изначально социальна, поскольку, хотя и предполагает множество совместно действующих систем сознания, но (именно поэтому) не может быть - как единство - вменена ни одному отдельному сознанию. Она социальна также и постольку, поскольку «общее» (коллективное) сознание ни коим образом и ни в каком смысле произведено быть не может, т. е. и согласие [Konsens] как полное согласование в строгом смысле слова недостижимо, а вместо этого функционирует коммуникация17.
17 На это указывает А. Хаан. Взаимопонимание, говорит он, может включать в себя фиксацию согласия, но может использовать и другие средства, чтобы коммуникация продолжалась даже при расхождении психических состояний. См.: [20].
Коммуникация, если иначе сформулировать тот же самый аргумент, аутопойетична постольку, поскольку может быть произведена лишь в рекурсивной связи с другими коммуникациями, т. е. в сети коммуникаций, в воспроизводстве которой каждая отдельная коммуникация участвует самостоятельно.
К тому же - и это отличает коммуникацию от биологических процессов любого рода - речь идет об операции, которая наделена способностью к самонаблюдению. Каждая коммуникация должна одновременно и сообщать, что она есть коммуникация, и помечать, кто что сообщил, чтобы могла быть определена подсоединяющаяся к ней коммуникация, т. е. чтобы мог быть продолжен аутопойесис. Следовательно, она не просто производит как совершаемая операция некое различие (и это тоже!), но, чтобы наблюдать совершение операции, она еще использует специфическое различение, а именно, различение сообщения и информации.
Понимание этого влечет за собой очень серьезные следствия. Дело не только в том, что идентификация сообщения как «действия» есть конструкт, созданный наблюдателем, т. е. конструкт наблюдающей самое себя системы коммуникации. Дело также и в том, что социальные системы (включая общество) могут осуществиться только как наблюдающие самое себя системы. Эти рассуждения заставляют нас, в противоположность Парсонсу и всему тому, что имеет ныне хождение на рынке идей под названием «теория действия» , отказаться от (неизбежно индивидуалистического) обоснования социологии как науки о действии. Одновременно у нас появляется проблема, первоначально, правда, - не более, чем проблема системы, вынужденной постоянно наблюдать самое себя, причем наблюдение, как сказано выше, есть зависящая от различения операция, которая в момент самого своего совершения функционирует как исключенное третье. Всякое самонаблюдение тоже обусловлено слепым пятном. Оно возможно только потому, что не может видеть свое видение. Таким образом, сама коммуникация оперативно функционирует как единство различия информации, сообщения и понимания; но для самонаблюдения она использует различение информации, сообщения и понимания, чтобы иметь возможность устанавливать, должна ли последующая коммуникация реагировать на сомнение в информации, на предполагаемые намерения [отправителя] сообщения (например, намерение ввести в заблуждение) или на трудности понимания. Следовательно, ни одно самонаблюдение не в состоянии полностью постичь действительность той системы, которая его совершает. Оно может лишь сделать что-то вместо этого, только выбрать эрзац-решения; а это происходит путем выбора различений, посредством которых система совершает самонаблюдения. Если система достаточно сложна, то она может от наблюдения своих операций перейти к наблюдению своего наблюдения и, в конечном счете, к наблюдению самой системы. В этом случае она должна положить в основу различение системы и окружающего мира, т. е. суметь различать самореференцию и инореференцию. Но и это происходит посредством операций системы в системе - иначе это не было бы самонаблюдение. Различение самореференции и инореференции - это различение, которое практикуется в системе и рефлектирует себя как таковое. Мы можем также сказать, что оно является конструкцией системы.
Из-за невозможности узреть полноту бытия и сделать систему прозрачной для себя самой, возникает сложный комплекс различений, руководящих системным процессом наблюдения, направляющих его внутрь или вовне, в зависимости от того, какая сторона различения обозначается как «внутреннее» или «внешнее». Тогда система, например, если она располагает соответствующими накопительными Устройствами, например, письмом, может собирать опыт, конденсировать, благодаря повторению, ситуативные впечатления и выстраивать оперативную память, не подвергаясь при этом опасности постоянной путаницы, т. е. не смешивая себя самое окружающим миром. Все это связано с основным различением: «самореференция/инореференция», а также подходящими для определенных случаев Другими различениями.
Понятие самонаблюдения не предполагает, что в системе всякий раз есть только одна такая возможность. Много коммуникаций может одновременно практиковаться и одновременно самонаблюдаться. То же самое относится и к наблюдению единства системы в отличие от окружающего мира. Социальная система и в особенности, конечно же, общество может наблюдать себя одновременно или последовательно совершенно различным - мы будем говорить «по-ликонтекстуральным»* - образом. Итак, применительно к объекту, ничто не вынуждает интегрировать наблюдения. Система делает то, что делает.
* Это понятие восходит к известному немецкому философу и логику Г. Гюнтеру, на что в других случаях указывает сам Луман. См.: [19].
Это относится к социальным системам самого разного рода, например, и к организациям, и, как знают семейные терапевты, к семьям. И если мы теперь начинаем говорить о третьем уровне, на котором должна рассматриваться специфика системы общества, то здесь проблемы многообразия возможных самонаблюдений оказываются особенно очевидными, а их масштаб - особенно заметным. Ведь общество как объемлющая социальная система не знает никаких социальных систем вне своих границ. То есть оно вообще не может наблюдаться извне18.
18 П. Ливе говорит в этом случае об «эпистемологической замкнутости»; однако одновременно он констатирует, что тем самым еще отнюдь не гарантируется единство единственно-верного самоописания. См.: [23]
Правда, психические системы могут наблюдать общество извне, но это остается без социальных последствий, если не коммуницируется, т. е. если наблюдение не практикуется в социальной системе. Общество, иными словами, - это предельный случай поли-контекстурального самонаблюдения, предельный случай системы, которая вынуждена наблюдать себя самое, не становясь при этом объектом, о котором возможно лишь одно единственное правильное мнение, всякое отклонение от которого следовало бы рассматривать как заблуждение. Даже если общество рутинным образом отличает себя от окружающего мира, заранее отнюдь не ясно, что именно отличается тем самым от его окружающего мира. И даже если изготовляются тексты, т. е. описания, которые управляют наблюдениями и координируют их, это не означает, что всякий раз есть только одно истинное описание. Нельзя просто гак, без оговорок и уточнений, утверждать, будто южнокитайские рыбаки, подобно бюрократам и мандаринам, усматривали основы империи в конфуцианской этике. Индийская кастовая система как отображение единства через различие тоже принимала регионально весьма различные формы, несовместимые с единством иерархического порядка. И кто еще, помимо клира, дворянства и юридически образованных судей и управленческих чиновников, знал учение о трех сословиях позднего Средневековья и верил в него? Все это остается вопросом эмпирическим. С точки зрения крестьян, такое общество было скорее обществом с одним классом, не считая данного конкретного землевладельца и его семью.
В случае с обществом именно нет такого внешнего наблюдения, которое позволило бы скорректировать наше собственное - как бы ни старались писатели и социологи найти такую позицию. Традиция экстернализировала заинтересованность в безошибочном описании и называла соответствующую позицию Богом. Бог_мог все,_только не ошибаться. Но тогда приходилось еще принимать во внимание, что суждение священников о суждении Бога может быть ошибочным и правильное описание, истинный регистр грехов станет, дескать, известным только в конце времен на Страшном суде, а именно, в форме некоторой неожиданности.
Основываясь на этом тезисе об избытке возможностей самонаблюдения и самоописания мы попытаемся в завершающей главе показать, что самоописания вместе с тем совершаются не случайно. Имеются структурные условия приемлемости изложений; имеются исторические тенденции в эволюции семантик, которые сильно ограничивают пространство вариаций. Тогда социологическая теория может познавать связи типа корреляций между структурами общества и семантиками*; но одновременно она может знать и то, что такие теории суть ее собственные конструкты и что их нельзя путать с ходячими в данное время представлениями системы общества.
* См. многотомный труд самого Лумана «Структура общества и семантика. Исследования по социологии знания современного общества» [24].
Когда мы говорим, что только коммуникации и все коммуникации вносят свой вклад в аутопойесис общества, то и в этом тезисе кроется решительный разрыв с традицией. Здесь уже речь не идет ни о целях, ни о чистых помыслах, ни о кооперации, ни о споре, ни о согласии, ни о разногласии, ни о приятии, ни об отклонении востребованного смысла. Сам аутопойесис (и это сильно уменьшает объяснительную силу понятия) транспортируется всеми эти этими коммуникациями. Сюда же, конечно, относятся все коммуникации, которые следует причислить к частным системам общества. Поэтому такие различения, как «хозяйство и общество», «право и общество», «школа и общество» вносят путаницу, и наша теория их не допускает. Они создают впечатление, будто бы компоненты различения исключают друг друга, в то время как на самом деле хозяйство, право, школа и т. д. должны мыслиться не как нечто вне общества, но как то, что совершается обществом. Иначе здесь будет бессмыслица того же рода, что и при попытке различать женщин и людей, - только намного более распространенная.
«Все коммуникации» означает, что коммуникации действуют аутопойетически, поскольку их отличие не составляет отличия*. Следовательно, само то, что совершаются коммуникации, в обществе отнюдь не является неожиданностью, а значит, - и информацией. (Иначе обстоит дело, конечно, с психическими системами, к которым вдруг [кто-то] обращается**.)
* Т. е. само по себе многоразличие коммуникаций не информативно для системы, потому что, согласно понятию аутопойетической системы, каждая операция делает различение (macht Unterscheidung), т. е. составляет отличие (macht Unterschied), отлична от другой.
** Общество есть система коммуникаций, и для него фактичность коммуникации как коммуникации не неожиданна и не информативна. Психическая система может участвовать и не участвовать в коммуникации. Сам факт обращения к ней (попытка вступить в коммуникацию) есть уже отличие.
С другой стороны, коммуникация - это именно актуализация информации. Следовательно, общество состоит из взаимосвязи тех операций, которые не составляют отличия, поскольку составляют отличие. Это отводит на второстепенные теоретические позиции все предпосылки относительно взаимопонимания, прогресса, рациональности или иных, охотно усматриваемых целей. Поэтому затем столь важна окажется теория символически генерализованных средств коммуникации.
«Все коммуникации» включают в себя даже парадоксальные коммуникации, т. е. такие, которые отрицают, что они говорят о том, о чем говорят. Можно коммунициро-вать парадоксально, но при этом отнюдь не «бессмысленно» (в том смысле, что непонятно, т. е. без аутопойетического эффекта)19. Парадоксальная коммуникация функционирует как операция, даже если она - и это ее намерение хорошо понятно - вводит в заблуждение наблюдателя. Как классическая риторика, так и современная литература, как философская традиция Ницше-Хайдеггера, так и семейные психотерапевты открыто используют парадоксы; более того, стало уже обычным при наблюдении наблюдения других обращать внимание на скрытые парадоксы. Функция парадоксальной коммуникации не вполне прояснена, быть может, сама эта функция парадоксальна, поскольку является попыткой соединить в одном акте деструкцию и творение. Мы еще не раз вернемся к этому. Пока что достаточно будет зафиксировать, что тем самым в затруднении оказывается не аутопойетическая операция, а только ее наблюдение 20
19 Ср. примеры этого в кн.: [28].
20 И. Баре ль, видимо, имеет в виду нечто сходное, различая логические и экзистенциальные парадоксы. Последние неизбежны в системе, располагающей возможностями самореферентных операций. См.: [38, 19 ff.].
IV. Оперативная замкнутость и структурные стыковки.
Если описывать общество как систему, то из общей теории аутопойетических систем будет следовать, что речь должна идти об оперативно замкнутой системе. На уровне собственных операций [у него] нет контакта с окружающим миром. Это имеет силу даже в тех случаях - мы должны специально указать, сколь трудна эта идея, противоречащая всей традиции теории познания, - когда речь идет об этих операциях как наблюдениях или же об операциях, аутопойесис которых требует самонаблюдения. На уровне собственных операций [у системы] нет контакта с окружающим миром. Это имеет силу даже в тех случаях - приходится специально указать, сколь трудна эта идея, противоречащая всей традиции теории познания, - когда речь идет об этих операциях как наблюдениях или же об операциях, аутопойесис которых требует самонаблюдения. На уровне совершения операций контакта с окружающим миром нет и для наблюдающих систем. Всякое наблюдение окружающего мира должно быть проведено в самой системе как ее внутренняя активность с помощью ее собственных различений (которым ничего не соответствует в окружающем мире). Всякое наблюдение окружающего мира предполагает различение самореференции и инореференции, которое может быть сделано только в самой системе (где же еще?). А это вместе с тем позволяет понять, почему всякое наблюдение окружающего мира стимулирует самонаблюдение, а всякое дистанцирование от окружающего мира заставляет поставить вопрос о самости, о собственной идентичности. Ведь поскольку наблюдать можно только посредством различений, то одна сторона различения, так сказать, заставляет любопытствовать относительно другой стороны, стимулирует пересечение (Спенсер Браун сказал бы «crossing») пограничной линии, помечаемой формой «система и окружающий мир».
Следствием оперативной замкнутости является то, что система не может обойтись без самоорганизации. Ее собственные структуры могут быть выстроены и изменены лишь при помощи ее собственных операций - например, язык может строиться и меняться лишь при помощи коммуникации, а не непосредственно благодаря огню, землянике, космическим лучам или восприятиям отдельного сознания. Закрытость и открытость вместе делают систему (и в этом состоит эволюционное преимущество) в высокой степени совместимой с беспорядком в окружающем мире, точнее: с окружающими мирами, упорядоченными лишь фрагментарно, отрывочно, в отдельных системах, но не как единство. Эволюция в этом отношении почти с необходимостью приводит к замыканию систем, благодаря чему, в свою очередь, возникает совокупный беспорядок, в противоположность которому и утверждаются оперативная замкнутость и самоорганизация. В том же самом смысле и оперативная замкнутость общества как системы коммуникаций соответствует факту возникновения подвижных организмов с нервной системой, а в конечном счете - и сознанием. Общество только усиливает (потому что выносит) некоординированное многообразие перспектив эндогенно неспокойных отдельных систем.
В русле собственной традиции теории систем тезис о закрытости систем должен казаться экстравагантным. Ведь сама эта теория конституировалась с учетом закона энтропии, именно как теория открытых (и потому - кегэнтропических) систем. Отказываться от этой позиции, (в отношении закона энтропии) конечно, не следует. Закрытость систем следует понимать не как термодинамическую изолированность, но только как оперативную закрытость, т. е. рекурсивное создание возможностей для собственных операций посредством результатов своих собственных операций.
Ведь исходить следует из того, что реальные операции возможны только в мире, который существует одновременно. Прежде всего, это исключает, что одна операция влияет на другую. И если это все-таки должно быть возможно, то лишь так, что одна операция непосредственно подсоединяется к другой. Но такие рекурсивные отношения, в которых совершение одной операции есть условие возможности другой операции, ведут к дифференциации систем, в которых это часто реализуется структурно очень сложным образом, и существующего одновременно окружающего мира этих систем. Результат этого мы и называем оперативной замкнутостью.
Всю эту тему можно рассматривать и применительно к системам сознания, показывая, почему и как современная взаимная дистанцированность индивида и общества побуждает индивида к рефлексии, к вопросу о Я [его] Я, к поискам собственной идентичности. Все, что только было увидено, все, чем только был мир - все это «вовне». А что тогда «внутри»? Неопределимая пустота? А если применить теорию аутопойетических систем к обществу, то придешь к такому же результату, только в отношении другого способа оперирования, а именно коммуникации.
Общество есть коммуникативно закрытая система. Оно производит коммуникацию посредством коммуникации. Коммуницировать может только оно само - но не с самим собой и не со своим окружающим миром. Оно производит свое единство посредством оперативного совершения коммуникаций, рекурсивно обращенных к предыдущим и предвосхищающих последующие коммуникации. Затем, если оно основывается на схеме наблюдения «система и окружающий мир», коммуницировать в себе самом, о себе самом или о своем окружающем мире, но только не с самим собой и не со своим окружающим миром. Потому что ни оно само, ни его окружающий мир не могут еще раз появиться в обществе словно бы как партнеры, как адресаты коммуникации. Такая попытка увела бы в никуда, не привела бы в действие аутопойесис и потому не состоялась бы. Ибо общество возможно только как аутопойетическая система.
Эти констатации - сами по себе очевидные и не требующие дальнейших доказательств - влекут за собой очень серьезные теоретические последствия и поэтому нуждаются в дополнительном объяснении. Реальная возможность коммуникации основана, конечно, на множестве фактических предпосылок, которые сама система не может ни произвести, ни гарантировать. Закрытость всегда есть включенность* в нечто, что, если смотреть изнутри, находится вне. Иначе говоря, всякое возведение и сохранение границ системы (т. е., разумеется, и живых существ) предполагает материальный континуум, который не знает и не принимает в расчет эти границы. (Поэтому Пригожий уже применительно к физическим и химическим фактам может говорить о «диссипативных структурах»**). Тогда встает вопрос: как система (в нашем случае - общественная система) формирует свои отношения к окружающему миру, если она не может поддерживать контакт с ним. Вся теория общества зависит от ответа на этот вопрос - и мы теперь видим также, что (и каким образом) гуманистическое и регионалистское понятие общества избегало даже самой постановки этого вопроса.
* Игра слов: Geschlossenheit... Eingeschlossenheit.
** См., напр.: [3, 18, 56-58, 197-198].
На трудный вопрос отвечает трудное понятие. Вслед за Хумберто Матураной мы намерены говорить о «структурной стыковке»21. Это предполагает, что каждая аутопойетическая система совершает операции как структурно детерминированная система, т. е. может детерминировать свои операции только посредством собственных структур. Структурная стыковка, таким образом, исключает, что данности окружающего мира смогут специфицировать совершающееся в системе. Матурана сказал бы, что структурная стыковка расположена ортогонально к самодетерминации системы22.
21 См.: [32, 143 if., 150 ff., 243 f., 251 if.]. На трудность отграничения собственных операций системы от каузальных связей, которые через структурные привязки воздействуют на нее, указывают постоянно. См., напр.[15, 204]. Мы попытаемся разрешить эту проблему посредством как можно более точного определения понятия коммуникации.
22 См., напр.: [30, 64].
Структурная стыковка не определяет, что именно происходит в системе, но ее следует предполагать, потому что иначе аутопойесис был бы парализован и система перестала бы существовать. Поэтому система либо приспособлена к своему окружающему миру, либо она не существует, но в пределах, задаваемых ее приспособленностью, она имеет все возможности вести себя неприспособленно - а результат в особенности хорошо виден в экологических проблемах современного общества.
В этом смысле любая коммуникация привязана к сознанию. Без сознания коммуникация невозможна. Но сознание не есть ни «субъект» коммуникации, ни - в каком-либо ином смысле - «носитель» коммуникации. Поэтому нам придется отказаться и от классической метафоры, говорящей о коммуникации как «перенесении» семантических содержаний от одной психической системы, которая уже располагает ими, на другую23. Не человек, но только коммуникация может коммуницировать. Коммуникация образует эмерджентную реальность sui generis. Системы сознания, равно как и системы коммуникации (а равным образом - с другой стороны - и мозг, клетки и т. д.) суть оперативно закрытые системы, которые не могут поддерживать контакта между собой. Нет никаких коммуникаций от сознания к сознанию и нет коммуникации между индивидом и обществом. Всякое достаточно точное понимание коммуникации исключает такие возможности (а также и другую возможность: мыслить общество как коллективный дух). Только сознание может мыслить (но отнюдь не переносить свою мысль в иное сознание*), и только общество может коммуницировать. И в обоих случаях речь идет о собственных операциях оперативно закрытой, структурно детерминированной системы.
* В оригинале - непереводимое словообразование: «ineinanderesBewuB-tseinhinuberdenken», т. е. «думать за пределы себя в иное сознание».
23 Многие предпосылки, на которых основывается это понятие, ныне оспариваются даже когнитивной психологией, в частности, например, предположения, что коммуникация выражает в словах уже имеющиеся мысли, что слова функционируют в процессе переноса как носители определенного семантического содержания, что понимание - это обратный процесс перевода слов в мысли и что семантика, со всем тем, означает процесс репрезентации, как в психической системе, так и в коммуникации. См. об этом: [41]. Отсюда следует, что семантика должна пониматься, исходя из прагматики (т. е. аутопойесиса коммуникации), а не наоборот, как это общепринято.
Для понимания тем не менее существующей, совершенно регулярной, необходимой связи между сознанием и коммуникацией мы используем понятие структурной стыковки. Структурная стыковка функционирует всегда и незаметно, она существует даже тогда и именно тогда, когда о ней не думают и не говорят - так, как на прогулке могут сделать следующий шаг, не думая о физически необходимом для этого собственном весе. И подобно тому, как вес лишь в пределах очень малой части [всех] возможностей позволяет совершать прогулку (иными словами: подобно тому, как сила притяжения земли не могла бы стать ни чуть больше, ни чуть меньше), так и системы сознания и системы коммуникации заранее настроены друг на друга, что позволяет им затем функционировать, незаметно координируясь. Что дело обстоит именно так и что тем самым реализуется весьма малая часть множества возможностей, поддается (как и возможность совершать прогулку) эволюционно-теоретическому объяснению.
Это незаметное, бесшумное функционирование структурной стыковки коммуникации и сознания отнюдь не исключает того, что участников коммуникации идентифицируют и даже обращаются к ним в коммуникации. В этом аспекте мы присоединимся к старой традиции и будем называть их «лицами» [Personen], утверждая тем самым, что коммуникация в состоянии «персонифицировать» внешние референции. Каждая коммуникация должна быть способна различать информацию и сообщение (иначе она сама была бы неразличима). Но это значит, что образуются соответствующие предметные и личные референции. В понятиях Спенсера Брауна [17, 10] можно было бы сказать также, что повторное употребление таких референций конденсирует лица (или вещи), т. е. фиксирует их как идентичные, и одновременно подтверждает их, т. е. обогащает новыми смысловыми аспектами из других сообщений. Если это происходит, то развивается и соответствующая семантика. У лиц есть имена. Что именуется личным и как с этим следует обходиться, может быть в сложных формах описано более подробно. Но все это ничего не меняет в обособленности и оперативной закрытости структурно состыкованных систем. А современная семантика жизни, субъективности, индивидуальности особенно производит такое впечатление, как будто она была придумана, чтобы уравновесить эту неотменимую изолированность24.
24 См. об этом подробнее: [25].
Через структурную стыковку система может быть подсоединена к очень сложным системам окружающего мира, причем ей нет необходимости вырабатывать у себя или реконструировать их сложность. Сложность этих систем окружающего мира остается непрозрачной для системы, эта сложность не переносится в ее собственный способ совершения операций, потому что для этого нет, говоря словами Эшби, «необходимой изменчивости»25. По большей части, она реконструируется в ее собственных операциях лишь в форме предпосылки и помехи или нормальности и возбуждения. В системах коммуникации и такие совокупные обозначения, как имена, или такие понятия, как «человек», «лицо», «сознание», также служат для процессуальной референции к сложности окружающего мира. Речь все время идет о том, чтобы использовать упорядоченную (структурированную, но отнюдь не поддающуюся калькуляции) комплексность по мерке собственных возможностей совершения операций; применительно к обществу это означает: речевым образом. В том случае, если такие отношения развиваются через обоюдную коэволюцию и ни одна из систем, структурно стыкованных подобным образом, не могла бы существовать без них, можно говорить также о взаимопроникновении26. Хорошим примером этого является отношение нервных клеток и мозга; другой пример (близкий первому также и в чисто количественном отношении) - отношение систем сознания и общества.
Легко увидеть, что регулярная структурная стыковка систем сознания и систем коммуникации становится возможной благодаря языку. С точки зрения эволюции, язык представляет собой чрезвычайно невероятный род шума, который именно в силу этой невероятности обладает высокой ценностью для привлечения внимания и очень сложными возможностями спецификации. Если говорится*, то присутствующее при этом сознание легко может отличить такой шум от других шумов и едва ли способно избежать захватывающего очарования текущей коммуникации (что бы оно при этом ни думало в собственной неслышной системе).
25 См.: [9, 206 ff.; 7; 4].
26 См. об этом подробнее: [26, 286 ff.].
* Луман использует здесь безличный пассивный оборот: «gesprochen wind» - т.е. отличается, воспринимается как информация сам факт разговора, до идентификации его участников.
Одновременно специфицирующие возможности языка позволяют выстраивать очень сложные структуры коммуникации, т. в., с одной стороны, делают возможным усложнение и новую шлифовку речевых правил, а с другой, - построение социальных семантик для ситуативного реактиви-рования важных возможностей коммуникации. То же самое mutatis mutandis относится и к языку, перенесенному из акустической в оптическую среду, т. е. к письму. О крайне значительных, все еще недооцененных результатах такой «оптизации» языка мы еще скажем более подробно в следующей главе.
В контексте теории системы общества не целесообразно разрабатывать теорию языка, основанную на этой функции структурной стыковки (для этого пришлось бы сделать что-то несоразмерно обширного экскурса). Укажем только, что мы тем самым вступаем в противоречие с основными предпосылками соссюровой лингвистики: язык не совершает операции своим собственным способом, он сам должен совершаться либо как мышление, либо как коммуникация; а следовательно, язык не образует и своей собственной системы. Он всегда зависит от того, что, с одной стороны, системы сознания и, с другой, - система коммуникации общества продолжают свой аутопойесис посредством совершенно закрытых собственных операций. Если бы это не происходило, каждая система сразу бы прекратила свое существование, а вскоре вслед за тем не могла бы уже быть помыслена в языке.
Структурная стыковка через язык систем коммуникации с системами сознания, а также систем сознания с системами коммуникации, имеет весьма серьезные последствия для структурного построения соответствующих систем, т. е. для их морфогенеза, для их эволюции. Иначе, чем системы сознания, которые способны к чувственному восприятию, коммуникация может быть аффицирована только сознанием. Все, что влияет на общество извне, не будучи коммуникацией, должно поэтому пройти двойной фильтр: сознания и возможности коммуникации. Необходимо в полной мере уяснить себе, что здесь идет огромный и, с точки зрения эволюции, весьма невероятный процесс отбора, одновременно обусловливающий значительную степень свободы общественного развития. Физические, химические, биологические процессы непосредственно не достигают коммуникации - разве что в смысле ее деструкции. Грохот или лишение воздуха, или пространственная дистанция могут исключить возможность устной коммуникации. Книги могут сгорать или даже быть сожжены. Но огонь никогда не напишет книги и даже не сможет раздражить пишущего книгу настолько, чтобы он, пока книга горит, писал бы ее иначе, чем если бы огня не было. Таким образом, сознание занимает привилегированное положение среди всех внешних условий аутопойесиса. Оно известным образом контролирует доступ внешнего мира к коммуникации - но не потому, что является «субъектом» коммуникации, не как «лежащая в основании»* ее некая сущность, но благодаря своей способности к восприятию (в свою очередь, сильно отфильтрованному, самопроизведенному), которое, со своей стороны, в условиях структурной стыковки зависит от нейрофизиологических процессов мозга и, через них, - от других процессов аутопойесиса жизни.
* Имеется в виду греческое thypokeimenon*, т. е. «лежащее в основании», «подлежащее», что буквально и означает латинское tsubjectumt.
Прямая состыкованность систем коммуникации только с системами сознания, от избирательности которых они, таким образом, выигрывают, не будучи ими специфицированы, действует как панцирь, препятствующий, в основном, влиянию совокупной реальности мира на коммуникацию. Ни одна система не смогла бы быть достаточно сложной, чтобы выдержать это и тем не менее сохранить свой аутопойесис. Лишь благодаря такой защите смогла развиться система, реальность которой состоит в процессуальном оперировании с одними только «знаками». Здесь следует также принять во внимание, что число систем сознания очень велико; теперь их - около пяти миллиардов одновременно действующих единиц. Даже если учесть, что на другой стороне земного шара они в настоящий момент спят, а Другие не принимают участия ни в каких коммуникациях по иным причинам, то число одновременно совершающих операции систем все равно будет таким большим, что возможность эффективной координации между ними (а тем самым - и образование согласия в эмпирически ощутимом смысле) совершенно исключается. Поэтому система коммуникации необходимо основана лишь на себе самой и лишь сама собой может руководить. Она способна на это, поскольку ей удается активизировать в своем окружающем мире необходимый для этого материал сознания.
Наконец, понятием структурной стыковки объясняется и то, что хотя системы детерминированы только самими собою, но в общем и целом, они развиваются в определенном направлении, терпимом для окружающего мира. Внутреннюю, системную сторону структурной стыковки можно обозначить понятием раздражения (помехи, возмущения). В этом аспекте системы (и системы сознания, и система коммуникации общества) совершенно автономны. Раздражения являются результатом внутреннего сравнения событий (сначала неспецифированных) с собственными возможностями, прежде всего, со структурами, созданными в системе, с ожиданиями. Таким образом, в окружающем мире системы нет раздражений, нет и переноса раздражений из окружающего мира в систему. Речь всегда идет о собственном конструкте системы, о самораздражении, поводом к которому служат, конечно, воздействия окружающего мира. У системы есть возможность либо находить причину раздражения в себе самой и затем учиться на этом, либо же приписывать раздражение окружающему миру и рассматривать его затем как «случай», либо, наконец, искать источник раздражения в окружающем мире и элиминировать его. Эти различные возможности тоже заложены в совершаемом самой системой различении самореференции и инореференции; и если уж кто-то располагает возможностью для их различения, то можно также сменить перспективы и [по-другому] скомбинировать реакции. Так, например, можно идентифицировать причины [раздражения] в окружающем мире, но в то же время учиться.
Длительные раздражения определенного типа, например, постоянное раздражение маленького ребенка особенностями языка или раздражение основанного на сельском хозяйстве общества восприятием климатических условий, направляют структурное развитие в определенном направлении, ибо эти системы подвержены раздражениям, исходящим от весьма специфических источников, и они поэтому постоянно заняты сходными проблемами. Конечно, мы отнюдь не собираемся вернуться к теориям климата и культуры» XVIII в.; из наших рассуждений не следует также, что мы были бы готовы принять социологическую теорию социализации. Во всех этих случаях надо учитывать множество системных референций и работать с теоретическими моделями соответствующей сложности. Во всяком случае, окружающий мир лишь в условиях структурной стыковки и лишь в рамках канализированных и умноженных тем самым возможностей самораздражения способен влиять на структурное развитие систем.
Все это относится и к современному обществу. Но здесь еще добавляется то обстоятельство, что окружающий мир, со своей стороны, сильнее, чем когда-либо прежде, меняется под воздействием общества. Это касается физических, химических и биологических условий жизни, т. е. того комплекса, который обычно обозначают как «экологию». И то же самое - уж это точно! - касается деформации психических систем в современных условиях жизни, например, всего того, что пытаются выразить в понятии современного индивидуализма или при помощи теории растущих притязаний. Как в экологическом гиперцикле, сегодня структурные стыковки между системой общества и окружающим миром испытывают давление изменчивости, причем темп перемен столь высок, что невольно возникает вопрос: может ли (и если да, то как именно) раздражаемое таким образом общество, вынужденное вменять все эти перемены самому себе, учиться на этом достаточно быстро.
Оперативная закрытость дает нам, наконец, ключ к теории дифференциации систем, о которой более подробно будет сказано в гл. 4. Как бы ни выделяло в себе общество социальные системы через дифференциацию, поводом для этого всегда является бифуркация его собственных операций. Речь никогда не идет об отображении различений, которые уже имеются в окружающем мире. Только очень примитивные общества экспериментировали с опорой на такие антропологические данности, как пол и возраст, однако это оказалось эволюционным тупиком. Уже образование семей и сегментарная дифференциация [общества] ведут дальше. И если затем структурным различениям приписывается дискриминирующее значение (например: «крестьянин/кочевник», «горожанин/селянин»; в наше время таковы иногда расовые различия), то речь идет однозначно о социальных аспектах, обретающих весомость лишь в той мере, в какой они могут быть связаны с формами дифференциации системы. С точки зрения генезиса, речь идет лишь о собственных результатах системы коммуникации: отклонение [в ходе операций] бывает возбуждено, оно наблюдается, тестируется, отбрасывается или же усиливается и используется для подсоединения все большего числа [операций]. При этом воздействие оказывают также самореферентные и инореферентные компоненты. Поэтому дифференциация системы всегда приводит также к выдифферен-циации системы в смысле прерывания мельчайших совпадений компонентов системы и компонентов ее окружающего мира. И именно это прерывание делает для системы неизбежными попытки справиться с неким интерпретированным окружающим миром.
ЛИТЕРАТУРА
1.Аристотель. Политика/ Пер. С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения: В 4-ч т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
2.Башляр Г. Новый рационализм. М.: Прогресс, 1987.
3.Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
4.Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М., 1959.
5.Эшби У. Р. Принципы самоорганизации // Принципы самоорганизации. М., 1966.
6.Alexander Ch. Notes on the Synthesis of Form. Cambridge Mass., 1964.
7.Ashby W. Ross. Requisite Variety and Its Implications for the Control of Complex Systems // Cybernetica. 1958. Vol. 1. P. 83-99.
8.Ashby W. R. Principles of the Self-Organizing System // Principles of Self-Organization / Foerster H.v., Zopf G. W. (Eds.) N.Y., 1962. P. 255-278.
9.Ashby W. Ross. An Introduction to Cybernetics. London, 1956.
10.Allan H. Disorder, Complexity and Meaning // Disorder and Order: Proceedings of the Stanford International Symposium / Livingstone P. (Ed.). Saratoga Cal., 1984. P. 109-128.
11.Allan H. Entre le cristal et la fume. Paris, 1979.
12.Allan H. L’emergence du nouveau et du sense // L’autoorganisation: De la physique au Politique / Dumouchel P., Dupuy J.-P. (Eds). Paris, 1983.
11.Bachelard G. La formation de 1’esprit scientifique: Contribution a une Psychoanalyse de la connaissance objective. Paris, 1947.
13.Barel Y. Le paradoxe et le systeme: Essai sur le fantastique social. 2-nde ed. Grenoble, 1989.
14.Braten S. Simulation and Self-Organization of Mind // Contemporary Philosophy. 1982. Vol. 2. P. 189-218
15.Bunge M. A Systems Concept of Society: Beyond Individualism and Holism // Theory and Decision. 1979. Vol. 10. P. 13-30;
16.Burger P. Prosa der Moderne. Frankfurt a.M., 1988.
17.Foerster H. V. On Self-organizing Systems and Their Enviroments // Self-organizing Systems: Proceedings on an Interdisciplinary Conference. / Ed. by Yovits M. C., Cameron S. Oxford, 1960. P. 31-50.
18.Giinther G. Life as poly-contexturality// Gunther G. Beitrage zur Grundlegung einer operationsfahigen Dialektik. Bd. 2. Hamburg, 1979. S. 283-306.
19.Hahn A. Verstandigung als Strategic II Kultur und Gesellschaft: Sozio-logentag Zurich 1988 / Haller M., Hoffmann-Nowotny H.-J., Zapf W. (Hrsg.) Frankfurt a.M, 1989. S. 346-359.
20.Hejl P. M. Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme. Frankfurt a.M., 1982.
21.Hejl P. M. Zum Begriff des Individuums - Bemerkungen zum unge-klarten Verhaltnis von Psychologic und Soziologie /’ Systeme erkennen Systeme / Hrsgg. v. Schiepek G. Munchen. 1987. S. 115-154.
22.Livet P. La fascination de 1’auto-organisation // L’auto-organisation: De la physique au politique / Paul Dumouchel. Jean-Pierre Dupuy (eds.) Paris, 1983’. P. 165-171.
23.Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissens-soziologie der modernen Gesellschaft. Bde. 1-4. Franfurt a.M.: Suhrkamp, 1980-81-89-95.).
24.Luhmann N. Individuum, Individualitat, Individualismus //’ Luhmann N. Gesellschafsstruktur und Semantik. Bd. 3. Frankfurt a.M., 1989. S. 149-258.
25.Luhmann N. Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M., 1984.
26.Luhmann N. Warum AGIL? /’ Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 1988. Jg. 40. Hft. 1. S. 127-139.
27.Luhmann N., Fuchs P. Reden und Schweigen. Frankfurt a.M., 1989.
28.Lоfgren L. Life as an Autolinguistic Phenomenon // Autopoiesis: A Theory of Living Organization / Ed. by M. Zeleny. N.Y, 1981. S. 236-249.
29.Maturana H. R. Reflexionen: Lernen oder ontogenetische Drift /V Delfm. 1983. VolII. S. 60-72.
30.Maturana H. R. and Varela F.J. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living. Dordrecht etc. 1980.
31.Maturana H. R. Erkennen: Die Organisation und Verkorperung von Wirklichkeit. Braunschweig, 1982.
32.Maturana H. R. Erkennen: Die Organisation und Verkorperung von Wirklichkeit. Braunschweig, 1982.
33.Maturana H. R. Man and Society // Autopoiesis, Communication and Society / Ed. by. Benseler F., Hejl P.M.’. Kock. W.K. Frankfurt a.M., 1980 P. 11-13.
34.Maturana H. R. The Biological Foundations of Self Consciousness and the Physical Domain of Existence // Luhmann N. et al. Beobachter. Konvergenz der Erkenntnistheorien? Munchen, 1990.
35.Moore W. E. Global Sociology: The World as a Singular System ‘/ American Journal of Sociology. 1966. Vol. 71. P. 475^82.
36.MulkayM. The Word and the World: Explorations in the Form of Sociological Analysis. London, 1985.
37.Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? / Ed. by J. Law. London, 1986.
38.Schwarz J. R. Die neuronalen Grundlagen der Wahrnehmung // Systeme erkennen Systeme / Hrsgg. v. Schiepek G. Munchen, 1987. S. 75-93.
39.Serres M. Der Parasit. Dt. Ubers. Frankfurt a.M., 1981.
40.Shannon B. Metaphors for Language and Communication // Revue in-ternationale de systemique. 1989. Vol. 3. P. 43-59.
41.Simon F. B. Unterschiede, die Unterschiede machen: Klinische Episte-mologie: Grundlage einer systemischen Psychiatrie und Psychosomatik. Berlin, 1988.
42.Spencer Brown G. Laws of Form. N.Y. 1979.
43.Tenbruck F. H. Emile Durkheim oder die Geburt der Gesellschaft aus dem Geist der Soziologie // Zeitschrift fur Soziologie. 1981. Jg. 10. Hft.3. S. 333-350.
44.Tenbrtick F. H. Geschichte und Gesellschaft. Berlin, 1986.
45.Weaver W. Science and Complexity // American Scientist. 1948. Vol. 36. S. 536-544.
46.Wilden A. System and Structure: Essays in Communication and Exchange. 2nd ed. London, 1980.
Герхард Вагнер. СОЦИОЛОГИЯ: К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ ДИСЦИПЛИНЫ
I
Утверждения о кризисе социологии входят в обычный репертуар фельетонистов. Не удивительно: ведь такой диагноз неоднократно ставили сами социологи. Наиболее известна в этом отношении, наверное, книга А. Гоулднера «Приближение кризиса западной социологии» [20]. Конечно, в большинстве случаев о кризисе высказываются риторически. Тем не менее, в самой социологии все заметнее становится отсутствие иллюзий по этому поводу. Если еще в середине восьмидесятых годов можно было говорить о штиле (см.: [5]), то уже в конце того же десятилетия обнаружилась необходимость поставить проблему намного радикальнее. Превратится ли социология когда-нибудь в нормальную науку? - ставит вопрос Р. Будон [3]. Р. Коллинз размышляет над тем, можно ли вообще требовать статуса научности для этой дисциплины [6; 6а]. Из-за подобной неуверенности в себе многие социологи были «в исключительной степени подвержены резиньяции и фрустрации» [75, 128]. Понятно, что в 90-е гг. ситуация вновь обострилась. П. Бергер поставил вопрос весьма решительно: «Имеет ли еще смысл социология?» [1]. Это означало, что теперь кризис социологии не просто воспринимается как присущий ей по природе и потому целительный для нее, но что она уже как бы подошла к концу всех своих кризисов. И если в такой форме вопрос все еще мог звучать конструктивно, то Р. Сеннет (что примечательно: в газетной статье) ответил на него весьма категорично, оплакав всего-навсего «конец социологии» [66].
Не обязательно объявлять наш век «веком социологии» [4, 242], чтобы противодействовать этому апокалиптическому настроению. Куда более плодотворно выяснение причин столь удручающего состояния дисциплины, стоит поискать также адекватные средства для борьбы со злом. При этом, вне всякого сомнения, нельзя объяснять кризис монокаузально, т. е. указывая лишь на одну его причину. Поскольку в узких рамках настоящей статьи все причины учесть нельзя, нам приходится ограничиться только некоторыми. На одну из них предлагает обратить внимание Н. Луман. Как известно, во Введении к своей книге «Социальные системы. Очерк общей теории» Луман выносит следующий вердикт: Социология находится в состоянии «теоретического кризиса» (см.: [42, 7]). Правда, продолжает он, в целом, ее действительно успешные эмпирические исследования умножили наши знания, однако до сих пор в рамках социологии не удалось сформулировать «единую для всей специальности теорию» [42, 7]. Итак, одна из причин продолжающегося кризиса - отсутствие единой теории. Ведь без этого социология «не может обосновать своего собственного единства как научной дисциплины. И резиньяция заходит настолько далеко, что никто уже и не пытается ничего предпринять» [42, 7]. Объяснения Лумана вполне очевидны - достаточно бросить взгляд на современный теоретический дискурс в социологии, чтобы обнаружить его, мягко говоря, необозримость. Множество существующих точек зрения в теоретической социологии стало уже почти безграничным. Кроме того, они еще и весьма различаются по уровню абстрактности и сложности понятийного аппарата, так что уже почти не укладываются в привычные рамки. Ввиду такого теоретического разнообразия, попытка обосновать единство дисциплины представляется в данный момент бесперспективной. В глазах Лумана, эту ситуацию усугубляет еще и то, что плюралистическое понимание науки позволяет каждому «согласовывать свои понятия лишь со своими теоретическими интенциями, признавая за другими только свободу делать то же самое, но по-своему» [52, 390]. Помимо этого, в таких условиях постмодерна сюда добавляется еще инфляция истины как значимого для науки средства коммуникации, так как каждая теория, ориентированная на «anythinggoes»*, может формулировать свои собственные критерии истины [52, 181 ff., 238 ff.].
* Все сойдет (англ.).
Однако, если «построить каждому проповеднику по кафедре» [52, 390], то для социологии это будет иметь катастрофические последствия: ее «множественные парадигматазы»* [40, 50] обязательно приведут к разложению [34].
* Иронический неологизм, возможно, требующий пояснения: парадигмы множатся как метастазы опухоли.
Если принять поставленный Лумелом диагноз и согласиться с тем, что отсутствие единой теории является одной из причин кризиса социологии, то внимание далее как бы само собой обращается на его собственную позицию. Действительно, не считая концепции X. Эссера, который намеревается основать социологию в методологическом измерении как объяснительную науку [7], в настоящее время Луман является единственным социологом, который не просто критически высказывается об отсутствии единой теории, но и систематически работает над созданием таковой. Его труды по социологии, основанной на теории систем, особенно публикации последних двух десятилетий, представляют собой попытку «на которую со времени Парсонса более никто не решался» [42, 10]: посредством единой теории содействовать обоснованию единства социологии как научной дисциплины. Вот почему оправдано то внимание, которое уделяется работам Лумана на международном уровне. В Германии же, как формулирует П. Вайнгарт, социология «должна быть всецело либо «за», либо «против» Лумана» [74, 254]. Как бы там ни было, несмотря на всю его популярность, при изучении Лумана рекомендуется осторожность. Существуют серьезные основания предполагать, что его единая социологическая теория, служащая обоснованием единства социологии, мало что может дать этой дисциплине.
Согласно Луману, если следовать критериям теоретического плюрализма, то, в принципе, любая позиция может претендовать на статус единой теории, которая может обосновать единство нашей дисциплины. Чтобы противостоять разложению социологии, с необходимостью следующему из такой позиции, Луман делает ставку на разработку «супертеории», с которой могут быть связаны «притязания на универсальность» [38, 17]. Однако, вырабатывая «универсальную теорию» [42,10] Луман впадает в другую крайность. С первого захода он пытается осуществить жесткую «программу элиминирования» [38, 16], сводя все существующие позиции к одной единственной - установке своей супертеории. Правда, с течение времени Лумансам обнаруживает, что такая «стратегия тотализации» [38, 18] ведет к фатальному тоталитаризму: «Плюрализм, - пишет он, - делает болтливым. Но тоталитаризм делает немым» [52, 390]. Нацеливаясь на создание супертеории, Луман предпринимает второй заход, однако его последствия оказываются не менее фатальными. Во второй половине 80-х гг. он все более интенсивно усваивает теоремы внесоциологиче-ского происхождения, но в силу этого его позиция всего-навсего утрачивает научность. То, что в настоящее время Луман выставляет в качестве супертеории, очень близко «антисоциологии», которую в 70-е годы X. Шельски противопоставлял социологической дисциплине. Это отнюдь не служит ей добрую службу. Я же в рамках предлагаемой статьи намерен подвергнуть критике супертеоретические амбиции Лумана, а также предложить некоторые альтернативы того, как можно мыслить единство дисциплины.
II
Согласно Луману, для обоснования единства социологии необходима единая теория, имеющая характер супертеории. Только супертеория способна противостоять инфляционной тенденции «anythinggoes», предлагая приемлемую для всей дисциплины альтернативу. Представление о том, что «господствует плюрализм, в смысле множества конкурирующих несопоставимых теоретических ориентации» [38, 17f.], в конечном счете, производит столько же конкурирующих, несопоставимых обоснований единства, сколько существует теоретических ориентации. В то же время супертеория открывает возможность обоснования единства с учетом всех теорий, представленных в дискурсе. Итак, это обоснование единства не должно повлечь за собой догмати-зацию социологии. Луман подчеркивает, что при разработке супертеории речь отнюдь не идет о «консолидации всей специальности внутри одной «парадигмы» [38, 98]. Требование, чтобы социология как научная дисциплина представляла собой «когерентное целое, в котором бы в силу причин теоретического и эмпирического характера каждое исследование и каждая публикация вели к накоплению знания» [38, 17], - это требование, по мнению Лумана, ошибочно. Напротив, супертеория обещает обосновать единство таким образом, что при этом будет учитываться многообразие теоретического дискурса. Поскольку супертеория акцентирует существующие между теориями различия, она пытается «реализовать и то, и другое: единство и различие» [38, 18].
Ввиду огромности такой задачи нельзя не задать вопрос: как может быть разработана супертеория? Ее явно невозможно сконструировать exnovo* - вот почему Луман стоит за то, чтобы вычленить такую теорию из состава одной из тех нормальных теорий, которые представлены в дискурсе.
* Заново (лат.).
Хотя, в принципе, Луман готов признать что каждая нормальная теория имеет шанс выступить в качестве супертеории, сам он без колебаний решает дело в пользу своей системно-теоретической социологии. Последняя кажется ему наиболее пригодной для реализации в равной мере единства и различия: «Это может получиться, если в рамках собственной теории удастся найти подобающее место для противника» [38,18]. Согласно Луману, такая конструкция осуществляется благодаря «стратегиям тотализации»; по этой причине он рассматривает свою системно-теоретическую социологию и как «тотализирующую теорию» [38, 18]. Стратегии тотализации могут быть историзирующими либо же проблемно ориентированными. Историзирующая тота-лизация предполагает, что противник «принадлежит к более ранней эпохе в социокультурном развитии, и, таким образом, уже устарел». Проблемно ориентированное тотали-зирование переформулирует «осознание проблемы противником, заново проблематизирует его теорию и подсовывает ему при этом в качестве основной ту проблему, которую, как затем оказывается, лучше может решить собственная теория тотализирующего критика» [38, 19 Г.].
То, что «в аспекте конкурирующих предложений [на рынке] теорий» [38, 17] принимаемые в расчет историзиру-ющие и проблемно ориентированные тотализации не обязательно исключают друг друга [38, 21], Луман вновь и вновь ясно показывает на примере трудов Ю. Хабермаса. Теория Хабермаса, утверждает Луман, столь сильно зависит от староевропейского проекта модерна, что в ней выяснение проблемы коммуникации перекрывается вопросами об основаниях разумного согласия, вместо того чтобы вести к столь же современной, сколь и убедительной теории аутопойесиса [41]. Обращение Лумана к анализу теории коммуникативного действия иллюстрирует понимание им стратегий тота-лизации. Но его аргументы столь же недвусмысленно демонстрируют, что стратегии именно такого рода неспособны отвести другим теориям подобающее место в рамках тотализирующей теории, делая возможной реализацию и единства, и различия обеих позиций. Как формулирует сам Луман, его тотализирующая теория скорее ориантиро-вана на «включение в свой состав [концепции] противника, чтобы вместе с ним принимать решение против него»* [38, 23]. С этой точки зрения (на что, впрочем, указывает уже само использование понятия «противник») представляется вполне последовательным понимание Луманом отношения между его собственной тотализирующей теорией и теорией, которую он включает в свою, как «противоречия» [38,18]. Однако, поскольку Луман все-таки рассматривает включаемую теорию как «отрицание» [38,18] своей тотализирующей теории, которая, в свою очередь, посредством отрицания этой оппонирующей теории должна преобразоваться в супертеорию, он тем самым выступает за такое понимание единства, которое венчается полной элиминацией различия.
* Почти непереводимая игра слов: «Einbeziehung des Gegners, urn sich an «hm gegen ihn zu entscheiden».
Правда, сам Луман утверждает, что он не следует «принципу диалектического отрицания» [38, 23], а предпочитает (ссылаясь на Витгенштейна) говорить о пустых отрицаниях, а также вводит понятие «ограниченности» [Limitationalitat] [38, 14 ff.]. Но, как показывает один из исследователей, рассуждения Лумана на этот счет «достаточно темны» [73, 270]. Можно говорить, что в них имеется какой-то вполне понятный смысл, только если интерпретировать их на фоне гегелевской философии. Как бы ни пытался Луман отмежеваться в этом контексте от Гегеля, влияние последнего неоспоримо (см.: [73, 268]). А если принять это во внимание, то станет ясно, что Луман, включая другую теорию в рамки своей тотализирующей теории, способствует производству той связи, которую Гегель называл «рефлексией в себе» [32, 60 ]. В другом месте я показал, что эта внутренняя рефлексия, в отличие от внешней, или субъективной, указывает на объективный, совершающийся независимо от субъекта процесс (см.: [71, 281 f.]). «Уже сам термин «внутренняя рефлексия» указывает на имманентность движения, поскольку «рефлексия» предполагает отгибание, отклонение назад, отражение, а «в себе» означает тот факт, что отражение направлено на самое себя и, таким образом, пребывает внутри объекта» [19, 137]. Фактически эта взаимосвязь позволяет определить одну из двух «противоположных величин [как] ...лежащее в основании сущее в себе единство* [32, 60 ]. Между тем, издержки для обоснования единства дисциплины, которые возникают из этой гегелевской «рефлексии» [38, 10] весьма велики. Поскольку тота-лизирующая теория включает в свой состав другую теорию, чтобы вместе с нею принимать решение против нее, она, конечно, способна «рефлектировать» лежащее в основании обеих теорий единство [38, 10]. Но эта рефлексия исчерпывается тем, что «формулирует тождество в нетождественности собственной и противной позиций» [38, 20].
Такого рода элиминация различия несет на себе тоталитарные черты, что идет отнюдь не на пользу включаемой теории. Это явствует из того, что тотализирующая теория берется как гарант тождества. Луман понимает отношение обеих теорий строго асимметрично. Включаемая теория в ее инаковости сперва вообще не принимается во внимание. По существу, ей вообще не дают слова. Реконструируя другую теорию «при помощи собственных понятий» [38, 18], тотализирующая теория полагает ее с самого начала как иное самой себя. Легко увидеть, что такого рода реконструкция имплицирует «деструкцию уже имеющегося понимания понятий» [21, 253]. Тем самым поощряется постоянное включение противоположных теорий в одну - тотализирующую, а этот процесс находит свое завершение в той догматизации дисциплины, которой Луман изначально хотел избежать. Системно-теоретическая социология была однажды выведена на этот курс и теперь, ориентируясь в своем понимании единства на логику тождества Гегеля, она жаждет консолидировать в рамках своей парадигмы всю социологию. От Лумана, конечно, не укрылось, что тем самым дьявол плюрализма теорий изгоняется Вельзевулом империализма теории. Луману ясны и последствия его тотализаций: «Нельзя оспорить, таким образом, что и империализм теории и, в особенности, притязания «тотализирующих» теорий на исключительную значимость представляют собой опасность - в противоположность инфляции, опасность дефляции истины как средства коммуникации» [52, 390]. И Луман вполне последователен, когда меняет стратегию, чтобы сделать новый заход и превратить свою системно-теоретическую социологию в супертеорию, которая реализовала бы в равной мере и единство, и различие.
Если присмотреться к публикациям Н. Лумана конца 80-х - 90-х годов, то окажется, что это изменение отнюдь не радикально. Ибо Луман и теперь, как и прежде, остается многим обязан философии Гегеля. Если, предпринимая свой первый заход, он воспользовался гегелевским понятием внутренней рефлексии, то теперь он опирается на его понятие внешней рефлексии. Отграничивая свою системно-теоретическую социологию от других социологических теорий, он пытается не только предотвратить уничтожающую различия тотализацию, но и обрести такую позицию, с которой единство дисциплины могло бы быть обосновано как бы извне. Чтобы с самого начала не дать упрекнуть себя в «староевропеизме», Луман и здесь избегает прямых ссылок на Гегеля. Вместо этого он указывает на работы философа Г. Гюнтера, который долгие годы был сотрудником руководимой X. фон Ферстером Biological Computer Laboratory*, т. е. (можно считать) находился на переднем крае науки. Лума-ну, конечно, известно, что в публикациях Гюнтера (его «главного свидетеля»), выступающего как кибернетик, речь все-таки идет о переформулировании философии Гегеля [44, 37]. В одном автобиографическом тексте сам Гюнтер как раз и подчеркивает, что для него после более чем сорокалетних занятий философией Гегеля «стало почти невозможно разделить, что в его теории принадлежит Гегелю, а что - ему самому» [27, 10]. Как бы там ни было, но то, что Луман перенимает у Гегеля понятие внешней рефлексии в том виде, какой придал ему Гюнтер, имеет катастрофические последствия для замысла супертеории.
* Биологической компьютерной лаборатории.
Концепция Гюнтера - это обширный проект, попытка ответить на «вопрос о сущности субъективности» [25, 17]. В такой постановке вопроса Гюнтер усматривает проблематику, над которой уже две тысячи лет безуспешно бьется западное мышление. Классическая логика показывает, что в онтологической картине мира, сформированной преимущественно Аристотелем, у субъекта нет достойной упоминания функции. «Философская предпосылка классической логики заключается в том, что онтологические основы мира могут быть изображены как чисто объективные структуры. Сам субъект есть нечто потустороннее, пребывающее вне всякого логического анализа» [25, 68]. В этой ситуации, продолжающейся со времен античности, ничего не смогло изменить даже современное мышление «в его развитии от Декарта до Лейбница и Канта» [25, 17]. Правда, вопрос о сущности субъективности ставился со всей решительностью, однако ответ на него оказывался совершенно неплодотворным, поскольку субъект обосновывался «трансценден-тально-метафизически», что послужило еще более отчетливому его пониманию как «потустороннего». Крах попыток трансцендентальной философии найти для субъекта в классической логике «могущее быть обозначенным место», продолжает Гюнтер, с полной очевидностью показывает несовместимость представления об «экстрамунданной интросценденции»* с онтологической картиной мира [25, 18 f.].
* Это можно интерпретировать примерно, как «вхождение-в-себя вне мира».
Имея в виду обрисованную ситуацию, Гюнтер выступает за ревизию онтологической картины мира. Чтобы постигнуть сущность субъективности, говорит он, требуется освободиться от оков классической логики вообще. Речь идет о том, чтобы выработать так называемую трансклассическую логику, которая должна иметь неаристотелевский характер, поскольку будет не двузначной, но как минимум трехзначной [23]. Для Гюнтера несомненно, «что весь мир, пока в нем абстрагируются от всякой субъективности и воспринимают его как чисто объективную связь, является строго двузначным. Для всех целей описания объекта, совершенно оторванного от субъекта, вполне достаточно двузначной логики» [25, 85 f.]. Но если хотят принимать в расчет субъективность, тогда, по его мнению, требуется расширение классической логики минимум на одно значение. Первые попытки «перехода от классической к неклансклассической логике» можно, считает Гюнтер, обнаружить в диалектике Гегеля [24, 92].
Для нас здесь не так важно то, что философы и логики испытывают большие сомнения в связи с такой интерпретацией Гегеля Гюнтером (см.: [65; 36]). Во всяком случае, рассуждения Гюнтера приемлемы постольку, поскольку гегелевское понятие внутренней рефлексии можно приписать онтологической картине мира, а за гегелевским понятием внешней рефлексии можно предположить такую форму субъективности, которая не обязательно должна быть сразу же интерпретирована как нечто «потустороннее». В отличие от трансцендентальной философии Гюнтер действительно заинтересован в том, чтобы понять субъективность как факт «эмпирического мира» [25, 69].
Гюнтер убежден, что субъективность может проявляться только как «поведение» [26, 102]. И если, желая подробнее охарактеризовать это поведение, Гюнтер ссылается на слова «Царство Мое не от мира сего» (Ин, 18, 36), то заинтересован он отнюдь не в христианском благовествовании, но в том отвержении [мира], которое в них выражается [26, 102]. Ибо Гюнтер вообще не может «понимать под субъективностью ничего иного кроме функции, в которой тотальная двузначность объективного вокруг нас, а тем самым и весь мир отвегаются как бытие мира» [25, 86]. Вследствие этого в трансклассической логике отвержение тоже должно «выступать как функтор, который описывает поведение субъективности и которому еще нет места в классической логике» [26, 102]. Тогда как в классической логике даже там, «где вообще возможен выбор», должно быть «принято одно значение из предлагаемых вариантов», трансклассическая логика отличается возможностью «отвергать некоторую альтернативу значений в целом» [26, 102]. Такое «отвержение или отклонение» [26, 103] требует, правда, введения третьего значения, «не включенного в данную двузначную систему» [25, 85]. В отличие от классической логики, которая располагает лишь двумя «значениями приятия», трансклассическая нуждается в дополнительном значении отклонения: «значение отклонения - это индекс субъективности в трансклассическом исчислении» [26, 102 f].
Гюнтер считает, что отвержение - это и есть сущность субъективности, причем он, конечно, оговаривает, что эта Дефиниция в высшей степени скудна [25, 86]. Тем не менее, она все-таки способна дать основу для внешней рефлексии.
В одной из новейших публикаций, посвященных философии и логике Гюнтера, отмечается, что гюнтеровский принцип «отрыва» от альтернативы значений вполне достаточен для того, чтобы рассматривать «два противоположных значения как единство» [35, 51]. Кроме того, следует предположить, что именно эта скудость дефиниции позволяет философии Гюнтера подсоединиться к современным кибернетическим дискуссиям. Ведь Гюнтер не ограничивает субъективность антропоморфными представлениями: «Если формулировать это не вместе с Гегелем, но кибернетически, тогда следует сказать, что в нашем эмпирическом универсуме в определенных местах формируются структурные образования совершенно исключительной сложности, способные создавать для себя отображение своего окружения и рефлективровать это окружение весьма специфическим образом» [25, 69]. Это позволяет понять притягательность философии Гюнтера для лумановского проекта супертеории. Хотя Луман относится к работам Гюнтера не без скепсиса [44, 38], однако он все-таки ориентируется на трансклассическую логику последнего, чтобы открыть позицию внешней рефлексии для своей супертеории.
IV
О постоянном интересе Лумана к гюнтеровскому понятию отклонения неопровержимо свидетельствуют его работы последних лет (см.: [45, 86 ff.; 52, 94, 301 f, 579, 663, 666]). Луман применяет это понятие не только в предметном измерении своей системно-теоретической социологии, но и в ее социальном измерении, т. е. в отношении к другим теориям. В этом последнем измерении Луман тоже «вместе с Г. Гюнтером» исходит из «различения позитивного и негативного значения», дабы подвергнуть эту «форму» «отклонению» [51, 17]. Так он последовательно редуцирует все многообразие теоретического дискурса в социологии к двум противоположным традициям. Чтобы придать форму дисциплине, он проводит различие между «позитивной социологией» и «критической социологией» [53, 257]. Первая задается вопросом: «Что происходит?», а вторая - вопросом: "Что за этим кроется?" [53, 257]. На примере «выдающихся теорий» К. Маркса и Э. Дюркгейма, по мнению Лумана, можно показать, что с самого начала упрочения позиции социологии в университетах она «подходила к своему предмету с двумя установками: позитивистской и критической» [53, 245]. Однако именно из-за того, что в социологии «делается попытка давать ответ на два совершенно различных вопроса», не прекращаются, считает Лу-ман, и проблемы, связанные «с сохранением единства специальности. Иногда, например, в 60-е гг., из этого различия вытекают такие споры, которые грозят вообще взорвать всю дисциплину» [53, 245].
Проблему нельзя разрешить и ситуацию нельзя исправить ни «конструктивистской деконструкцией позитивистской методики», ни «критикой критической социологии» [53, 257] - это для Лумана дело решенное. Когда нет строгости в понятиях, теории, принадлежащие к обеим традициям (и без того слабо разработанные), вряд ли могут считаться перспективными кандидатами на обоснование единства дисциплины [46, 298]. О том, что «принятие» предлагаемой обеими социологиями теоретической альтернативы даже не рассматривается Луманом [48,17], свидетельствует его обильная, демонстративная риторика «насмешливого превосходства» [2, 237]. Так как возможности «классической социологии», по его мнению, исчерпаны, Луман последовательно делает ставку на ее отвержение [49, 277]. Вместо того чтобы ввязываться в «совершенно бессмысленные споры», заполонившие дисциплину, Луман предпочитает противопоставить обеим социологиям третью [46, 292]. Таким образом, социология, основанная на теории систем, противопоставляется позитивной и критической социологии. Ее функция, а следовательно, и логическое значение состоит в отклонении. Для преобразования своей концепции в супертеорию Луман берется «показать те открытия и новые понятия», которые возникли в «обширнейшей сфере теории систем» и «перенести их на область социологии» [46, 292]. При этом более всего он интересуется так называемой кибернетикой второго порядка, потому что она кажется ему принципиально совместимой с понятием отклонения: «Лишь благодаря наблюдению наблюдения «субъект» дистанцируется от мира и обретает способность рефлексии» [50, 150]. Как бы там ни было, но именно при помощи этих внесоциологических теорем Луман надеется открыть Дисциплине одну из тех «горячих клеток рефлексии, которые, правда, не суть целое, однако рефлектируют целое как различие» [53, 251].
Результат этих усилий Лумана, несомненно, впечатляет своей сложностью. Однако велика и цена, которую ему приходится платить за свою попытку обосновать единство дисциплины как отклонение господствующи теоретической альтернативы. Ни для кого не секрет, что сама по себе рецепция понятий теории систем возбуждает много проблем. Результаты исследований Biological Computer Laboratory небезосновательно «весьма сдержанно ...воспринимаются серьезными естественниками» [7, 534]. Трудности, которые влечет за собой, например, перенос [на социальные явления] понятия аутопойесиса, конечно, еще не так велики по сравнению с теми, которые вытекают из ориентации Лумана на трансклассическую логику Гюнтера. Правда, супертеория Лумана, благодаря отклонению позитивной и критической социологии, оказывается в состоянии занять "позицию, противоположную anything goes" и позволяющую обосновать единство дисциплины [53, 258]. Однако и это новое обоснование влечет за собой тоталитаризм. Как подчеркивается в уже упомянутом выше исследовании, именно отвержение должно пониматься «как новая форма отрицания» [35, 52] (ср. также: [18, 727]). Опираясь на трансклассическую логику Гюнтера, Луман в известной мере усиливает ориентированное на отрицание мышление Гегеля. Если угодно, гегелевский антитезис первого порядка заменяется антитезисом второго порядка, благодаря чему, правда, меняется форма противоположности, посредством которой системно-теоретическая социология Лумана противопоставляет себя другим теориям, однако фундаментальный логический тоталитаризм остается неизменным.
Это не значит, конечно, что нет разницы между тоталитаризмом первой и второй фаз. Тогда как первый только приводит к дефляции истины как средства коммуникации, второй понуждает к коммуникации такого рода, которая вообще избегает истины как средства. Фактически в конце 80-х - начале 90-х гг. [использование] фигуры отклонения лишает супертеорию Лумана научности. Какие бы формулировки для обоснования единства дисциплины ни предлагались в качестве третьей социологии, супертеория не может сопрягать с ними претензию на истинность. Ибо «истинность в конечном счете имплицирует двузначность» [24, 93]. Если в классической логике исходят из того, «что дело идет лишь о высказываниях, которые либо истинны, либо ложны» [36, 125], то в область трансклассической логики удается проникнуть лишь «абстрагируясь от значений «истинное» и «ложное»» [35, 57]. Для социального измерения социологических теорий (именно Луман оформил его как таковое) это означает, что лишь теории позитивной и критической социологии могут быть поняты как носители значений «истинное» и «ложное». Когда речь идет о двух социологиях, то имеются в виду противоположные позиции, а потому высказывания одной из них всегда должны быть истинны, если высказывания другой ложны. Конечно, третья социология, которая отграничивает себя от этих двух, могла бы во всяком случае занять позицию безразличия. Однако Луман вообще отвергает предлагаемую двумя социологиями альтернативу значений «истинное/ ложное». Не принимая их высказываний, он готов принять «разрыв с традицией - имея при этом в виду ограничения, налагаемые (двузначной) логикой истинности» [53, 257]. Тем не менее, основанная на теории систем социология Лумана также и впредь претендует на истинность. Социология, говорит Луман, лишь «как наука» имеет «фундамент для работы». «Трагическая ситуация Хельмута Шельски» показывает, что «в качестве антисоциолога он не сумел найти подходящей формы для своих публикаций» [53, 252]; вот почему Шельски «сознательно» занялся «политической полемикой, выходя за пределы ограничений, характерных именно для науки» [43, 2]. Эта оценка, безусловно, верна. Но столь же верно и то, что Шельски инсценировал свою антисоциологию как отвержение. Шельски - в течение долгих лет близкий друг и покровитель Гюнтера - (см. хотя бы: [28; 29; 60; 61, 73 ff; 44, 90, 101, 274 f, 292 f, 429 f, 446 f, 468 ff; 35, 8 ff; 50, 151]) в своей книге «Локализация немецкой социологии» противопоставлял эмпирическую науку о функциях социально-философской истолковывающей науке. Он рассчитывал при этом обрести такую позицию, с которой «можно будет критически дистанцироваться от «всей социологии»» [64, 87]. Правда, эту позицию, которую он называл «рефлектирующей субъективностью» [61, 105], Шельски намеревался специфицировать при помощи научных средств. Однако, не считая принципиально важных исследований по социологии права, так называемая «трансцендентальная теория общества» так и осталась у Шельски на уровне программных положений (см.: [72, 8 ff]). В результате, как заметил Дарендорф, вместо заявленной теории получилось «полемическое развитие [идеи о] своем собственном месте внутри немецкой социологии как о третьей возможности понимать социологию» [8, 129]. Это развитие завершилось в 70-е гг. бранью по адресу интеллектуалов, которая была представлена как «антисоциология» - не умея определить своих собственных научных основ, «антисоциология» именно поэтому аттестовала социологию как ненаучную [63, 255].
V
Шельски, однако, отнюдь не воспринимал свою ситуацию как трагическую - об этом ясно свидетельствует его оценка последней фазы своего творчества, которую он вполне последовательно квалифицировал как политическую беллетристику [64, 100]. Трагичен как раз случай Лумана. Резко различая позитивную социологию и критическую, он не просто имитирует сделанное Шельски противопоставление Кельнской школы Р. Кёнига, ориентированной на Дюркгейма, и Франкфуртской школы Т. В. Адорно, ориентированной на К. Маркса (см.: [59, 26 ff]). Мало того. Отвергая обе позиции, Луман также повторяет исход Шельски из «научного дискурса» [43, 2]. Фактически он время от времени использует форму публикаций, напоминающую о XVIII в., когда была разработана парадоксальная техника: «формулировать предложение так, чтобы не дать ему исполнить свою цель - означать что-либо для других предложений» [39, 145]. Правда, Луман все-таки не хочет, как в свое время Шельски, «выйти из игры» - в область политики [51, 173]. Он претендует на научность своей автопоэзии. Но, конечно, с вопросом об «истинности» или «ложности» это больше никак не связано. Может быть, на этом фоне станут объяснимыми те трудности в понимании, с которыми сталкиваются в научной среде лумановские публикации последних лет. Не случайно, во всяком случае, уже обнаружилась возможность рассматривать теорию Лумана с эстетической точки зрения [67; 33]. Как бы там ни было, но и к моменту завершения системно-теоретической социологии перед нашей дисциплиной по-прежнему остро стоит вопрос: как должна выглядеть единая теория, с помощью которой, не впадая в произвольность anything goes, можно было бы нетоталитарным образом обосновать ее единство.
Я полагаю, что ответ на этот вопрос возможно отыскать только на пути преодоления Гегеля. Если Луман сначала обращается к Гегелю, а затем еще пытается перекрыть его Гюнтером, то я предлагаю вообще покинуть сферу антитетического мышления. В философии известно несколько попыток критики Гегеля конструктивным (с точки зрения наших целей) способом. Совсем не обязательно при этом обращаться к текстам постмодернистов, скажем, Жака Дер-рида. Я предлагаю то, что лежит совсем рядом. Давайте бросим взгляд на работы неокантианца Г. Риккерта. Конечно, Риккерт достаточно известен социологам как философский поручитель М. Вебера. Но у нас речь не пойдет о его философии ценностей - потому хотя бы, что она постоянно подпитывает теологическое мышление (см.: [69, 108 ff, 122 ff; 70, 200 ff]). Куда более интересны те работы Риккерта, в которых он, в противоположность Гегелю, развивает так называемый гетеротетический принцип: «Гегель брал преднаходимую в самом мышлении двойственность как антитетику; антитезис при этом находится в явной противоположности к тезису, то есть является отрицанием последнего. Место гегелевской антитетики у Риккерта занимает гетеротетический принцип мышления, когда, полагая единое, одновременно полагают и иное. Отношение между двумя этими моментами не есть отношение взаимного исключения, но отношение дополняющей сопряженности в целом синтеза» [16, 13].
Фактически для Риккерта дело состоит в том, чтобы указать на приоритет инаковости перед отрицанием. Он утверждает: «Инаковостъ логически предшествует отрицанию* [57, 20]. Правда, он соглашается с Гегелем в том, что в основе всякого мышления лежит двойственность единого и иного. Однако, в противоположность Гегелю, он подчеркивает, что иное отнюдь не может пониматься просто как отрицание единого. Было бы заблуждением считать, «будто достаточно простого отрицания «не» или подлинно уничтожающего «нет», чтобы иное возникло или было выведено из единого. Такой чудодейственной силы у отрицания как простого «нет» (или уничтожения) никогда не было... Если мы будем мыслить иное единого как не-единое и, тем не менее, некоторым образом позитивно как некое иное, то мы будем постоянно добавлять к отрицанию, которое снимает единое, еще нечто, что происходит не из отрицания. Отрицание делает из нечто только не-нечто или ничто. Оно заставляет предмет вообще, так сказать, исчезнуть» [57, 20]. По Риккерту, «отрицание в качестве только отрицания еще не означает ничего, что хотя бы на малейший шаг продвигало бы нас дальше в том, как мы мыслим мир. Только если мы окажемся в состоянии поставить на место подвергнутого отрицанию позитивное иное, мы продвинемся вперед» [58, 46]. А поскольку, как Риккерт показывает на примере формы и содержания мышления, «уже с первого же своего шага» мышление должно удерживать в наличии « «сразу же» и единое, и иное» [57, 22], то нельзя обойтись без замены гегелевского противопоставления тезиса и антитезиса различением тезиса и гетеротезиса.
Риккерт при этом подчеркивает, что его гетерологию не следует понимать в духе субъективного конструктивизма: «Логически мы мыслим только тогда, когда обнаруживаем нечто такое, что имеется как предмет независимо от нашего мышления. Постепенное развитие нашей идеи предмета не означает развития предмета, но имеет только смысл постепенного уяснения в понятиях того предметного, что уже существовало до начала» (см.: [57, 10], ср.: [16, 14 f]. Придав риккертовской критике Гегеля объективистский оборот, можно будет сформулировать это так: «...иное в точности настолько же «позитивно», насколько «позитивно» и единое; избегая, если угодно, этого выражения, скажем: иное первичным, или изначальным образом находится подле единого» [57, 20]. Итак, поскольку «отрицание... не играет действительно существенной роли», отношение, существующее между единым и иным, не следует, в отличие от Гегеля, понимать как противоположность; по мнению Риккерта, единое и иное не исключают одно другое, но «позитивно дополняют друг друга» [57, 22]. Риккерт даже говорит о «своеобразной взаимозависимости» единого и иного: «Говоря объективно, первое существует как единое только в отношении или в связи со вторым. Говоря субъективно, вместе с единым всегда «полагается» и иное. Мы не можем мыслить безотносительно. Даже чисто логический предмет можно постигнуть в его целостности лишь как соотнесение соотнесенного, как единое и иное, как форму и содержание» [57, 18].
Если рассуждать указанным образом, то и единство, обнимающее собой единое и иное, уже не должно пониматься в смысле гегелевской логики тождества. Рикерт показывает, что единство не обязательно рассматривать как «тождество, как отсутствие различия или простоту», но можно трактовать как «единство многообразия» [57, 24]. Единство многообразия представляет собой «объемлющую связь единого и иного»; она - «как единство синтеза единого... и иного никогда не может означать единства в смысле отсутствия различия, но требует различия или инаковости - подобно тому, как «единство» тождества отторгает различие или инаковость. Необходимо постоянно задаваться вопросом, что имеется в виду, когда говорят о «единстве»: тождественное «единство» как отсутствие различия или как синтетическое «единство» того, что отлично друг от друга и соотносится между собой» [57, 24]. Действительно, предлагаемая Риккертом трактовка единства многообразного уже не фиксирует наше внимание на (говоря словами Лумана) «общем в различном» [53, 254]. Скорее это понятие освобождает зрение, позволяя увидеть различное, причем Риккерт заинтересован не различиями как таковыми, но удостаивает их вниманием лишь постольку, поскольку они взаимно дополняют друг друга, образуя синтез. В противоположность антитетическому «либо - либо» Гегеля, и тем более - в противоположность вдвойне антитетическому «ни - ни» Гюнтера, у Риккерта в его гетеротетическом принципе дополняющей связанности находит выражение «как - так и», что открывает возможности и для обоснования единства социологии как дисциплины. Что дозволено было Веберу, использовавшему философию Риккерта, то должно быть разрешено и нам, сегодняшним.
VI
С полным на то основанием Луману ставили в упрек, что «отрицание не может рассматриваться как наукотворче-ская операция». Как замечает О. Вайнбергер, «одно только отрицание (критика) не позволяет прийти к новым теориям, это возможно только при конструировании новых способов понимания, которые не определяются, однако, одним только отрицанием» [73, 269]. Я бы, со своей стороны, тоже хотел избежать возможного упрека в том, что не предлагаю ничего, кроме критики. Поэтому ниже я намерен показать, как гетерологию Риккерта можно подсоединить к нынешнему состоянию дискурса в социологии. Насколько мне известно, в наше время позиция Риккерта рассматривается как повод для конструктивных рассуждений только в философии, например, в работах В. Флаха [16; 17] и К. Глой [19]. Однако и в других, нефилософских контекстах можно встретиться с его аргументами. Например, в структурной семантике А. Ж. Греймаса отрицание совершенно сознательно дополняется второй операцией; соответственно, из понимания того, что неопределенность простого отрицания должна быть переведена в определенность контрарно противоположного исходному элемента, - из этого здесь делаются очень серьезные выводы (см.: [22, 14 ff; 68, 115]). Рассуждения, аналогичные идеям Риккерта, можно найти также и в постструктурализме Деррида, например, в связи с его понятием supplement»а, которое означает не только «замену», но и «восполнение» (см.: [10, 244 ff; 55, 32]. На мой взгляд, безусловно стоило бы изучить такого рода исследования по логике различия с учетом риккертововского понятия единства многообразия.
Но вернемся к социологии. Прежде всего, здесь это понятие проясняет предметное измерение в образовании социологических теорий. Гетеротетический принцип может способствовать анализу той до сих пор еще недостаточно выясненной связи, которую Дюркгейм, развивая теорию Г. Спенсера, обозначил как органическую солидарность. Как известно, Дюркгейм настаивал на том, что разделение труда прежде всего становится возможным благодаря гетерогенности. При этом, как показал Дюркгейм, проиллюстрировав это примерами дружбы и семьи, под гетерогенностью не следует понимать противоположность: «Лишь различия определенного рода чувствуют... взаимное притяжение, а именно, различия, которые дополняют друг друга, а не противоречат одно другому и не исключают друг друга» [11, 102]. Именно «объединяющее несходство натур» может основать социальную связь, называемую солидарностью: «Как раз потому, что мужчина и женщина отличаются друг от друга, они страстно ищут друг друга. Вместе с тем ...не чистая и не простая противоположность вызывает взаимное тяготение, но только различия, которые взаимно предполагаются и дополняются, могут иметь такое свойство» [11, 103]. Луман сам подчеркивал, что для Дюркгейма дело состояло не в отношении отрицания, но в инаковости иного» [47, 22]. Однако Луман не заполнил это «пустое место» в исследованиях [37, 111] и не сделал отсюда выводов при построении своей собственной теории. Но и здесь есть работы, которые можно было бы использовать в дальнейшем [56; 70, 346 ff].
Что касается социального измерения социологических теорий, то на основе риккертовского единства многообразия можно было бы по-другому выстроить необходимую для обоснования единства дисциплины теорию, чем так, как предлагает Луман. На самом деле, уже существует социологический pendant* к риккертовской гетерологии. Т. Фарра-ро выступает представителем «spirit of unification»**, который обнаруживается в рекурсивных процессах синтеза и основу которого составляет не что иное, как тот самый принцип дополняющей связности, выражающейся, согласно Риккерту, в синтетическом единстве единого и иного.
* Соответствие (фр.).
** Дух унификации (англ.).
«Под унификацией, - говорит Фарраро, - я понимаю не конструкцию отдельной теории отдельным лицом или даже отдельной исследовательской группой, так что под эту теорию подводится все остальное. Скорее, я имею в виду процесс, совершающийся через интегративные эпизоды. Результат любого такого эпизода может войти в другой эпизод позже. Таким образом, этот процесс рекурсивен и конституирует то, что мы можем назвать динамикой унификации» [12, 175]. Фарраро проясняет этот процесс, рассматривая вместе различные теоретические установки [15; 13; 14]. Он отчетливо формулирует, что для него при этом важно не только конструирование эффективных теорий, но и обоснование единства дисциплины: «...дух унификации... может перекинуть мосты между различными теоретическими предприятиями, помогая сломать барьеры обособления внутри социологической теории» [12, 175]. Возможно, тем самым найдена позиция, противоположная плюралистической вседозволенности теорий, к тому же не предполагающая тоталитаризма и не избегающая истины как средства Коммуникации науки.
Чтобы предотвратить недоразумения, подчеркнем: для Фарраро дело отнюдь не в том, чтобы предпринять новое издание «теорий среднего уровня» - концепции предложенной Р. Мертоном в полемике с Т. Парсонсом. Вопросы абстракции и агрегации не играют у Фарраро заметной роли. И если бы для его единой теории, ориентированной на spirit of unification, пожелали найти название, то можно было бы предложить такое - дифференциальная социология. Само это понятие сформулировал Ж. Гурвич [31], для которого также было важно «снять оппозицию определенных односторонних тезисов и соединить их между собой» [30, 113]. Свой труд Гурвич рассматривает как процедуру «резюмирования предшествующей социологии. Следует находить как можно более гибкий понятийный аппарат, чтобы описать и объяснить конкретную социальную действительность. При этом речь не должна идти о системе; напротив, социология всегда может быть только незавершенным воссозданием социальной жизненной связи в действии, в движении, таким воссозданием, которое должно быть предпринято заново всякий раз - в любых [новых] рамках, в любой ситуации, в связи с каждой [новой] конъюнктурой, каждым поворотным пунктом. Понятийный аппарат должен постоянно создаваться заново и может служить лишь точкой опоры, прагматическая значимость которой обнаруживается при последующих вновь и вновь предпринимаемых попытках» [30, 112]. Может ли этот прагматизм содействовать преодолению кризиса дисциплины - это вопрос эмпирический, т. е. открытый. Но, во всяком случае, от попыток такого рода можно было бы ожидать применительно к каждому конкретному случаю обоснования значимого от случая к случаю «более-или-менее-единства» [9, 2].
ЛИТЕРАТУРА
1.Berger P. L. Does Sociology Still Make Sense? // Schweizer Zeitschrift fur Soziologie. 1994. Bd. 20. S. 3-12.
2.Beyme K. V. Theorie der Politik im XX. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoderne. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991.
3.Boudon R. Will Sociology Ever Be a Normal Science? // Theory and Societe. 1988. Vol. 17. P. 747-771.
4.Bvde H. 1968 und die Soziologie // Soziale Welt. 1994. Bd. 45. P. 242- 253.
5.Collins R. Is 1980s Sociology in the Doldrums? // American Journal of Sociology. 1986. Vol. 91. P. 1336-1355.
6.Collins R. Sociology: Prescience or Antiscience? // American Sociological Review. 1989. Vol. 54. P. 124-139.
6a. Коллинз Р. Социология: Наука или антинаука? // Наст, издание. С. 37-68.
7.Esser И. Soziologie. Allgemeine Grundlagen. Frankfurt a. M.: Capus, 1993.
8.Dahrendorf R. Die drei Soziologien. Zu Helmut Schleskys «Ortsbe-stimmung der deutshen Soziologie» // Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 196,0. Bd. 12. S. 120-133.
9.Dahrendorf R. Einfiihrung in die Soziologie // Soziale Welt. 1989. Bd. 40. S. 2-10.
10.Derrida J. Grammatologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.
11.Durkheim E. Uber Soziale Arbeitsteilung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988.
12.Fararo T. J. The Spirit of Unification in Sociological Theory // Sociological Theory. 1989. Vol. 7. P. 175-190.
13.Fararo T. J. The Meaning of General Theoretical Sociology. Tradition and Formalization. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
14.Fararo T. J. General Sociological Equilibrum: Toward Theoretical Synthesis // Sociological Theory. 1993. Vol. 11. P. 291-313.
15.Fararo T. J., Skvoretz J. Unification Research Programs: Integrating Two Structural Theories // American Journal of Sociology. 1987. Vol. 92. P. 1183-1209.
16.Flach W. Kroner und der Weg bis Hegel. Die systematischen Voraus-setzungen der Kronerschen Kantkritik // Zeitschrift fur philosophische For-schung. 1958. Bd. 12. S. 554-579.
17.Flach W. Negation und Andersheit. Ein Beitrag zur Problematik der Letztimplikation. Miinchen: Reinhardt, 1959.
18.Frank U. Rezension von G. Gunther, Idee und GrundriC einer nicht-Aristotelischen Logik // Zeitschrift fur philosophische Forschung. 1963. Bd. 17. S. 725-727.
19.Gloy K. Einheit und Mannigfaltigkeit. Eine Strukturanalyse des «und». Systematische Untersuchungen zum Einheits- und Mannigfaltigkeitsbegriff bei Platon, Fichte, Hegel sowie in der Moderne. Berlin: De Gruyter, 1981.
20.Gouldner A. W. The Coming Cisis of Western Sociology. New York: Basic Books, 1970.
21.Grathoff R. Uber die Einheit der Systeme in der Vielfalt der Lebens-welt. Eine Antwort auf Niklas Luhmann // Archiv fur Rechts- und Sozialphilo-sophie. 1987. Bd. 73. S. 251-263.
22.Greimas A. J. Strukturale Semantik. Braunschweig: Vieweg, 1971.
23.Gunther G. Idee und GrundriB einer nicht-Aristotelischen Logik. Bd. 1: Die Idee und ihre philosophischen Voraussetzungen. Hamburg: Meiner, 1959.
24.Gunther G. Das Problem einer Formalisierung der transzendental-dialektischen Logik. Unter besonderer Berucksichtigung der Logik Hegels // Hegel-Studien. 1962. Beiheft 1. S. 85-123.
25.Gunther G. Logik, Zeit, Emanation und Evolution. Opladen: Wets-deutscher Verlag, 1967.
26.Gunther G. Das Janusgesicht der Dialektik // Hegel-Jahrbuch. 1974. S. 89-117.
27.Gunther G. Selbstdarstellung im Spiegel Amerikas // Philosophic in Selbstdarstellungen / Hrsgg. v. L. J. Pongratz. Bd. 2. Hamburg: Meiner, 1975.
28.Gunther G., Schelsky H. Christliche Metaphysik und das Schicksal des modernen Bewufitseins. Leipzig: Hirzel, 1937.
29.Gunther G., Schelsky H. Die ontologischen Grundlagen der Mehr-wertigkeit. Naturliche Zahlen in einem transklassischen System // Jahres-bericht des Zentrums fur interdisziplinare Forschung der Universitat Bielefeld. Bielefeld, 1970. S. 27-28.
30.Gugel J. Die neuere franzosische Soziologie. Ansatze zueiner Stan-dortbestimmung der Soziologie. Neuwied: Luchterhand, 1961.
31.Gurvitch G. La vocation actuelle de la sociologie. T. 1. Vers la sociolo-gie differentielle. P.: PUF, 1968.
32.Hegel G. W. F. Wissenschaft der Logik П. Werke in 20 Banden. Bd. 8 / Hrsgg. v. E. Moldenhauer und K. Michel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.
33.Helmstetter R. Die weiBen Mause des Sinns. Luhmanns Humorisierung der Wisstnschaft der Gesellschaft // Merkur. 1993. Bd. 47. S. 601-619.
34.Horowitz I. L. The Decomposition of Sociology. N. Y.: Oxford University Press, 1993.
35.Klagenfurt K. Technologische Zivilisation und transklassische Logik. Eine Einfuhrung in die Technikphilosophie Gotthard Gimthers. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995.
36.Lorenzen P. Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik. Korreferat zu einem Vortrag von G. Gunther // Hegel-Studien. 1962. Beiheft 1. S. 125-130.
37.Luhmann N. Reflexive Mechanismen // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1974. S. 92-114.
38.Luhmann N. Soziologie der Moral // Theorietechnik und Moral. / Hrsgg. v. N. Luhmann, S. H. Pfurtner. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978 S. 8-116.
39.Luhmann N. Interaktion in Oberschichten: Zur Transformation ihrer Semantik im 17. und 18. Jahrhundert // Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellscaft. Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1980.
40.Luhmann N. Handlungstheorie und Systemtheorie // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Bd. 3. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981. S. 50-66.
41.Luhmann N. Autopoiesis, Handlung und kommunikative Verstandigung // Zeitschrift fur Soziologie. 1982. Bd. 11. S. 366-379.
42.Luhmann N. Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984.
43.Luhmann N. Helmut Schelsky zum Gedeken // Zeitschrift fur Rechtsso-ziologie. 1984. Bd. 6. S. 1-3.
44.Luhmann N. Die Richtigkeit soziologischer Theorie // Merkur. 1987. Bd. 41. S. 36-49.
45.Luhmann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988.
46.Luhmann N. Neuere Entwicklungen in der Systemtheorie // Merkur. 1988. Bd. 42. S. 291-300.
47.Luhmann N. Arbeitstelung und Moral. Durkheims Theorie // Durk-heim E. Uber soziale Arbeitstelung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. S. 19- 38.
48.Luhmann N. Identitat - was oder wie? // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Bd. 5. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990. S. 14-30.
49.Luhmann N. Uber systemtheoretischen Grundlagen der Gesellschafts-theorie // Deutsche Zeitschrift fur Philosophic. 1990. Bd. 38. S. 277-284.
50.Luhmann N. Am Ende der kritischen Soziologie // Zeitschrift fur Soziologie. 1990. Bd. 20. S. 147-152.
51.LuhmannN. Die Form «Person» //Soziale Welt. 1991. Bd.42.S. 166- 175.
52.Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellscaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992.
53.Luhmann N. «Was ist der Fall» und «Was steckt dahinter?» Die zwei Soziologien und die Gesellschaftstheorie // Zeitschrift fur Soziologie. 1993. Bd. 22. S. 245-260.
54.Merlon R. The Position of Sociological Theory: Discussion // American Soziological Review. 1948. Vol. 13. P. 164-168.
55.Naumann-Beyer W. Annaherung an Derrida - oder: Wer spat kommt, den belohnt das Lesen // Deutsche Zeitschrift fur Philosophic. 1994. Bd. 42. S. 15-33.
56.Plum-wood V. The Politics of Reason: Towards a Feminist Logic // Australasian Journal of Philosophy. 1993. Vol. 71. P. 436-462.
57.Rickert H. Das Eine, die Einheit und die Eins. Bemerkungen zur Rolle des Zahlbegriff. Tubingen: Mohr, 1924.
58.Rickert H. Grundprobleme der Philosophic. Methodologie, Ontologie, Anthropologie. Tubingen: Mohr, 1934.
59.Sahner H. Theorie und Forschung. Zur paradigmatischen Struktur der deutschen Soziologie und zu ihrem EinfluB auf die Forschung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1982.
60.Schelsky H. Zum Begriffder tierischen Subjektivitat // Studium Gene-rale. 1952. Vol. 3. S. 102-116.
61.Schelsky H. Ortbestimmung der deutschen Soziologie. Diisseldorf: Diederichs, 1959.
62.Schelsky H. Auf der Suche nach Wirklichkeit. Dusseldorf: Diederichs, 1965.
63.Schelsky H. Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priester-herrschaft der Intellektuellen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975.
64.Schelsky H. Soziologie - wie ich sie verstand und verstehe // H. Schelsky. Ruckblice eines «Anti-Soziologen». Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981.
65.Schmitz H. Rezension von G. Gimther, Idee und GrundriB einer nicht-Aristotelischen Logik // Philosophische Rundschau. 1961. Bd. 9. S. 283- 304.
66.Sennet R. Das Ende der Soziologie // Die Zeit. 1994. Nr. 40 vom 30. September. S. 61-62.
67.Soentgen J. Der Bau. Betrachtungen zu einer Metapher der Luhmann-schen Systemtheorie // Zeitschrift fur Soziologie. 1992. Bd. 21. S. 456-466.
68.Stierle K. Semiotik als Kulturwissenschaft // Zeitschrift fur frazosische Sprache und Literatur. 1973. Bd. 83. S. 99-128.
69.Wagner G. Geltung und normativer Zwang. Eine Untersuchung zu den neukantianischen Grundlagen der Wissenschaftslehre Max Webers. Freiburg: Alter, 1987.
70.Wagner G. Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwinding der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
71.Wagner G. Am Ende der systemtheoretischen Soziologie. Niklas Luh-mann und die Dialektik // Zeitschrift fur Soziologie. 1994. Bd. 23. S. 275- 291.
72.Wagner G. Zur Rekonstruktion und Kritik einer transzendentalen Soziologie der Gesellscaft: Helmut Schelsky und Wolfgang Schluchter // Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. 1995. Bd. 81. S. 1-25.
73.Weinberger O. Moral als Dual-Code? Kritische Anmerkungen zu Niklas Luhmanns Theorie der Moral // Rechtstheorie. 1993. Bdf. 24. S. 261-280.
74.Weingart P. Provinz ist liberal. Der WeltkongreB fur Soziologie in Bielefeld // Soziologische Revue. 1994. Bd. 17. S. 252-254.
75.WeiflJ. Die Normalitat als Krise. Soziale Welt. 1989. Bd. 40. S. 124- 132.
Фил Макнотен и Джон Урри СОЦИОЛОГИЯ ПРИРОДЫ*
Социология и исследование изменений окружающей среды
* Рукопись предоставлена авторами специально для настоящего издания.
В этой статье мы намерены рассмотреть парадокс: казалось бы социология должна играть центральную роль в исследовании изменений среды обитания, но пока что ее вклад в эти исследования очень скромен. Она не сделала того, что могла бы сделать. Поэтому наше положение весьма щекотливо: мы собираемся показать, что социологии действительно должна принадлежать центральная роль, но почти не имеем эмпирических данных в поддержку этого притязания. Однако пусть достижения социологии в названной области и не впечатляют (особенно по сравнению с некоторыми другими науками, вроде социальной географии или планирования), но ее постановки проблем потенциально могут стать центральными. Чтобы объяснить, почему вклад социологии в понимание изменений окружающей среды недостаточен, мы сперва обратимся к социальному и историческому контексту, в котором социология начинала укореняться, а затем рассмотрим, как это повлияло на характер трактовки «социального» всеми, кто исследует природу окружающей среды и ее изменения.
Логика развития социологии была продуктом конкретного исторического момента, порождением промышленного капитализма в Западной Европе и Северной Америке. Ключевым понятием этой социологии было понятие общества.
Она имела склонность принимать определенные априорные допущения об отношениях следствия между природой и обществом. Принимая как бесспорную данность эффектные успехи современных обществ такого типа в покорении природы, социология сосредоточилась и специализировалась на том, в чем она чувствовала себя сильной, а именно, на описании и объяснении самого характера современных обществ. В таком качестве социология, в общем, приняла соответствущее разделение труда в академической сфере; оно отчасти возникло благодаря желанию выделить (вслед за Э. Дюркгеймом) отдельную область или сферу социального, которую можно было бы изучать и объяснять автономно. В известном смысле социология применяла стратегию самоопределения по образцу биологии, утверждая существование особой и автономной области фактов, в данном случае относящихся к социальному, или обществу. Предполагалось, что такая область отделена от природы и противопоставлена ей.
До совсем недавнего времени это академическое разделение между миром социальных фактов и миром природных фактов в основном не оспаривалось. Между прочим оно было отражено в формулировках понятия времени, допускавших, что время природы и время общества - очень разные сущности (см.: [1; 24, Ch. 9]). Более того, это разделение имело смысл в перспективе профессионализации социологии, поскольку обеспечивало ясную и строго ограниченную область исследования: область параллельную, но не спорящую и не сталкивающуюся с теми естественными науками, которые несомненно имели дело с кажущимся очевидным миром природных явлений.
Именно такая модель социологии и вообще социальных наук наиболее заметна в текущих исследованиях так называемых «глобальных изменений среды». Грубо говоря, роль обществоведа усматривается в том, чтобы заниматься социальным влиянием и последствиями тех проблем окружающей среды, которые первоначально и точно были описаны естественником - род модели «биология сначала» (см.: [19]). Это можно ясно увидеть в ведущих международных исследовательских программах по глобальным изменениям среды, что недавно акцентировал Ньюби [30] в отношении существующей структуры Межправительственных панельных исследований климатических изменений (IPCC) и Программы по человеческому измерению глобальных изменений в окружающей среде (HDP). Ньюби отмечает, насколько обе эти программы воспринимают изменения окружающей среды как множество научных проблем, требующих технических решений. Так, в IPCC линейная модель образована рабочими панелями, построенными на научных данных, средовых и социоэкономических воздействиях и соответствующих стратегиях реагирования (описанных в откровенно технических терминах).
Похожие явления можно найти и в английской исследовательской программе по глобальным изменениям окружающей среды. После ряда значительных событий, включая волну повышения экологической сознательности общественности в конце 80-х гг. и часто цитируемую речь М. Тэтчер перед Королевским научным обществом в 1989 г., возникла новая исследовательская культура, поощряющая изучение процессов, происходящих в окружающей среде. В соответствии с международными моделями направленность этих исследований большей частью тяготела к глобальности и естественнонаучной ориентации. Так, когда в 1990 г. был сформирован Межведомственный комитет Великобритании по глобальным изменениям окружающей среды для координации всех таких исследований в стране, первый его отчет в апреле 1991 г. безусловно имел естественнонаучный оттенок. Более того, когда обществоведческие исследования стали более заметными благодаря правительственному фонду для программы по изучению глобальных изменений окружающей среды в 1990 г., они протекали в политическом климате, где значительные ожидания и политические обязательства связывались с ролью общественных наук в формулировке надлежащих ответов на проблемы, поднятые в процессе сбора естественнонаучных данных. И потому первоначальная задача программы Для общественных наук состояла в том, чтобы «помогать в понимании причин глобального изменения окружающей среды; в предсказании его воздействий и в оценке издержек ч выгод крупных социоэкономических изменений, требуемых для гармонизации общественного развития с окружающей средой» [16, 1].
Вышеописанный политический ландшафт наводит на мысль, что роль обществоведа в анализе глобального изменения окружающей среды до сих пор была в основном ролью социального инженера, манипулятора и «фиксатора», способствующего поддержанию жизнеспособности общества. В такой роли предпочтительнее выглядят «инструмента-листские» дисциплины вроде экономики и социальной географии, тогда как данных о вкладе социологии в решение проблем глобального изменения окружающей среды почти нет (что уже отмечалось выше). Далее в данной статье мы попытаемся отыскать объяснение, почему социология в основном не сумела успешно войти в дебаты по проблемам окружающей среды, даже там, где теперь существуют исследовательские программы с упором на «социальную науку». Мы начнем с возвращения к сложным взаимоотношениям между социальным и природным, прежде чем предложить некоторые области для социологического исследования и разработки. Следует предупредить, что эта статья концентрируется на взаимоотношениях общества и природы в пределах «западного» или североатлантического круга обществ и затрагивает главным образом «инвайронментали-стские», а не «биологические» темы.
Природа: исторический аспект
Исторически сопоставление общества и природы достигло наивысшего развития в XIX в. на Западе. Природа начинала вырождаться в какое-то царство несвободы и враждебности, которое надо было покорять и контролировать. Модерн включал в себя веру в то, что прогресс человечества следует измерять и оценивать в категориях господства человека над «природой», а не через попытки как-то преобразовать взаимоотношения между людьми и природой. Воззрение, согласно которому над природой надо господствовать, предполагало доктрину исключительности человека, т. е. убеждение, что люди глубоко отличаются от всех других видов и превосходят их, что люди способны определять свое предназначение и научаться всему необходимому, дабы оно исполнилось, что мир огромен и предоставляет неограниченные возможности для всех, и что история человеческого общества есть история бесконечного прогресса.
Однако, как указывает Уильяме [41], один из недостатков такой доктрины (который мы теперь хорошо сознаем) состоит в том, что нет ни одной сущности, которую можно было бы, строго говоря, назвать «природой». Мы еще вернемся к этой теме, но здесь можем отметить, что идею природы можно соотнести с сущностным качеством или характером чего-то; со скрытой силой, стоящей за какими-то событиями в мире; со всей совокупностью одушевленных и неодушевленных объектов, особенно таких, которым что-либо угрожает; с физической средой, противополагаемой человеческой культурной среде и ее особой экологии; и с сельским (в противоположность городскому) с его особенными визуальными или рекреационными свойствами (см.: [42, 216; 34, 172; 35]).
В историческом плане проект описания некоторых из ключевых трансформаций в понимании и отношении людей на Западе к природному обрисовал Уильяме [41; 42]. Он показал, что наши теперешние представления о природе происходят из чрезвычайно сложного скопления идей, связанных со многими ключевыми понятиями западной мысли, как то: Бог, идеализм, демократия, модерн, общество, Просвещение, романтизм и т. д. Начиная со средневековой космологии, Уильяме фиксирует социальную значимость, которую имело образование ряда абстрагированных, единичных и персонифицированных «природ». Как только природу отделили от множества других вещей, рассуждает Уильяме, открылась возможность предлагать социальные устроения, связанные с конкретным природным порядком. Так, апелляция к природе как к богине, затем как к божественной матери, абсолютному монарху, министру, конституционному законодателю и, наконец, избирательно производящему источнику соответственно определяло изменяющиеся отношения (часто в жесткой борьбе) между царством природы, царством Бога и человечеством. Однако два решающих изменения произошли в XVI и XVII вв. Оба они включали абстрагирование и отделение царства природы и от Бога, и от человечества, оба успешно отрицали скрытый потенциал идеи всеохватывающего космологического порядка.
Первое изменение повлекло за собой умерщвление царства природы, переход от жизненной силы к мертвой материи, от духа к машине. Фактически через обновленные науки - физику, астрономию и математику - изучение природы стало изучением того, как она построена материально. Природа стала множеством законов, причин и конвенций, открываемых по новым правилам исследования, благодаря таким формам исследования, которые можно было проводить в их собственных понятиях без всякого обращения к божественной цели или плану.
Второе изменение заключалось в истолковании некоего природного состояния как состояния первичного по отношению к человечеству или, по крайней мере, к цивилизованному обществу. Раз природа стала чем-то абстрагированным и фактически отделенным как первичное по отношению к обществу состояние, то возникают споры о сущности естественного состояния по сравнению с общественным. Два варианта этой идеи получили широкое развитие в Просвещении и романтизме. Оба они уходили корнями в спор о том, было ли «дообщественное естественное состояние» ис-точником первородного греха или первородной невинности. Раннее выражение разных позиций в этом споре можно найти у Т. Гоббса и Дж. Локка. Так, если Гоббс описывал дообщественное естественное состояние как состояние «одиночества, бедности, недоброжелательства, грубости и нужды», то Локк изображал его состоянием «мира, доброй воли, взаимопомощи и сотрудничества». Отсюда Гоббс доказывал, что основой цивилизованного общества является преодоление «недостатков природы», тогда как, по Локку, основу справедливого общества надо искать в организации его согласно «законам природы». Эти конструкции относительно природы самым решительным образом повлияли на взаимоотношения между формами социальной деятельности и тем или иным пониманием естественного состояния.
Как сказано выше, космология до эпохи модерна содержала идею всеобъемлющего порядка, внутри которого были связаны воедино человечество, природа и Бог. Моральное суждение большей частью понимали тогда в категориях подчинения человеческого действия этому естественному порядку. Но как только природа отделилась от человечества, стало возможным спрашивать, соответствуют или нет данные виды социальной деятельности предсуществу-ющему естественному порядку. Уильяме поясняет: «Говорить о «вмешательстве» человека (s7'c!) в естественные процессы - это значит, конечно, предполагать, что он имеет возможность не вмешиваться или решать не вмешиваться. Природа должна мыслиться, так сказать, в ее отделенности от человека, прежде чем возникнет какой-либо вопрос о вмешательстве или господстве над ней, а также о методе или этике того и другого» [41, 154].
Эти новые абстрагированные «природы» не только узаконили теоретическое исследование («обособленный разум, взирающий на обособленную материю», «человек, созерцающий природу»), но и оправдали введение новых практик. И действительно, Уильяме [41] показывает, что отделение природы от общества было предпосылкой для появления практик, зависимых от инструментального конституирова-ния природы как некоего множества пассивных объектов, подлежащих использованию и разработке людьми. Мораль обычно оправдывала то огромных масштабов вмешательство в природу, которое началось с XVIII в. и выросло из этой конструкции обособленной природы, чьи законы стали законами физики. А поскольку последние считались законами от Бога, физическое вмешательство начали представлять продолжением божественного творчества. На деле это логически вело к мысли о том, что вторжение людей в природу обосновано и нанесение вреда пассивной материи для человеческой пользы допустимо и целесообразно. И, наконец, это вызвало к жизни не только доводы, провозглашавшие «естественность» вмешательства, но и такие, где вмешательство считалось столь неизбежным, что любую критику такой аргументации саму стали классифицировать как вмешательство.
Приблизительно в то же время появилась еще одна идейная конструкция природы. Как раз тогда, когда «улучша-тели» провозглашали неизбежность своих действий, многие люди начали испытывать на себе последствия деградации окружающей среды и ее усиленной социальной эксплуатации, производные от этого массированного вторжения в «природу». Весь этот процесс в таких его проявлениях, как работные дома и дымные фабрики, дети-трубочисты и армия шахтеров, туберкулез и сифилис стали критиковать как нечеловеческий, несправедливый и «неестественный». Однако, как показывает Уильяме [41], хотя отрицательную сторону индустриализма признать было легко, положительную альтернативу (в категориях «естественной» альтернативы) защищать стало труднее. В самом деле, по мере институционализации рынка в обществе становилось трудным, если не невозможным, критиковать механизм, который был признан созидающей причиной богатства, экономического процветания, прибылей и либеральной демократии. Рынок сам начинал пониматься как «естественное» явление и законы рынка - тоже как естественные, аналогичные законам природного мира и тем самым необоримые и недоступные вмешательству. Уильяме поясняет: «Отражением новых естественных экономических законов, естественной свободы предпринимателя продвигаться в деле без чужого вмешательства стал образ рынка как естественного [sic!] регулятора... Это был остаток... более абстрактных идей о социальной гармонии, в которой могли бы идеально совпадать личный и общественный интересы» [41, 158].
Эта натурализация рынка удивительно хорошо показывала, как перестройка понятия природы в духе «естественной науки» должна была повлиять на человечество и социальный мир. Все виды исследования были одинаково подчинены поиску естественных законов. Альтернативная концепция природы (которая вышла из романтизма, а не из Просвещения) оказалась больше эскапистской, чем визионерской. Вместо усилий возродить мораль и этику в сфере природы, обдумывая новые пути, как вновь сделать природу социальной, ее обособление сохранили, просто удалив из человеческого мира на окраины современного общества: «Природа в совсем другом смысле, чем думали ее улучшате-ли, фактически бежала на окраины цивилизации: на отдаленные, недоступные, относительно неплодородные территории. Природа была там, где не было промышленности, и в таком реальном, но ограниченном значении почти ничего не могла сказать о тех операциях на природе, которые производились в других местах» [41, 159].
В США это привело к созданию национальных парков, где нашла воплощение одна частная концепция природы как дикого состояния. В Англии это породило концепцию более прирученной природы, примером чего может служить кампания У. Вордсворта и других за «консервацию» Озерного края и прочих мест, отдаленных от науки, промышленности и власти.
До сих пор мы относились к природе в точности как к женщине. Теперь мы знаем, что это очень типично: природу часто представляли как «женщину», как богиню или божественную матерь. Дальше будет показано, что покорение природы индустриальной экономикой, разумом и наукой рассматривалось в том числе и как «овладение» ею, так что в некоторых представлениях о природе скрывались сексуализированные мужские установки на ее изнасилование и ограбление. Наконец, в иных версиях эко-феминизма провозглашается, что женщины в некотором смысле более «естественны» и ближе к «природе», чем мужчины, особенно по причине деторождения. Многие феминистские утопии построены вокруг идеи полностью женского общества, которое живет в мире с самим собой и с природной средой.
Следует также отметить, что история «природы» в дальнейшем должна считаться с тем, как колониализм и расовое угнетение повлияли на обособление природы, которая эксплуатировалась Западом и для Запада. Эта природа виделась состоящей и из искусственно обособленных «девственных» земель, и из людей, более «естественных» в качестве работников и объектов колонизаторско-туристского внимания. В русле подобных рассуждений считается, например, что быть определенным в качестве явления «природы»... значит быть определенным в качестве пассивного существа, несамостоятельного деятеля и не-субъекта, в качестве «среды» или незримых первичных условий для «передовых» достижений разума или культуры. Это значит также быть определенным в качестве ресурса, лишенного собственных целей и значения, и потому пригодного для присоединения к целям тех, кого предположительно отождествляют с миром разума или интеллекта (см.: [ЗОа, 43]).
Вывод из этого краткого исторического очерка таков, что не существует никакой «природы» самой по себе - можно говорить только о «природах». И такие природы формируются исторически, географически и социально. Следовательно, не существует естественных ограничений и пределов как таковых. Они не закреплены и не вечны, но скорее зависят от конкретных исторических и географических детерминаций, а также от самих процессов, по которым «природа» строится и поддерживается в культуре, в частности, от процессов, выражающих отношение к «другому» . Более того, раз мы признаем, что идеи о природе были основательно переплетены - и остаются таковыми теперь - с господствующими идеями об обществе, мы должны ясно понимать, что и последние оказываются воспроизводимыми, узакониваемыми, исключаемыми из оборота, общезначимыми и т. д. благодаря обращению к природе или к природному. Проект определения того, что есть природное воздействие, становится социальным и культурным проектом в такой же мере, как и «чисто» научным.
К вопросу о критической инвайронментальной социологии
Предпринятый краткий исторический очерк обеспечивает контекст, благодаря которому можно понять появление новейших концепций природы, понять их историческое (отличать от неизбежного) отделение от общества и продвинуться в критическом анализе допущений, на которые они опираются. Теперешние рассуждения о природе обычно апеллируют к обрисованным выше вариантам различения природного и социального, а социологическое исследование только приступило к объяснению тех способов, какими можно связать эти современные апелляции и с природой вне общества (например, призывами к романтической, до-человеческой, нетронутой природе), и с так называемой естественностью нынешних социальных порядков (например, утилитарными призывами к естественности чисто рыночных отношений). Хотя задачей научного социологического исследования остается более глубокий анализ социального измерения современных призывов к естественному, у социологии есть и другие возможности внести существенный вклад в нынешние дискуссии по проблемам окружающей среды. В частности, эти возможности содержатся в вопросе, как в современных обществах реконструируются «социальное» и «природное». В оставшейся части статьи мы дадим пробный набросок насущных задач для критической, ангажированной и рефлексивной социологии окружающей среды. Такая социология концентрируется на четырех взаимосвязанных областях: социологии экологических знаний; социологическом прочтении существующих «природ»; социологии экологического «вреда»; и проблеме «инвайронментализм и общество»*.
* За последние несколько лет определился ряд социологов, переходящих в проблемную область современного инвайронментализма. Два недавних примера в использовании социальной теории для понимания взаимоотношений между «природой» и «обществом» дают П. Диккенс и Т. Бентон (см.: [10; 7]).
Социология экологических знаний
Во многих отношениях нынешняя роль, приписываемая общественным наукам, предполагает описание природы, явно свойственное эпохе модерна. Правда, наш мир может быть признан имеющим конечные пределы и уже не бесконечно щедрым, но исследовательские программы действуют еще под влиянием глубоко модернистских посылок о материальности мира, о его совершенной доступности научному и рационалистическому исследованию и о принципиальном отделении людей и человеческой культуры от физической среды. Одним из последствий такой постановки вопроса является предположение (ныне большей частью принимаемое в общественнонаучных описаниях окружающей среды), что природу в первую очередь следует рассматривать как нечто устанавливающее пределы тому, чего могут достичь люди. Акцент на абсолютных пределах, как правило, определенных экологической наукой (см.: [29]), перешел из программы немногих мечтателей 1960-х годов в общепринятую повестку дня после Рио*. Так, в нынешних попытках добиться устойчивого развития прежде всего присутствует цель определить способы ограничения человеческой деятельности, так чтобы экономическое и социальное развитие могло протекать в пределах конечных экологических ресурсов планеты. Эта концепция широко распространена в ключевых межправительственных документах (см.: [9; 36]).
* Речь идет о сессии UNCED (Конференции Объединенных Наций по [проблемам] окружающей среды) и развития, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г. Конференция приняла «Риоскую Декларацию об окружающей среде и развитии». В ней, в частности подчеркивается важнейшая роль женщин в роль в контроле над окружающей средой и решении проблем устойчивого развития. Конференция приняла также «Программу действий на XXI в.», где много говорится о роли женщин и женских групп, а также тендерного равенства и равенства возможностей для мужчин и женщин.
И все же, вопреки такой программе и несмотря на реальность определенного рода материальности мира, «природы» могут не только ограничивать, но и поощрять человеческую деятельность. В ряде случаев идея «природы» оказалась относительно благотворной и способствовала деятельности, не разрушающей окружающую среду. Например, популярное ныне обращение к «экологии» можно рассматривать не просто как отражение заинтересованности в физическом состоянии окружающей среды, но и как расширение благоприятных возможностей для развития иного базиса общества. В таком случае на «природу» не должно взирать как на что-то, чем надо «овладеть» или что следует покорить, или как на что-то, обязательно находящееся не в ладах с человеческой предприимчивостью. В самом деле, постоянное акцентирование пределов в связи с рядом решений не делать что-то или делать поменьше может внушить убеждение, будто ответственность за состояние среды - это нечто предельно ограничительное и дисциплинарное. В другом месте мы уже проанализировали, каким образом появление программы охраны окружающей среды в английской сельской местности связано с парадоксальным усилением дисциплинарной регуляции ее посещений любителями природы (см.: [27]). Более того, определение пределов в категориях материальных количеств переносит политический центр тяжести на получение обязательств просто ограничить экономическое поведение вместо решения более фундаментальных вопросов о самом отношении между природным и социальным, на которое опирается текущее экономическое поведение. Другими словами, вместо того, чтобы определять сегодняшние «инвайронменталистские знания» как набор параметров социального поведения, социология может поставлять информацию для решения проблем окружающей среды в такой ключевой области, как исследование социальных источников, участвующих в производстве упомянутых знаний, и их вкладов в формирование характера последующих дебатов.
Этот тип социологического исследования начинает приносить плоды в направлении «деконструкции» методик и методологий, которые в настоящее время употребляются при изучении экологической проблематики. Существующая в Ланкастере исследовательская программа включает изучение социологии научных знаний, информирующих о глобальном изменении окружающей среды. Посвященная рассмотрению принципиальных экологических проблем, включая глобальное потепление, кислотные дожди, охрану естественной среды обитания и восприятие экологического риска, эта программа сосредоточилась на культурно зависимом характере разных форм экологических знаний. Первые результаты показывают: то, что считается авторитетным научным знанием, в значительной степени представляет собой продукт активных взаимодействий и переговоров между учеными и политическими деятелями. К примеру, модели глобального изменения климата, центральные в спектре международных политических реакций на угрозы глобального потепления, скрыто опираются на сомнительные предположения о человеческом, институциональном и рыночном поведении.
Вторую область, где социология способна критически и конструктивно заниматься «культурными зависимостями» официальной науки, можно усмотреть в нынешних дебатах о восприятии риска. Например, в докладе «Риск» Королевского научного общества (1992 г.), особенно в пятой главе, дается довольно полное обозрение разных психологических, социальных и культурных подходов к проблеме восприятия риска (см.: [33]). Традиционно роль обществоведа в осмыслении восприятий риска публикой была близка к роли поставщика методик, позволяющих определить, как общество воспринимает риск конкретных опасных технологий при «объективной» оценке реального риска их использования (возможно, первейший пример здесь - ядерные технологии). Но появляется и более четко выраженный социологический подход, который отличается от других методологий (например, экономического анализа затрат и выгод, анализа принятых решений и математического анализа риска), используемых для определения восприятий риска, а также от ценностно-нагруженных суждений, на которые они опираются. Первый вызов ортодоксальным психологическим подходам бросила М. Дуглас (см.: [11; 12; 13]), в расширенном виде ее идеи получили название «культурной теории». В теории Дуглас доказывается, что необходимо определить культурное место индивидуальных восприятий риска в сети социальных и институциональных взаимоотношений, которые накладывают конкретные ограничения и обязательства на социальное поведение индивидов. В социологических понятиях культурная теория предлагает описывать отношение людей к риску через их образ жизни. Однако этот подход, ограничивший рассмотрение культурных процессов Двумя измерениями (в общей сети отношений и в группе), тоже критиковался за чрезмерные эссенциализм и упрощение более сложных оттенков в социальных различиях (см.: [23]). Менее детерминистскую схему для исследования социальных рамок, определяющих восприятие риска, развили Б. Уинн [44; 45; 47] и С. Джазанофф [22]. Они выступают за то, чтобы в расчет принимались более широкие социальные и культурные измерения, выраженные в озабоченности людей проблемой риска. Сосредоточиваясь на предположениях, которые делают эксперты при выборе основания для качественной и количественной оценки риска (по таким переменным как кредит доверия, двойственность и неопределенность в отношениях к риску), Уинн [47] показывает, что оценки экспертов зачастую резко расходятся со взглядами непрофессионалов и что, следовательно, «эксперты» неправильно понимают, как в действительности люди относятся к своей насыщенной риском окружающей среде.
С этим связан вопрос, каким образом более критически настроенная социология может бросить вызов техническим и естественным наукам, демонстрируя, что эти строгие науки сами держатся на каких-то социальных предпосылках, которые в «реальном мире» означают, что предсказания теории лабораторного происхождения не всегда работают в конкретных обстоятельствах этого «реального мира». Этот момент хорошо показан Уинном на примере воздействия осадков из Чернобыля на овцеводство в английском Озерном крае. Он так суммирует свои наблюдения: «Хотя фермеры признали необходимость ограничений, они не смогли принять, что эксперты явно игнорируют особенности их подхода при нормально гибкой и неформальной системе ведения дел в условиях контурного земледелия*. Эксперты полагали, что научное знание можно применять к контурному земледелию, не приспосабливаясь к местным условиям... Эксперты были невеждами в реальных тонкостях фермерства и пренебрегали местным знанием» [46, 45].
* То есть земледелия на склонах холмов.
Вышеупомянутые исследовательские программы указывают на появление новой роли социологии: давать более социально осведомленные и содержательные описания науки и других «авторитетных» источников знания, которые «пишут» теперь для нас экологическую программу. Описывая социальные, человеческие и культурные случайности так называемой объективной науки, социология может помочь не только лучшему пониманию этой программы, но и социально информированной политике, сознающей социальные предпосылки, на которые она опирается.
«Чтение природ» с социологической точки зрения
Начнем с замечания, что социология способна помочь в освещении множества социально разнообразных способов оценки окружающей среды. Что рассматривается и критикуется как противоестественное или экологически вредное в одну эпоху или в одном обществе, не обязательно считается таким в другое время или в другом обществе. Например, ряды стандартных домов, наспех возведенные во время капиталистической индустриализации в Британии XIX в., теперь рассматриваются не как оскорбление для глаз и разрушение визуальной среды, а как традиционные, затейливые и уютные образчики человеческой деятельности, вполне достойные сохранения. Сдвиги в восприятии даже более поразительны в случае с паровозом в Британии, столб дыма которого почти везде считают «естественным». Таким образом, «чтение» и производство природы есть то, чему учатся, и процесс обучения очень сильно варьируется в разных обществах, в разное время и в разных социальных группах одного общества.
Более того, социология может сделать непосредственный вклад в анализ и понимание социальных процессов, породивших определенные проблемы, которые принято считать «экологическими». В отличие от точки зрения наивного реализма, в соответствии с которой экологические проблемы появляются на свет последовательно по мере расширения научных знаний о состоянии среды, социологически ориентированное исследование смотрит на социальный и политический контекст, из которого приходят в мир экологические идеи, и тем самым дает более обоснованную оценку их социального значения.
Социальная и политическая канва современного инвай-ронментализма сложна. Она скрепляется с другими социальными движениями (см.: [17 ; 28]) и с разнообразными глобальными процессами. Так, теоретики отождествили инвайронментализм с новым полем борьбы против «саморазрушительного процесса модернизации» [15], тем связывая инвайронментализм с развивающейся критикой глобально планируемого общества (нечто похожее первоначально отражено в контркультуре 1960-х годов). Р. Гроув-Уайт [18] показывает, что самые понятия, которые ныне составляют ядро экологической программы, были связаны с процессом активного словотворчества в экологических группах 1970-1980-х годов в ответ на относительно более универсальные тревоги современного общества. Приводя конкретные примеры отношения к автострадам, ядерной энергетике, сельскому хозяйству и охране среды, Гроув-Уайт утверждает, что определенные формы экологического протеста были в такой же мере связаны с широко распространенным в обществе ощущением какого-то беспокойства из-за крайне технократизированной и неотзывчивой политической культуры, как и с любыми специальными оценками здоровья физической среды, т. е. того, что находится вне человека. Так что проблема «окружающей среды» осознавалась через ряд тем и политических событий, которые напрямую с нею как таковой и не были связаны.
Шершинский отмечает еще два обстоятельства. Во-первых, увеличился диапазон эмпирических явлений, которые начали считаться экологическими проблемами, а не просто показателями изменения окружающей среды. Так, автострады или атомные станции стали считаться разрушительными нововведениями, а не нормально продолжающимися изменениями, которые были бы в известном смысле «естественной» частью современного проекта (каковой в основном продолжали считать топливную энергетику [35, 4]). И, во-вторых, целый ряд событий оказался связанным воедино, так что их стали рассматривать как часть всеохватывающего экологического кризиса, поразительное число разных проблем которого одновременно считаются и частью самой этой окружающей среды и тем, что ей угрожает (см. также: [32]).
Дополнительно необходимо исследовать те наиболее фундаментальные социальные практики, которые способствовали социальному прочтению физического мира как экологически поврежденного. Существует, например, небольшая специальная работа о значении путешествий, которые в некоторых случаях могут обеспечить людей «культурным капиталом» для сравнения и оценки экологически различных состояний среды и развивать в них чувствительность к проявлениям деградации среды [38]. В ней подчеркивается, что именно недостаток путешествий в том пространстве, что называлось Восточной Европой, отчасти объясняет явную слепоту людей ко многим видам «повреждения» окружающей среды, как мы теперь знаем, очень распространенным во всем этом регионе. К другим социальным явлениям, которые могли бы внести свой вклад в становление экологического сознания, относится появление недоверия к науке и технике, а также сомнения по поводу когда-то принятого на веру значения больших организаций для современных обществ.
Хотя инвайронментализм может выглядеть как движение, большей частью противоречащее основным компонентам эпохи модерна, имеются, однако, такие черты последней, которые способствовали повышению экологической чуткости, особенно в прочтении природы как углубляющейся глобальной проблемы. Так, например, появление мировых институтов вроде ООН и Всемирного банка, глобализация деятельности групп защитников среды обитания таких, как «Всемирный фонд сохранения дикой природы», «Гринпис» и «Друзья Земли», а также развитие глобальных объединений по производству информации - все это помогло ускорить рождение чего-то вроде нового глобального самосознания, в котором процессы изменения окружающей среды все больше осознаются как всемирные и планетарные. Конечно, можно спорить, действительно ли эти процессы глобальнее по масштабам, чем многие прежние экологические кризисы, которые люди были склонны толковать как локальные или национальные. Определение «глобальное» в глобальном изменении окружающей среды - это отчасти политическая и культурная конструкция (см.: [48]).
Итак, мы приняли как данность, что, строго говоря, не существует такой вещи как природа вообще, имеются только «природы». В сравнительно недавнем исследовании Шершинский описывает два ключевых направления, в которых в последние годы предпринимались попытки концептуализировать природу (см.: [35], а также кое-какие данные в: [10]). Во-первых, ныне принято употребление понятия природы для обозначения феномена, которому угрожает опасность. Этот смысл можно усмотреть в панических высказываниях по поводу редких и вымирающих видов, особенно зрелищных и эстетически приятных; в восприятии природы как набора ограниченных ресурсов, которые надо беречь для будущих поколений; в представлении о природе как собрании правовых субъектов, особенно животных, но также и некоторых растений (см.: [7; 31]); и в образе природы как здорового и чистого тела, находящегося под угрозой и страдающего от загрязнения, той самой природы, которая, по словам Р. Карсон, быстро становится «морем канцерогенов» [35, 19-20; 8].
Второй комплекс представлений о природе строится на понятии о ней как об источнике чистоты и моральной силы. Здесь природу толкуют как объект любования, прекрасный и возвышенный; как пространство для отдохновения и вольных скитаний; как возможность возврата из современного общества отчуждения в органическое малое сообщество; и как целостную экосистему, которую надо сохранить во всем ее разнообразии и взаимозависимости, включая, конечно, влиятельную гипотезу «Геи»*[26].
* Гипотеза, в которой Земля рассматривается в качестве более или менее сознательного индивида - Прим. перев.
Эти разные концепции природы частично обеспечили культурную оснастку для развития современного экологического движения; как уже отмечалось выше, они смогли функционировать в этом качестве лишь тогда, когда была открыта «окружающая среда» как таковая. Следует отметить еще, что первоначальная концептуализация многих из этих «природ» проходила в контексте национального государства. Аргументация в пользу консервации, сохранения, восстановления и т. д. строилась на основе национальных ресурсов, которые поддавались планированию и управлению. С другой стороны, современный инвайронментализм должен был «изобрести» цельный земной шар или единую землю, которая вся целиком видится как находящаяся в опасном положении или, иначе, рассматривается через отождествление с природой как некий моральный источник. Наша дальнейшая исследовательская задача состоит в том, чтобы определить, были ли (и в какой мере) условия для появления этого «глобального дискурса» вокруг природы заложены самими модернистскими процессами глобализации, или же все это было скорее результатом чисто мыслительных сдвигов, осуществленных движением интеллектуалов, вырабатывающих идеи и образы, вроде «голубой планеты», которые все более становятся разменной монетой в нашем нынешнем «хозяйстве знаков» (см.: [35, Ch. 1; 24]).
Социология экологического «ущерба»
Третье направление, в котором социология может способствовать пониманию экологических вопросов, - это исследование социальных процессов, которые в настоящее время производят то, что признается обществом вредным для окружающей среды. О многих из этих процессов ныне теоретизируют в социологии, но редко в их экологических аспектах (таких как потребительство, туризм и глобализация). Почти все проблемы «окружающей среды» вытекают из конкретных образцов социального поведения, связанных с доктриной человеческой исключительности и разделением «природы» и «общества».
Потребительство представляет собой особенно существенный социальный феномен. Теперь достаточно хорошо установлено, что в структурной организации современных обществ произошел какой-то сдвиг, в результате чего сильно изменились формы массового производства и массового потребления. Этим мы не хотим сказать ни того, что вся экономическая деятельность когда-то была «фордистской» (большая часть индустрии обслуживания таковой не была), ни того, что сегодня будто бы остаются не очень значительные элементы «фордистского» производства. Однако для нас важны четыре сдвига в структурном значении и характере потребления: огромное расширение спектра доступных ныне товаров и услуг, благодаря существенной интернационализации рынков и вкусов; возросшая семиотизация продуктов, так что знак, фирменная марка, а не потребительская стоимость становится ключевым элементом в потреблении; крушение некоторых «традиционалистских» институтов и структур, почему потребительские вкусы стали более подвижными и открытыми; и возрастание важности образцов потребительского поведения в формировании личности и отсюда некоторый сдвиг от власти производителя ко власти потребителя (см.: [24], а также скептические замечания [40]).
Здесь вполне уместны рассуждения 3. Баумана. Он утверждает, что «в сегодняшнем обществе потребительское поведение (свобода потребителя, приспособившаяся к потребительскому рынку) настойчиво стремится занять положение одновременно познавательного и морального средоточия жизни, стать объединительной скрепой общества... Другими словами, занять такое же положение, какое в прошлом, на протяжении фазы модерна в капиталистическом обществе, занимал труд» [3, 49].
При этом начинает господствовать принцип удовольствия как таковой. Поиски удовольствия превращаются в долг, поскольку потребление товаров и услуг становится структурной основой западных обществ. И потому в процессе социальной интеграции меньше используются принципы нормализации, ограничения и дисциплинарной власти, описанные Фуко, да, впрочем и самим Бауманом для случая массового истребления евреев [2]. Вместо этого интеграция осуществляется путем «соблазнения»* на рынке, через смесь ощущений и чувств, порождаемых созерцанием, осязанием, слушанием, пробованием, обонянием и самим движением сквозь все то необыкновенное разнообразие товаров и услуг, мест и сред, которое характеризует современное потребительство, организованное вокруг особой «культуры природы» (см.: [43]). Это современное потребительство благополучных двух третей населения в главных западных странах порождает стремительно меняющийся огромный спрос на различные продукты, услуги и места. Современные рынки живут на переменах, разнообразии и расхождениях во вкусах, на подрыве традиций и единообразия, на предложении продуктов, услуг и мест, выходящих из моды почти так же скоро, как они входят в моду.
* Возможно, это намек на известную книгу Ж. Бодрияра - Прим. перев.
Мало причин сомневаться, что эти образцы современного потребительства имеют губительные последствия для окружающей среды. Они выражаются в дырах в озоновом слое планеты, глобальном потеплении, кислотных дождях, катастрофах на атомных станциях и омертвению многих местных зон обитания. В своих крайних проявлениях потребительство может повлечь получение или закупку новых частей для человеческого тела - процесс, который подрывает ясный смысл различения естественной телесной внутренней среды, противопоставляемой несродной телу внешней среде (см.: [34]).
Такое западное потребительство, где «природа оказывается превращенной в простые поделки для потребительского выбора» [34, 197], вызвало обширную критику со стороны экологического движения, а она в свою очередь видится как часть еще более широкой критики всей эпохи «модерна» . Но следующий заключенный здесь парадокс состоит в том, что само развитие потребительства способствовало появлению сегодняшней критики, живописующей деградацию окружающей среды, и особой культурной сосредоточенности на «природе». Весь инвайронментализм можно представить как предварение определенного рода потребительства, на том основании, что одним из элементов потребления является усиленное размышление о разных местах и средах, товарах и услугах, «потребляемых» буквально благодаря нежданным социальным встречам с ними, или визуальное знакомство (см.: [38]). По мере того как люди размышляют о таком потреблении, у них развиваются не только обязанность потреблять, но также и определенные права, включая права гражданина как потребителя. Эти права включают уверенность в том, что люди имеют право на определенные качества окружающей среды, воздуха, воды, звукового фона и пейзажа, и что это право в будущем должно распространяться и на все другие (незападные) народы. В современных западных обществах начался сдвиг центра тяжести в самом основании идеи гражданства: от политических прав к правам потребителя, а внутри последних - к экологическим правам, особенно связанным с концепциями природы как зрелища и места отдохновения. Некоторые из этих прав также начинают рассматриваться как международные, поскольку с развитием массового туризма западные люди во все большей степени становятся потребителями окружающих сред вне своей национальной территории и как таковые развивают систематические ожидания соответствующего качества этих сред.
Однако процессы интенсификации, связанные с това-ризацией почти всех элементов общественной жизни, породили и соответствующую интенсификацию нерыночных форм поведения и социальных отношений. Строительство отношений на побуждениях, возможно, более человечных в «классическом» понимании (как у людей, пытающихся вести относительно альтруистическую, неэгоистическую жизнь и действующих по образцам солидаристского, взаимозависимого, нерыночного поведения), приводит к появлению множества напряжений между конфликтующими рациональностями - рыночной и нерыночной. И действительно, в своих крайностях социальная критика потребительски ориентированного общества направлена к новым формам социальной организации (противопоставляемым организации вышеописанных потребительски ориентированных групп), чья сущность выявляется в открытом сопротивлении потребительским принципам. Эти новые социальные движения (типа «Саботажников охоты», «За права животных», «Спасем Землю» и других групп прямого действия), часто возникавшие как ответ на ощущение угрозы экологических злоупотреблений и вытесняемые из леги-тимной сферы государственно регулируемого, потребительски ориентированного действия, ныне испытывают более откровенные притеснения (очень показательный пример этого процесса - предлагаемая реформа уголовного судопроизводства в Англии, специально метящая в эти «проблемные» группы). Поэтому будущей темой исследования становится то, что можно назвать «экологическим отклоняющимся поведением».
Инвайронментализм и общество
Этот последний раздел посвящен вопросу, как может социология помочь пониманию роли экологической программы в структурном формировании и культурном преобразовании современного общества.
Одна из областей, популярных в нынешнем социологическом теоретизировании (особенно после перевода на английский книги У. Бекка «Общество риска» ([5]), - это споры о текущем состоянии постмодернистского общества (или общества позднего модерна) и о культурных последствиях новых форм рефлексивности. Э. Гидденс, к примеру, доказывает, что в эпоху модерна рефлексивность состояла из социальных практик, постоянно проверявшихся и пересматривавшихся в свете информации, поступавшей от самих этих практик, и таким образом изменяла их строение. По его мнению, только в это время распространяется ревизия культурных условностей, радикализированная до приложения (в принципе) ко всем сторонам человеческой жизни, включая технологическое вмешательство в материальный мир*.
* Авторы имеют в виду книгу: GiddensA. Modernity and Self-Identifity. Cambridge: Polity Press, 1991.
Такая рефлексивность направляет методы западной науки, этого истинного воплощения модерна, которая, однако, в качестве деятельности не более легитимна, чем многие другие виды социальной деятельности, каждый из которых включает разные формы самооправдания. Науке не приписывают теперь обязательно цивилизующую, прогрессивную и освободительную роль в открытии того, что есть природа. Во многих случаях наука и связанные с нею технологии рассматриваются сегодня как проблема, а не решение. Особенно это относится к ситуации, где мы фактически имеем дело с масштабными и неконтролируемыми научными экспериментами, лабораторией для которых служит весь земной шар или значительная часть его (как при накоплении ядовитых отходов, использовании химических удобрений, атомной энергии и т. д.). В обществе риска наука выглядит производителем большинства видов риска, хотя они по большей части не воспринимаются нашими чувствами.
Утрата всей наукой «автоматического» общественного авторитета ослабляет и легитимность экологических (и медицинских) «наук». Само признание риска зависит от таких наук по причине «нарастающего бессилия органов чувств» как, например, в случае химического и радиоактивного загрязнения (см.: [4, 156; 14]). В свою очередь это оборачивается проблемой для зеленого движения, поскольку такого рода науки по необходимости оказываются в центре многих кампаний, проводимых экологическими неправительственными организациями, даже если они до сих пор сохраняют склонность использовать здесь науку в тактических целях, возможно, чисто инстинктивно упирая на неопределенность и нежесткость, присущие многим частным наукам (см.: [50]). Недавно Б. Уинн и С. Майер доказывали необходимость более взвешенного и морально защитимого применения науки в формировании и внедрении в жизнь экологической политики [49]. Социология в состоянии продвигать этот спор дальше, изучая вопрос о возможном облике некой более рассудительной «зеленой» науки. Вышеназванные движения предоставляют хорошие возможности для социологического исследования новых форм социального уклада и структуры, вырастающих из реакций общества на инвайронментализм. В дальнейшей разработке нуждается одна из линий аргументации, где вышеупомянутые процессы толкуются как симптомы более широкого культурного процесса индивидуализации и детрадицио-нализации (см.: [5; 6; 21; 24; 39]). Утверждают, что подобные процессы ведут к появлению менее институционали-зированных форм самосознания и социального уклада. Такие институты как наука, церковь, монархия, нуклеарная семья и формальные правительственные структуры, похоже, теряют легитимацию (появление мозгового центра DEMOS - одно из проявлений этого процесса) и все более видятся как часть проблемы, а не найденное решение, ведущее к новым, более свободным формам общественного уклада, включая развитие новых социальных движений или, как мы предпочитаем говорить, «новых социаций»* (см.: [39]). Фактически появление новой сферы политического в форме нежестких, непартийных и самоорганизующихся содружеств и ассоциаций, часто в форме групп самопомощи, коммунальных групп и добровольных организаций, связано с тем, что Бекк описал как новую динамику «субполитизации», в силу которой государство сталкивается со все более разнородным и разнонаправленным множеством групп и социаций меньшинств [6].
* Учитывая, что словом «sociation» в английском языке традиционно передается зиммелевское «Vergesellschaftung», можно говорить здесь о «новых обобществлениях».
Уже имеется ряд характеристик таких социаций [20; 39]. Во-первых, они не похожи на традиционные объединения общинного типа, поскольку люди соединяются в них по собственному выбору и свободны покинуть их в любое время. Во-вторых, люди дорожат членством в них отчасти из-за эмоционального удовлетворения, которое они извлекают из общности целей или общих социальных переживаний. И, в-третьих, поскольку членство зависит от выбора, то состав таких социаций будет обновляться стремительно. Эти характеристики наилучшим образом определяют социаций в качестве современных экспериментальных площадок, где можно опробировать новые виды социальной идентичности. Подобные социаций предоставляют людям определенные возможности, обеспечивая относительно безопасные места для проверки их самоопределения (идентификации) и подходящий контекст для приобретения новых умений. Такие новые детрадиционализированные социаций можно классифицировать по степени децентрализации власти, ее удаленности от центра, по степени формальной спецификации организационной структуры, по степени и формам участия в общественной жизни на местном уровне, по типам действия, возникшим благодаря членству в социаций, и по степени осмысленности членства в организации. Необходимо особое исследование, чтобы понять значение этого нового стиля социальной организации, понять степень его вклада в новые политические реальности и последствия для теперешнего изучения инвайронментализма как нового социального движения. Появление новых социаций вокруг проблем окружающей среды говорит о том, что развиваются особые формы социальной идентичности, которые подразумевают прорыв за пределы относительно изолированных сфер общества и природы и своеобразное восстановление гражданского общества [21, Ch. 7] (о чем свидетельствуют массовые наблюдения за процессами «позеленения» людей).
Существуют интересные связи между такими новыми социациями и обсуждавшимся нами раньше восприятием кризиса окружающей среды как глобального. Данные о «глобальном» или холистском воззрении на природу можно найти в массе межправительственных и правительственных договоров, конвенций и документов, ставших результатом нынешней сосредоточенности на проблеме поддержания ее жизнеспособности* (доклад Брундтланд говорит о «нашем общем будущем» отчасти именно из-за глобального характера определенных угроз природе, начиная с «ядерной» угрозы). Формированию такого восприятия помогло развитие глобальных средств массовой информации, которое породило «воображаемое сообщество»** всех обществ, живущих на единой Земле (отсюда «Друзья Земли»). Однако наряду с массой глобалистских процессов существует и новый набор интересов, касающихся культурно определенных локальных сред. Диапазон этих местных интересов, вокруг которых возможна мобилизация людей, необычайно широк. Если брать примеры из Северной Англии, то это и усилия по консервации шлаковых отвалов в Ланкашире, и кампания с целью запретить разметку желтыми линиями на некоторых дорогах в Баттершире, и сильное сопротивление восстановлению на том же месте сгоревшего рынка в Ланкастере.
* Примеры важнейших стратегических межправительственных документов по проблеме жизнеспособности, которые помогли сформировать и внедрить идею «глобальной» природы, включают «Стратегию консервации мира» (1980), доклад Г. X. Брунтланд «Наше общее будущее» (ООН, 1987), «Программу, инспирированную Всемирным фондом сохранения дикой природы» на сессии UNCED в Рио и пятую программу действий Европейского Сообщества по сохранению среды и поддержанию устойчивого развития.
** Термин взят из названия знаменитой книги: Anderson В. Imagined Communities. L.: Verso, 1983.
Следовательно, в наличии имеется множество экологических идентификаций, локальных и глобальных, рационалистических и эмоциональных, ориентированных пейзажи -стски-созерцательно и утилитарно, и т. д. (более подробно см.: [35]). В обществах постмодерна эти множественные сознания, по-видимому, и дальше будут становиться все более заметными. Поэтому нам нужно развивать социологию, которая изучает этот феномен явно возрастающей значимости «экологических идентичностей» в современных обществах, идентичностей, которые часто несут с собой сложный узел взаимопереплетающихся глобальных и местных интересов. Статистическим доказательством важности этих самосознаний может служить огромное увеличение численности почти всех экологических организаций в 1980-1990-х годах*.
* На конец 1993 г. наиболее признанные экологические организации продолжают расти при уже очень большом числе своих членов. Тогда в Англии «Гринпис» поддерживали 390 тыс. человек, «Друзья Земли» насчитывали 230 тысяч членов, «Национальное доверие» - свыше 2 млн. 200 тыс., «Королевское общество охраны птиц» - свыше 850 тыс. и «Королевское общество охраны природы» - свыше 250 тыс. человек.
Заключение
Итак, мы изложили некоторые задачи социологического подхода к проблеме окружающей среды. Он вырисовывается как долгая и сложная программа исследований, которая охватывает вопросы политической экономии, государства, гендера, науки, культуры, времени, новых социальных движений, проблему «другого» - т. е. фактически все темы, интенсивно изучаемые ныне социологией. Эта экологическая программа предоставляет социологии благоприятную возможность распутать сложные образцы поведения, развивающиеся из сегодняшних реакций на «природу» и на удовлетворительность или неудовлетворительность официальных «авторитетных» отчетов и политических программ.
Пересмотр вопроса о природе по-особому освещает также темы времени и пространства, которые с недавних пор обильно проникают в повестку дня социологии. Б. Адам очень интересно показала, насколько неубедительно обычное в социологии различение природного и социального времени. В этой науке стало общим местом, что социальное время включает изменение, прогресс и упадок, тогда как природные явления мыслимы и вне времени, и с привлечением концепции обратимого времени [1]. Адам доказывает, что указанное различение ныне нельзя удержать, поскольку почти вся наука XX в. выявила, что «природа» тоже описывается понятиями изменения и упадка: «Прошлое, настоящее и будущее время, историческое время, качественное переживание времени... - все эти характеристики времени признаны неотъемлемыми элементами в содержании естественных наук и часового времени, в понятиях инвариантной меры, замкнутого круга, совершенной симметрии и обратимого времени как творений нашего ума» [1, 150].
Общественные науки оперировали концепцией времени, не соответствующей подлинной концепции естествознания - неким почти «обезвремененным» временем. Нововведения науки XX в. сделали различение природного и социального времени несостоятельным и снова привели нас к заключению, что простого и жизнеспособного разграничения между природой и обществом не существует. Они неизбежно переплетены между собой. Поэтому мы имеем много разных времен (как фактически и много разных пространств) и нельзя точно определить социальное время, отдельное от времени природного.
Сказанное связано с нашим более общим замыслом - продемонстрировать разнообразие «природ». М. Стратерн указывает на один существенный парадокс в современных теоретических разработках [34]. Ясно, что с эмпирической точки зрения в них присутствует преувеличенная сосредоточенность на важности «природы», на оценивании «природного», на образах «природного» и на «сохранении природы». Но, как замечает Стратерн, эти преувеличения глубоко опосредованны культурой. Другими словами, культура необходима, чтобы спасать природу. Он указывает на своеобразный «концептуальный коллапс при проведении различий между природой и культурой, когда Природа не может выжить без вмешательства Культуры» [34, 174]. А если так, то остается ли какое-нибудь место «природе», когда она нуждается в культуре для своего, так сказать, воспитания? В прошлом вся сила «природы» заключалась в способе, каким фактически скрывалось от людских глаз ее культурное строение (см.: [25]). Но в современном мире неуверенности и двойственных отношений во всем этого больше недостаточно. И главной задачей общественных наук должна стать расшифровка социальных последствий того, что было всегда, а именно, природы, сложно переплетенной и основательно связанной с социальным.
Однако следует также отметить, что теперь эта природа меньше привязана к отдельным национальным обществам, к национальной «общности судьбы» и гораздо более взаимосвязана с тремя другими концепциями социального: глобального, включающего информационные и коммуникативные структуры; локального; и учитывающего сложные многообразия идентичностей в отношении природы и времени (см. более подробно: [2, Ch. 11]). Расшифровка этих взаимосвязей обещает нам богатую и трудоемкую исследовательскую программу, которая, возможно, выведет социологию с обочины в спорах о «природе».
ЛИТЕРАТУРА
1.Adam B. Time and social theory. Cambridge: Polity, 1990.
2.Bauman Z. Modernity and the holocaust. Cambridge: Polity, 1989.
3.Bauman Z. Intimations of postmodernity. L.: Routledge, 1992.
4.Beck U. An anthropological shock: Chernobyl and the contours of the risk society // Berkeley Journal of Sociology. 1987. Vol. 32. P. 153-165.
5.Beck U. Risk society: towards a new modernity / Trans. by M. Ritter. L: Sage, 1992.
6.Beck U. Individualisation and the transformation of politics // Conference paper. De-traditionalisation: Authority and Self in an age of cultural uncertainty. Lancaster Universoty. Lancaster, 1993.
7.Benton T. Natural relations. L.: Verso, 1993.
8.Carson R. Silent spring. Harmondsworth: Penguin, 1965.
9.Commission of the European Communities. Fifth Environmental Action Programme for the Environment and Sustainable Development. Brussels: CEC, 1992.
10.Dickens P. Society and nature. Hemel Hempstead: Harvester Wheat-sheaf, 1992.
11.Douglas M. Risk acceptability according to the social sciences. N.Y.: Russel Sage Foundation, 1985.
12.Douglas M. Risk as a forensic resource // Daedalus. 1990. Vol. 119. P. 1-16.
13.Douglas M. Risk and blame. L.: Routledge, 1992.
14.Douglas M., Wildavski A. Risk and culture: an essay on the selection of technological and environmental dangers. Berkeley: University of California Press, 1982.
15.Eder K. Rise of counter-culture movements against modernity: Nature as a new field of class struggle // Theory, Culture and Society. 1990. Vol. 17. P. 21-47.
16.ESRC. Global Environmental Change Programme. L.: ESRC, 1990.
17.Eyerman R., Jamison A. Social movements: a cognitive approach. Cambridge: Polity, 1991.
18.Grove-MTiite R. The emerging shape of environment conflict in the 1990’s // Royal Society of Arts. 1991. Vol. 139. P. 437-447.
19.Grove-White R., Szerszynski B. Getting behind environmental ethics // Environmental Ethics. 1992. Vol. 1. P. 285-296.
20.Hetherington К. The geography of the other: lifestyle, performance and identity. Ph. D. Dept of sociology. Lancaster University. Lancaster, 1993.
21.Jacques M. The end of politics // Sunday Times: The culture supplement. L, 1993.
22.Jasanoff S. Contested boundaries in policy-relevant science // Social Studies of Science. 1987. Vol. 17. P. 195-230.
23.Johnson B. The environmentalist movement and grid/group analysis: a modest critique // The social and cultural construction of risk / Ed. by B. B. J. and V. T. Covello. Dordrecht: Reidel, 1987.
24.Lash S., Urry J. Economics of signs and space. L.: Sage, 1994.
25.Latour B. We have never been modern / Transl. by C. Porter. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993.
26.Lovelock J. The ages of Gaia: a biography of our living earth. Oxford: Oxford University Press, 1988.
27.Macnaghten P. M. English landscapes of discipline and transgression / Unpublished paper. CSEC. Lancaster University, 1994.
28.Melticci A. Nomads of the present: social movements and individual needs in contemporary society. L.: Radius, 1989.
29.Newby H. Ecology, amenity and society: social science and environmental change // Town Planning Review. Vol. 61. P. 3-20.
30.Newby H. Global environmental change and the social sciences: retrospect and prospect / Unpublished. 1993.
31.Plumwood V. Feminism and the mastery of nature. L.: Routledge, 1993.
32.Porritt J. Seeing green: the politics of ecology explained. Oxford: Black-well, 1984.
33.Rubin C. Environmental policy and environmental thought: Ruckel-shaus and Commoner // Environmental Ethics. 1989. Vol. 11. P. 27-51.
34.The Royal Society. Risk: analysis, perception, management. L.: The Royal Society, 1992.
35.StrathernM. After nature: English kinship in the late twentieth century. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
36.Szerzynski B. Uncommon ground: moral discourse. Foundamentalism and the environmental movement. Ph.D. Dept of Sociology. Lancaster University. Lancaster, 1993.
37.UNCED. Our common future, UNCED. Switzerland: Conches, 1987.
38.UNCED. Agenda 21. UNCED. Switzerland: Conches, 1992.
39.Urry J. The tourist gase and the «Environment» // Theory, culture and society. 1992. Vol. 9. P. 1-22.
40.Urry J. Social identity, leisure and the countryside // Leisure uses of the countryside / Ed. by R. Grove-White, J. Darrall, P. M. Machaghten, G. Clark, J. Urry. L.: CPRE, 1993.
41.Warde A. Consumers, identity and belonging; reflections on some theses of Zygmunt Bauman // The authority if the consumer / Ed. by R. Keat, N. Whi-teley, N. Abercrombie. L.: Routledge, 1994.
42.Williams R. Ideas of neture // Ecology, the shaping of enquiry / Ed. by J. Rental!. L.: Longman, 1972.
1.Социология природы 291
43.Williams R. Keywords: A vocabulary of culture and society. L.: Fontana, 1976.
44.Wilson A. The culture of nature: North American landscape from Disney to the Exxon Valdez. Cambridge MA: Blackwell, 1992.
45.Wynne B. Rationality and ritual: The windscape inquiry and nuclear decisions in Britain. Chalfont St Giles: British Society for the History of Science, 1982.
46.Wynne B. Understanding public risk perceptions // Environmental threats: Perception, analysis and management / Ed. by J. Brown. L.: Belhaven, 1989.
47.Wynne B. After Chernobyl: Science made too simple // New Scientist. 1991. 1753. P. 44-46.
48.Wynne B. Risk and social learning: Reification to engagement // Theories of risk / Ed. by S. K. and D. Golding.
49.Wynne B. Scientific knowledge and the global environment // Social theory and the global environment / Ed. by E. Benton, M. Redclift. L.: Rout-ledge, 1994.
50.Wynne В., Meyer S. How scienece fails the environment // New Scientist. 1993. 1876. P. 33-35.
51.Yearley S. The green case. L.: Harper Collins, 1991.
Гай Оукс ПРЯМОЙ РАЗГОВОР ОБ ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ ТЕОРИИ*
Сплошь эксцентричное
Для постмодернистского движения на нынешней стадии его эволюции более всего характерно культивирование необычных форм интеллектуализма. Один из наиболее колоритных и свежих продуктов его развития - это «эксцентричная теория», недавно воспетая в дискуссии на страницах журнала «Sociological Theory»[22]**.
* Oakes G. Straight thinking about queer theory.
** Благодарю Бердетт Гарднер за замечания к первому варианту данной статьи.
Социальные теории всегда паразитировали на философии. Об их зависимости от влиятельных направлений академической философии соответствующей эпохи свидетельствует, например, тот факт, что Маркс многим обязан Гегелю, а неокантианское движение оказало сильное влияние на Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма и М. Вебера. Следует также упомянуть взаимоотношения американского прагматизма и Чикагской социологической школы, попытки в рамках ведущих направлений социальной теории удовлетворить суровым требованиям логического позитивизма, а также связи между критической социальной теорией и европейской неомарксистской философией. Эксцентричная теория - продукт вульгаризации совсем недавнего европейского (преимущественно французского) постфилософского критицизма, в основном, произведенный американскими академическими защитниками антигетеросексуальной (т. е. противниками разнополой) политики в самоопределении, или идентификации индивида*.
Эксцентричные теоретики изображают свой проект как сознательную и бескомпромиссную программу теоретической критики, или трансгрессии**. С пылом молодого Маркса лево гегельянского периода эксцентричная теория проповедует беспощадную критику всего существующего. «Эксцентричность, - говорят нам, - это всеобъемлющая идентичность, которая бросает вызов и сопротивляется окостенению частных определений человеческой индивидуальности и категорий познания» [11, 243], а эксцентричная теория подразумевает «теоретическую чувствительность к проблематике трансгрессии или вечного мятежа» [17, 173]. Цель эксцентричной теории - предпринять «массированное нарушение границ всех условных категорий познания и способов анализа» [19, 182]. «Переступательный» порыв эксцентричной теории с особой страстью обрушивается на принятую таксономию сексуальности, строящуюся вокруг противоположения гетеро- и гомосексуального - полярности, само существование которой эксцентричные теоретики приписывают нахальной самонадеянности XIX в. Отсюда их обязательства «расстроить гетеросексуальную гегемонию», «сдвигая с привычного места гетерооексуальность, гомосексуальность и отношения между ними» [15, 230].
* Участники симпозиума, кажется, особенно благосклонны к следующим авторам: [2; 14; 3; 10; 13]. Лайза Дагген характеризует Седжуик - весело, но также и совершенно серьезно - как «Джуди Гарленд» гомосексуальных исследований (см.: [4, 24]).
** В данном случае «трансгрессию» можно истолковать как «систематическое переступание границ». - Прим. перев.
Оспаривая устойчивые на вид категории, эксцентричные теоретики применяют свое оружие не только против господствующей гетеросексуальности, но и против лесби-янства и мужской гомосексуальности. Фактически эксцентричная теория нападает на существующий «режим сексуальности как таковой» [17, 174]. Ее приверженцы утверждают, что конечный принцип, на который этот режим опирается, - это исчерпывающая бинарная оппозиция гомосексуальности и гетеросексуальности. И потому в итоге и универсализация эксцентричности», и построение эксцентричной теории зависят от того, удастся ли оспорить предположение, что эта дихотомия дает достаточное основание для объяснения сексуальности.
Вероятно из-за иконоборческого рвения эксцентричных теоретиков, горячо убежденных в своей причастности к героическому штурму цитадели гетеросексуальности, у них возникают фантазии, свойственные герметическим сектам посвященных: иллюзии относительно своей оригинальности и отваги - будто бы ими сказано новое слово, которого никто прежде не произносил, и раскрыто нечто остающееся скрытым от непосвященных. Эту веру в теоретическую оригинальность эксцентричного воображения можно поддерживать, только практикуя подозрительные «умолчания» о классических социологических подходах к анализу модерна. По-видимому, эксцентрическим теоретикам понадобится еще и обвинять авторов таких подходов в невежестве или предрассудках, помешавших им адекватно исследовать, как сформировалась современная концептуализация и организация сексуальности, где аналитики приписывают привилегированный статус собственному биологическому (sex) и социокультурному (gender) полу. Заявления, будто социологические классики молчат о поле и тендере, будто они «никогда не рассматривали социальное формирование современного порядка регуляции тела и сексуальности» [17, 167], безусловно ложны. Например, Георг Зиммель, ни разу не упомянутый ни участниками симпозиума, ни их излюбленными авторами, пространно, систематически и на протяжении всей карьеры писал о немецком женском движении своего времени, социальном производстве альтернативных кодов и концепций женственности, мужественности и эротизма, а также о теориях формирования половой идентичности, называемых теперь «эссенциализмом» и «конструктивизмом» (см. следующие работы Зиммеля [20]*).
* Некоторые из этих материалов стали доступны десять лет назад на английском языке (ел.: [21]).
Абсолютной убежденностью в правоте воображаемого этически просвещенного авангарда, атакующего морально обанкротившуюся ортодоксию, можно объяснить и курьезную предрасположенность эксцентричных теоретиков хвалить друг друга за «смелость» [17, 174; 9, 203; 13, IX- X], судя по всему - без малейшей иронии. Эксцентричные теоретики вращаются в кругу самых престижных американских институтов высшего образования, включая Ам-херст, Корнелл, Дьюк, университеты Джонса Хопкинса и Уэсли, Принстон и Йель. Их исследования публикуют ведущие журналы и академические издания и поддерживают такие организации, как «Американский совет научных обществ», «Институт высших исследований» и «Фонд Гуг-генхейма». Вероятно эти триумфы в устройстве карьеры должны оставлять всех не столь щедро взысканных институционной благодатью с открытым ртом от восхищения, удивления и зависти. Несмотря на приличные ассигнования на преподавание, интерес студентов, поощрительное отношение коллег и щедрое финансирование отпусков на разные внеучебные путешествия и исследования, эксцентричные теоретики упорно подчеркивают «риск», которому они подвергаются. Такое нагнетание псевдоопасностей, видимо, только и возможно на почве экстравагантного этического нарциссизма или колоссального самообмана.
Философский молот, которым размахивает эксцентричная теория, угрожая деструкцией принятым сексуальным таксономиям, - это радикальное истолкование доктрины социального конструктивизма. Оно заключается в том, что социальная реальность не является неким ансамблем объектов, существующих независимо от человеческих намерений, целей и интересов. Социальный мир надо понимать как артефакт, сконструированный или конституированный в процессе дискурсов и практик, продуцирующих социальные категории и таксономии. Поскольку социальные категории суть продукты человеческой деятельности, их можно считать просто «изобретениями». Социальные категории всегда искусствены и ни одна из них не обладает привилегией на окончательную «подлинность» или общезначимость. Все они контингентны*, произвольны, подвижны и неустойчивы, «постоянно открыты и оспоримы». Фактически нам говорят, что дестабилизация социальных категорий влечет за собой не только их произвольность и текучесть, но и их внутреннюю несовместимость, взаимопротиворечивость. Так как выбор среди социальных категорий нельзя обосновать логически или эмпирически, он Должен быть понят как «прагматическое» решение, основанное на соображениях «ситуационного преимущества, политического выигрыша и концептуальной полезности» [17, 173; 11, 241, 243]**.
* То есть способны быть замененными и другими. - Прим. перев.
** О роли социального конструктивизма в эксцентричной теории см.: [7; 8; 12]. Стивен Эпстайн, один из участников симпозиума, организованного журналом «Sociological Theory», утверждает в другом месте: «Поскольку существует логически когерентный теоретический взгляд на гомосексуальность именно как на гомосексуальность, он превращается в конструктивизм» (см.: [6, 13п]). О радикализации коструктивистской концепции социальной реальности см.: [16].
Если же «все культуры исторически контингентны и придуманы» и если социальный мир с определяющими его категориями пребывает в вечном движении, тогда то же самое должно быть верным и для сексуальных категорий и таксономии. Поэтому дестабилизация социального знания вдобавок ко всему прочему «проблематизирует гетеросексуальную точку отсчета», подвергая сомнению и ге-теросексуальность как всеобщую норму, и общезначимость дихотомии гетеросексуальное/гомосексуальное [19, 185; 11,241].
Вопреки навязчивым повторам своих утверждений об искусственности, контингентности и нестабильности социальных категорий, эксцентричные теоретики настаивают на уникальном концептуальном статусе сексуальности и наивысшей важности пола как главного ключа к социальной идентичности. Даже если «все культуры конструируются» и значения устанавливаются как результат «вечных притирок» социальных категорий друг к другу, «сексуальность и культура и далее будут центральными социальными темами». Отсюда следует, что категория сексуальности удержится «на переднем плане социальной теории» [11, 245].
Нижеследующий анализ сосредоточен на нескольких догматах эксцентричной теории: доктрине радикального конструктивизма; концепции социальной идентичности; принципе трансгрессии и эксцентричной концепции культуры.
Парадоксы радикального конструктивизма
Эксцентричная теория утверждает, что все социальные категории и концептуальные схемы суть социальные конструкты, произвольные измышления, не имеющие никакой обязывающей достоверности. Разумеется, радикальным конструктивизмом можно назвать также и концептуальную схему, придуманную социальными теоретиками, которые отвергают эмпирицистскую и реалистскую эпистемо-логию. Но если радикальный конструктивизм признает лишь чистые социальные конструкты, он не может притязать на какую-либо общезначимость. А это значит, что нет разумных оснований для предпочтения радикального конт-руктивизма любым другим способам анализа социальной реальности, включая и те, с которыми он несовместим. Радикальный конструктивизм, этот философский молот эксцентричной теории, рассыпается в пыль при попытке им воспользоваться.
Своим радикальным конструктивизмом эксцентричные теоретики намерены подорвать легитимность определенных «гегемонистских» категорий и дихотомий (вроде гете-росексуальности и бинарной оппозиции «гетеросексуальное/гомосексуальное»), попросту доказав, что они являются социальными конструктами. Но похоже, что эти теоретики недооценивают саморазрушительную силу собственной аргументации. По той же логике, наряду со всеми прочими социальными конструктами, лишается всякой достоверности и сам радикальный конструктивизм. Положение эксцентричной теории здесь безвыходное. Из посылок радикального конструктивизма следует, что он сам всего лишь социальный конструкт, после чего рушится его общезначимость и база эксцентричной теории.
Радикальный конструктивизм порождает также бесконечный регресс. Он предполагает, что данная социальная категория, например «гетеросексуальность», социально сконструирована из определенных практик и дискурсов. Эти практики и дискурсы, в свою очередь, социально сконструированы из других практик и дискурсов, которые сами сконструированы и т. д. Гетеросексуальность, практики и дискурсы, на которые она опирается, а также более отдаленные практики и дискурсы как основа первых - все это разоблачается как произвольные изобретения простым указанием на их социальную сконструированность. В принципе эта цепь доказательств бесконечна. Она либо уводит в дурную бесконечность, подрывая в этом попятном движении значимость каждой очередной категории, либо произвольно обрывает его, приписывая некую несоциально обусловленную значимость особо предпочитаемой категории, которая становится эпистемологическим неподвижным двигателем. Однако такое произвольное решение несовместимо с радикальным конструктивизмом. Вышеупомянутый регресс фатален для него, ибо и этот способ рассуждения не может уйти от судьбы любой другой концептуальной схемы. Он построен из социальных практик и дискурсов, которые также построены из других социальных практик и дискурсов, имеющих тот же гносеологический статус. Регресс к какой-то общезначимой практике или дискурсу, которые смогли бы обеспечить достаточную обоснованность радикальному конструктивизму, не может иметь успеха, так как, согласно самой же этой доктрине, такой практики или дискурса не существует. Поэтому радикальный конструктивизм может избежать подобного регресса и провозгласить свою общезначимость (тем самым отделяя себя от всех других концептуальных схем и освобождая себя от последствий собственных посылок), только если он решится противоречить самому себе. Выход не слишком удачный. Радикальный социальный конструктивизм либо порождает бесконечный регресс, отрицающий его притязания на общезначимость, либо, дабы пресечь эту нескончаемую редукцию, соглашается на противоречие самому себе.
Наконец, радикальный конструктивизм рефлексивно наносит удар по собственным притязаниям не только на общезначимость, но и на простую понятность. Если значимость всех социальных категорий подрывается указанием на то, что они социально сконструированы, то это распространяется и на категории, существенные для описаний строения общества, такие как понятия социального действия, социального смысла и социальных отношений. Если эти понятия лишить значимости, то понятие общества нельзя будет даже членораздельно выразить. В таком случае радикальный конструктивизм, который возможен лишь на базе какого-то понятия общества, недоступен разумному пониманию. В результате эта доктрина подрывает собственную логическую согласованность.
Парадоксы эксцентричной теории
Эксцентричные теоретики описывают свой проект на объективистском языке эпистемологического реализма, пытаясь тем самым охранить эксцентричную теорию от разрушительных следствии радикального конструктивизма. С одной стороны, эксцентричная теория проявляет особое нерасположение к бинарным оппозициям и, по-видимому, осуждает их все скопом, отдавая на расправу неумолимой логике радикального конструктивизма. С другой стороны, очевидно, что эксцентричная теория, в свою очередь, возможна лишь на базе оппозиций «эксцентричное/прямое» или «эксцентричное/ конвенциональное». Без этих или равноценных дихотомий эксцентричная теория не имела бы никакой опоры, чтобы начать свою атаку против общепринятой мудрости, и никаких позиций, с которых можно критиковать условные категории и переступать правила. Без какого-то эпистемологически привилегированного различения, на основе которого формируется понятие эксцентричности, соответствующая теория была бы невозможна [3, XV-XIX]. Эта теория вынуждена оберегать «универсализм эксцентричности» и предпосылки, на которые он опирается (включая центральное теоретическое положение категории сексуальности), от понятийного опустошения, производимого радикальным конструктивизмом. Короче говоря, эксцентричная теория проявляет пламенный энтузиазм, характеризуя на языке радикального конструктивизма все позиции, кроме одной. И эта одна позиция, конечно, та, которую она занимает сама.
Переиначив остроту Шопенгауэра, скажем, что радикальный конструктивизм - это не такси, из которого каждый может выйти, когда заблагорассудится. Цена, которую эксцентричная теория платит за свое освобождение из-под власти радикального конструктивизма, - непоследовательность. Из-за этой внутренней непоследовательности эксцентричная теория не в состоянии дать связный отчет о самой себе. Как могут эксцентричные теоретики избежать противоречия самим себе? Только оставаясь верными своим предпосылкам. Эксцентрики обязаны допускать, что бинарная оппозиция «эксцентричное/прямое» и понятие сексуальности - это просто социальные конструкты. То же самое верно для всех теоретических посылок эксцентричной теории, для понятий, используемых при построении этих посылок, и для критериев истинности и значимости, на которых основаны и ее посылки и понятия. Если строго следовать конструктивной логике и применять ее к самой эксцентричной теории, тогда проект такой теории предстанет всего лишь еще одним произвольным социальным изобретением. С логической точки зрения он имеет такой же непоследовательный теоретический статус как и все остальные позиции, отвергаемые эксцентриками. Результат? Эксцентричная теория оказывается либо самопротиворечивой, либо рефлексивно самоубийственной.
Парадокс идентичности
Чтобы свергнуть гегемонию гетеросексуальной идентичности в модернистской нормативной системе сексуальности, представители эксцентричной теории используют оружие радикального конструктивизма и предпринимают генеральное наступление против самого понятия социальной идентичности. Следуя логике радикального конструктивизма, они утверждают, что любая идентификация искусственна произвольна, непостоянна и самопротиворечива. Однако это мнимо универсальное развенчание понятия идентификации подрывает также идентичность самой эксцентричности и эксцентричного теоретика. Можно привести правдоподобные доводы в пользу того, что эксцентричная теория на ее теперешней программной и «прагматической» стадии служит, в основном, средством выделения, легитимации и навязывания идентичности эксцентричного теоретика. Это предположение способно объяснить примечательную склонность таких теоретиков к автобиографическим отступлениям и исповедальным примечаниям в их достаточно компактных, в остальном, теоретических писаниях. Эти личные добавки, как правило, затрагивают темы «Что я такое и как я вступил на этот путь» или «Во что я верю и почему это так важно» (см.: [19, 179 п2; 13, 54-63; 18])*
* Сидман признается в своей приверженности к «постмодерну», «прагматическим, оправдательным стратегиям, которые подчеркивают практический и риторический характер социального дискурса», а также прибегают к «генеалогиям, историческому деконструктивистскому анализу и социальным повествованиям местных рассказчиков», не задерживаясь ни для объяснений, зачем введены эти разнообразные элементы, ни для разбора их логической совместимости, по отдельности или в совокупности (см.: [18, 142 п58]). Если суть этого сидмановского исповедания веры в произнесении ритуальных заклинаний, по которым члены секты опознают друг друга, тогда вопросы логической согласованности и совместимости, необходимые при заявлении любой интеллектуально защитимой позиции, здесь, конечно, неуместны.
Но если всякая идентификация - это просто произвольный конструкт, почему мы должны всерьез воспринимать эксцентричную теорию и ее страдальцев?
На основании посылок самой эксцентричной теории, эксцентричный теоретик должен бы выглядеть как исторически контингентная, но очень свойственная концу XX в. разновидность экономически привилегированного и праздного интеллектуала, посвятившего себя профессиональному самоутверждению, поискам безопасности и престижа. Из-за преходящего и переменчивого характера всякой человеческой идентификации эксцентричные теоретики исчезнут, когда сойдут на нет удовлетворяющие их исторические условия существования. Эксцентричный тезис о самопротиворечивости идентичностей (нацеленный на изничтожение конвенциональных половых идентичностей, основанных на дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное») влечет даже более разрушительные последствия, чем названное выше. С таких позиций невозможно никакое последовательно проведенное понятие социальной идентичности, потому, что любое такое понятие будет противоречить самому себе. Этот тезис разрушает социальную идентичность эксцентричного и само понятие эксцентричности, на котором держится проект эксцентричной теории.
Парадокс трансгрессии
Главное критическое устремление эксцентричной теории - трансгрессия как беспощадная война со всеми социологическими категориями. Этот принцип влечет саморазрушительные последствия для программы эксцентричной теории. Атакуя все социологические категории, эксцентрическая теория неосторожно поражает и себя. Подобно теории Л. Троцкого о перманентной революции эксцентричная теория перманентного теоретического бунта самоубийственна в этой своей оргии многократного уничтожения всего без разбора. Например, ее представители отрицают положение, согласно которому сексуальность необходимо организована вокруг дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное». Они даже бросают вызов «режиму» сексуальности. Обе атаки предпринимаются от имени «всеобщей эксцентричности». Но она в эксцентричной теории имеет статус социологической категории - аксиоматической социологической категории par excellence. И, следовательно, «всеобщая эксцентричность» тоже становится жертвой всеобщего разорения, которым грозит социологии принцип трансгрессии.
Эксцентричная теория пускается в критику социологических категорий, чтобы лишить силы господствующие сексуальные таксономии. Из-за универсальных претензий этой критики она распространяется и на эксцентричную теорию. Поэтому, если воспринимать эту теорию серьезно, ее собственный принцип трансгрессии, дестабилизируя категории, обесценивает и саму теорию. В самом деле, если все социальные категории находятся в постоянном движении и не могут претендовать на общезначимость, то это же будет верным и для категорий, устанавливающих принцип трансгрессии. И опять эксцентричные теоретики поставлены здесь перед выбором между отречением от собственных предпосылок или принятием их самоубийственных следствий. Подобно философской доктрине радикального скептицизма, ставящей под сомнение все суждения, эксцентричная теория опровергает себя и тем самым не в состоянии породить никаких значимых критических последствий.
Парадокс эксцентричной культуры
Эксцентричная теория представляет культуру как изобретение. Все культурные артефакты суть исторически специфичные и произвольные продукты человеческой деятельности, ни один из которых не может притязать на общезначимость. По духу этой теории культуры каждая посылка эксцентричной теории осуждена на произвольность и познавательную бессвязность чистой выдумки. Радикальный конструктивизм, доктрина социальной идентичности, устанавливаемой путем «переговоров», и принцип трансгрессии - все это культурные изобретения, результаты особенных исторических условий, воздействующих на конкретных проводников эксцентричности. Как следствие, их притязания на общезначимость не более весомы, чем притязания отрицаемых ими позиций.
Так как сама эксцентричная теория культуры - тоже изобретение, она обесценивается подобной логикой рассуждения. Если культурные артефакты суть простые фабрикации, которым нельзя приписывать никакой общезначимости, тогда то же справедливо и для эксцентричной теории культуры. Она, подобно всем другим положениям эксцентричной теории, внутренне непоследовательна и не может быть изложена без самоопровержения.
Предостережение и заключение
Эксцентричные теоретики не смогут разделаться с этой критикой, сетуя, что она мол выражена в «фаллоцентрической» логике господства, являющейся продуктом модернистской гетеросексуальной интеллектуальности, что она несоизмерима с логикой эксцентричной теории и т. п. Вышеприведенные аргументы представляют собой имманентную критику, поражающую эксцентричных теоретиков их же собственным оружием, которое они выковали для битвы с империей зла, созданной гетеросексуальной социальной наукой. Разрабатывая лишь те предпосылки, которые извлечены из самой эксцентричной теории, мы атакуем ее согласно законам стратегии, установленным ее представителями для расправы со своими критиками. Эксцентричные теоретики торжественно возвещают также о своих ожиданиях, что их будут воспринимать всерьез, и пытаются определенными аргументами обосновать эти ожидания. Данный очерк, заимствуя их теоретический инструментарий, доказывает их полную несостоятельность.
Эксцентричную теорию губит то, что она нарушает некое правило, достаточно важное для всех социокультур-ных наук, чтобы заслуживать особого имени. Назовем его правилом теоретической рефлексивности и сформулируем так: любой теоретический принцип в социокультурных науках, претендующий на всеобщность, рефлексивен в том смысле, что он должен быть истинным и для самого себя. Такой принцип следует применять к нему самому, т. е. референты или объекты в сфере его действия должны включать сам этот принцип. Это правило основывается на том соображении, что всякое теоретическое утверждение в социокультурных науках, наделенное свойством неограниченной всеобщности, будет вынуждено ссылаться на самое себя. Поскольку социокультурные теории тоже суть социокультурные артефакты, то теория, притязающая на неограниченную всеобщность, должна обладать этим свойством самореферентности: объекты, охватываемые данной теорией, включают саму теорию. Именно в этом смысле истинность такой теории зависит от ее рефлексивности. Правило теоретической рефлексивности определяет источник саморазрушительных следствий эксцентричной теории. Так как ее посылки не могут ссылаться на самих себя, не порождая парадоксов, они не выдерживают проверки на рефлексивность.
Без сомнения существует некая причина, оправдывающая «эксцентричную манеру теоретизирования». В принципе, однако, она обязывает к практическому воплощению не больше, чем причина, побуждающая делать теорию увечной, неполноценной или ослабленной. Возможных направлений для развития социальной теории, хотя и не бесконечно много, но все-таки столько, что это поистине способно вызвать ужас. Вебер писал: «Жизнь в ее иррациональной действительности и содержащиеся в ней возможные значения неисчерпаемы...» [1, 413]. Что из этого следует? «Меняются мыслительные связи, в рамках которых «исторический индивидуум» рассматривается и постигается научно. Отправные точки наук о культуре будут и в будущем меняться до тех пор, пока китайское окостенение духовной жизни не станет общим уделом людей и не отучит их задавать вопросы всегда одинаково неисчерпаемой жизни» [1, 383].
Применительно к любого рода создаваемой теории, каковы бы ни были ее внетеоретические интересы и ее ценность в деле достижения каких-то политических целей, подтверждения социальной идентичности или карьерного продвижения, элементарный урок данного очерка гласит: теоретик должен располагать концептуальным аппаратом, который не рушится под тяжестью собственных противоречий.
ЛИТЕРАТУРА
1.Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
2.Butler J. Gender trouble. N.Y., 1990.
3.Doty A. Making things perfectly queer. Minneapolis, 1993.
4.Duggen L. Making it perfectly queer // Socialist Review. 1992. № 22.
5.Epstein S. A queer encounter: Sociology and the study of sexuality II Sociological Theory. 1994. № 12. P. 188-202.
6.Epstein S. Gay politics, ethnic identity: The limits of social constructionism // Socialist Review. 1987. Vol. 17. P. ‘l3n.
7.Greenberg D. The construction of homosexuality. Chicago, 1988.
8.Halperin D. One hundred years of homosexuality. N.Y., 1990.
9.Ingraham C. The heterosexual imaginary: Feminist sociology and theories of gender // Sociological Theory. 1994. №>’l2. P. 203-219.
10.Inside/out / Ed. by Fuss D. N.Y., 1991.
11.IrvineJ. M. A place in the rainbow: Theorizing lesbian and gay culture // Socilogical Theory. 1994. No 12. P. 232-248.
12.Kitzinger C. Social construction of lesbianism. L., 1987.
13.Kosofsky-Sedgwick E. Epistemology of the closet. Berkley; Los Angeles, 1990.
14.Lauretis T. de. Queer theory: Lesbian and gay sexualities // Differences. 1991. №3. P. Ш-XVIII.
15.Namaste K. The politics of inside/out: Queer theory, post-structuralism, and a sociological approach to sexuality // Sociologi-cal Theory. 1994. № 12. P. 220-231.
16.Pollner M. The reflexivity of constructionism and the construction of reflexivity // Constructionist controversies: Issues in social problem theory / Ed. by Gale Miller, James A. Holstein. N.Y., 1993.
17.Seidman S. Symposium: Queer theory/sociology (A dialogue) // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-177.
18.Seidman S. Identity and politics in a «postmodern» gay culture: Some historical and conceptual notes // Fear of queer pla-net: queer politics and social theory / Ed. by Michael Warner. Min-neapolis, 1993. P. 105-142.
19.Stein A., Plummer K. «I can’t even think straight»: «Queer» theory and the missing sexual revolution in sociology // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 178-187.
20.Simmel G. Die Verwandtenehe // Georg Simmel: Aufsatze und Abhand-lungen, 1894 bis 1900 / Ed. by Heinz-Jurgen Dahme, David P. Frish by. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 5. Frankfurt, 1992 [1894]. S. 9-36; Idem. Der Militarismus und die Stellung der Frauen // Ibid. S. 37-51; Idem. Der Frauenkongress und die Sozialdemokratie //Die Zukunft. 1896. Bd. 17. S. 80- 84; Idem. Die Rolle des Geldes in den Beziehungen der Geschlechter. Fragment aus einer «Philosophic des Geldes» // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1894 bis 1900 [1898]. S. 246-265; Idem. Philosophic der Geschlechter. Fragmente 7 Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen. 1901-1908 / Ed. by Alessandro Cavalli, Volkhard Krech. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 8. Frankfurt. 1993 [1906]. S. 74-81; Idem. Die Frau und die Mode // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1901-1908. [1908]. S. 344- 347; Idem. Das Relative und das Absolute im Geschlechterproblem •” Idem. Philosophische Kultur. Leipzig, 1911. S. 67-100; Idem. Die Koketterie // Ibid. S. 101 - 123; Idem. Weibliche Kultur // Ibid. S. 278-319; Idem. Uber die Liebe (Fragment) // Fragmente und Aufsatze aus dem Nachlass und Ve-roffentlichungen der letzten Jahre. Mimchen, 1923. S. 47-123; Idem. Der platonische und der moderne Eros // Ibid, S. 125-145.
21.Simmel G. On women, sexuality, and love / Translated by Guy Oakes. New Haven, 1984.
22.Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-248: [17; 19; 5; 9; 15; 11].
Из социологической классики
Георг Зиммель ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕГ
ПРЕДИСЛОВИЕ
У всякой области исследований имеются две границы, пересекая которые мысль в своем движении переходит из точной формы в философскую. Демонстрация и проверка предпосылок познания вообще, а также аксиом каждой специальной области [знания] происходит уже не в пределах такой специальной сферы, но в некоторой более принципиальной науке, бесконечно удаленной целью которой является беспредпосылочное мышление (отдельные науки, и шага не могущие сделать без доказательства, то есть без предпосылок содержательного и методического характера, не ставят себе такой цели). Поскольку философия демонстрирует эти предпосылки и исследует их, она не может устранить таковые и для себя самой; однако именно здесь всякий раз находится конечный пункт познания, где и вступает в силу и властно повелевает нами призыв к недоказуемому, тот пункт, который - в силу прогресса доказуемости - никогда не фиксирован безусловно. Если начала сферы философской здесь как бы обозначают нижнюю границу области точного [знания], то верхняя ее граница проходит там, где содержания позитивного знания, всегда фрагментарные, восполняются завершающими понятиями, [образуя вместе с ними] некую картину мира, и [здесь же они] востребуют соотнесения с целостностью жизни. Если история наук действительно показывает, что философский род познания примитивен, что это - не более чем приближение <Uberschlag> к явлениям в общих понятиях, то все-таки этот предварительный процесс еще неизбежен по отношению к некоторым вопросам, в особенности, касающимся оценок и самых общих связей духовной жизни, [т. е. вопросам,] на которые у нас до сих пор нет точного ответа, но от которых невозможно отказаться. Наверное, даже самая совершенная эмпирия никогда не заменит философию как толкование, окрашивание и индивидуально избирающее акцентирование действительного, подобно тому, как совершенство механической репродукции явлений не сделает излишним изобразительное искусство.
Из этого определения местоположения философии в целом вытекают и те права, которыми она пользуется применительно к отдельным предметам. Если философия денег должна существовать, то располагаться она может только за пределами обеих границ экономической науки. С одной стороны, она может продемонстрировать те предпосылки, заложенные в душевной конституции, в социальных отношениях, в логической структуре действительностей и ценностей, которые указывают деньгам их смысл и практическое положение. Это - не вопрос о происхождении денег, который относится к истории, а не к философии. И как бы высоко ни ставили мы те выгоды, которые понимание некоторого явления извлекает из исторического становления последнего, все-таки содержательный смысл и значение ставшего часто основывается на связях понятийной, психологической, этической природы, которые не временны, но чисто объективны* и, хотя и реализуются историческими силами, но не исчерпываются случайностью последних. Например, значимость, достоинство, содержание права или религии, или познания всецело находятся за пределами вопроса о путях их исторического осуществления. Таким образом, в первой части этой книги деньги будут выводиться из тех условии, на которых основывается их сущность и смысл их наличного бытия.
* В оригинале: «sachlich», от многозначного «die Sache» - «вещь», «предмет», «дело». «Sachlich» было бы правомерно переводить как «вещный», «вещественный», «объективный», «предметный» и «деловой». Как правило, ради сохранения единства словоупотребления, мы используем термин «вещественный». Предложенный перевод имеет, разумеется, тот недостаток, что собственно вещь - осязаемая, вожделеемая и т. п. - обозначается у Зиммеля словом «Ding», от которого есть и соответствующие прилагательные («dinglich», «dinghaft»). Кроме того, Зиммелю, особенно в последних главах его сочинения, отнюдь не чуждо использование «Sach-lichkeit» в смысле деловитости и объективности. Однако, в тех главах, где трактуется фундаментальная философская проблематика, образование прилагательного от «вещь» нам показалось, в общем, более адекватным, нежели чем от «объект» или «предмет». В ряде случаев перевод оговаривается.
Что же касается исторического явления денег, идею и структуру которого я пытаюсь вывести из ценностных чувств, практики, имеющей дело с вещами <Dinge>, и взаимоотношений людей как предпосылки этого явления, то вторая, синтетическая часть прослеживает его воздействие на внутренний мир: жизнечувствие индивидов, сплетение их судеб, общую культуру. Здесь, таким образом, речь идет, с одной стороны, о связях, которые по своей сути точны и могли бы быть исследованы по отдельности, но при нынешнем состоянии знания недоступны для такого исследования и потому должны рассматриваться только в соответствии с их философским типом: в общем приближении, через изображение отдельных процессов отношениями абстрактных понятий. С другой стороны, речь идет о душевном причинении, которое для всех эпох будет делом гипотетического толкования и художественного воспроизведения, неотделимого в полной мере от его индивидуальной окраски. Таким образом, переплетение <Verzweigung> денежного принципа с развитиями и оценками внутренней жизни находится столь же далеко позади экономической науки о деньгах, насколько далеко впереди нее была первая проблемная область, которой посвящена первая часть книги. Одна из них должна позволить понять сущность денег, исходя из условий и отношений жизни вообще, другая же, наоборот, - понять сущность и форму последней, исходя из действенности денег.
В этих исследованиях нет ни строчки, написанной в духе национальной экономии. Это значит, что явления оценки и покупки, обмена и средств обмена, форм производства и стоимости состояний, которые национальная экономия рассматривает с одной точки зрения, рассматриваются здесь совершенно с другой. Лишь то, что обращенная к национальной экономии сторона их более всего интересна практически, основательнее всего разработана, доступна Для самого точного изображения, - лишь это обосновало мнимое право рассматривать их просто как «факты национальной экономии». Но точно так же, как явление основателя религии отнюдь не только религиозно, но может быть исследовано и в категориях психологии, а возможно Даже и патологии, всеобщей истории, социологии; подобно тому, как стихотворение - это не только факт истории литературы, но и факт эстетический, филологический, биографический; подобно тому, как вообще точка зрения одной науки, всегда основанной на разделении труда, никогда не исчерпывает реальности в целом - так и то, что два человека обмениваются своими продуктами друг с другом, отнюдь не есть только факт национальной экономии, ибо такого факта, содержание которого исчерпывал бы его национально-экономический образ, вообще не существует. Напротив, всякий обмен может столь же легитимно рассматриваться как факт психологический, факт истории нравов и даже как факт эстетический. И даже будучи рассмотрен с точки зрения национальной экономии, он не заводит в тупик, но и в этой форме <Formung> становится предметом философского рассмотрения, которое проверяет свои предпосылки - на нехозяйственных понятиях и фактах, а свои следствия - для нехозяйственных ценностей и взаимосвязей.
Деньги в этом круге проблем представляют собой лишь средство, материал или пример изображения тех отношений, которые существуют между самыми внешними, реалистическими, случайными явлениями и идеальными потенциями бытия, глубочайшими течениями индивидуальной жизни и историей. Смысл и цель целого состоит лишь в том, чтобы с поверхности хозяйственных явлений прочертить линию, указывающую на конечные ценности и значимости <Bedeutsamkeiten> всего человеческого. Абстрактное философское построение системы держится на такой дистанции от отдельных явлений, особенно практического существования, чтобы, собственно, лишь постулировать их избавление от, на первый взгляд, изолированности, недуховности и даже отвратности <Widrigkeit>. Нам же придется совершить это высвобождение на примере такого явления, которое, как деньги, не просто демонстрирует безразличие чисто хозяйственной техники, но, так сказать, есть самое индифференция, поскольку все его целевое значение заключено не в нем самом, но в его переводе в другие ценности. Итак, поскольку здесь предельным образом напрягается противоположность между, по видимости, самым внешним и несущностным и внутренней субстанцией жизни, то и примирение ее должно быть самым действенным, если эта частность не только переплетается со всем объемом духовного мира как его носитель и несомое, но и открывает себя как символ существенных форм его движения. Итак, единство наших исследований состоит совсем не в утверждении о единичном содержании знания и постепенно вырастающих его доказательств, но в предлагаемой возможности в каждой частности жизни обнаруживать целостность ее смысла. - Необыкновенное преимущество искусства перед философией состоит в том, что оно каждый раз ставит перед собой частную, узко очерченную проблему: некоторого человека, ландшафт, настроение - и затем заставляет ощущать всякое расширение таковых до [степени] всеобщего, всякое прибавление великих черт мирочувствия как некое обогащение, подарок, словно бы как незаслуженное счастье. Напротив, философия, проблемой которой сразу же является вся совокупность существования, обычно сужается по отношению к последней и дает меньше, чем она, как кажется, обязана давать. Итак, здесь, напротив, проблему пытаются умалить и ограничить, чтобы отдать ей должное, расширяя ее и выводя к тотальности и самому всеобщему.
В методическом аспекте это намерение можно выразить так: под исторический материализм следует подвести еще один этаж, таким образом, чтобы обнаружилась объяснительная ценность включения хозяйственной жизни в [число] причин духовной культуры, но сами эти хозяйственные формы постигались как результат более глубоких оценок и течений, психологических и даже метафизических предпосылок. Для практики познания это должно разворачиваться в бесконечной взаимообразности: к каждому истолкованию некоторого идеального образования через некоторое экономическое должно присоединяться требование понимать это последнее, исходя, в свою очередь, из более идеальных глубин, в то время как для них опять-таки должен быть найден всеобщий экономический фундамент, и так далее до бесконечности. В такой альтерации и взаимопоглощении принципов познания, категориально противоположных друг другу, единство вещей, кажущееся нашему познанию неуловимым и все же обосновывающее их взаимосвязь, становится для нас практическим и Жизненным.
Обрисованные таким образом намерения и методы не могли бы претендовать ни на что принципиальное, если бы не способны были послужить содержательному многообразию основных философских убеждений. Подключение частностей и поверхностных явлений жизни к ее глубочайшим и сущностнейшим движениям и истолкование их в соответствии с ее совокупным смыслом может совершаться и на почве идеализма, и на почве реализма, рассудочной или волевой, абсолютизирующей или релятивистской интерпретации бытия. То, что нижеследующие исследования выстраиваются на [фундаменте] одной из этих картин мира, которую я считаю самым адекватным выражением современного содержания знания и направления чувств, а противоположная картина мира самым решительным образом исключается, может в худшем случае [привести к тому, что] им будет отведена роль школьного примера, хотя и неудовлетворительного в содержательном отношении, но именно поэтому позволяющего выступить на передний план их методическому значению как форме того, что в будущем окажется правильным.
В этом новом издании изменения нигде не касаются существенных мотивов. Однако я все-таки попытался, приводя новые примеры и разъяснения, а прежде всего, - углубляя основоположения, увеличить шансы на то, что мотивы эти будут поняты и приняты.
Глава первая ЦЕННОСТЬ И ДЕНЬГИ
I
Вещи как естественные реальности включены в порядок, основу которого составляет предпосылка о единстве сущности как носителе всего многообразия их свойств: равенство перед законом природы, постоянство сумм вещества и энергии, преобразование друг в друга самых разных явлений примиряют их, на первый взгляд, удаленность друг от друга, превращая ее в совершенное родство, в равноправие всех. Правда, при более близком рассмотрении это понятие означает только, что произведенное механизмом природы находится, как таковое, за рамками вопроса о каком бы то ни было праве: их [вещей] несомненная определенность не оставляет места какому бы то ни было выделению, могущему служить подтверждением или умалением <Abzug> их бытия или так-бытия. Однако мы не удовлетворяемся этой равнодушной необходимостью, составляющей естественнонаучный образ вещей. Совсем наоборот: невзирая на их порядок в этом ряду, мы сообщаем их внутреннему образу некий иной порядок, в котором всеобщее равенство полностью нарушено, в котором наибольшее возвышение одного пункта соседствует с самым решительным унижением другого и глубочайшая сущность которого состоит не в единстве, но в различии, ранжировании по ценностям. То, что предметы, мысли, события Ценны, совершенно нельзя прочитать по их чисто естественному существованию, а их порядок согласно ценностям сильнее всего отклоняется от порядка естественного. Природа бесчисленное множество раз уничтожает то, что, с точки зрения его ценности, могло бы требовать наибольшей продолжительности [существования], и она консервирует самое неценное и даже то, что отнимает у ценного жизненное пространство <Existenzraum>. Тем самым не утверждается, будто два этих ряда враждебны друг другу и полностью исключают один другой. Такое утверждение означало бы, что они все же как-то соотносятся между собой - а результатом был бы мир дьявольский, но, с точки зрения ценности, определенный, хотя и с противоположным знаком. Нет, как раз наоборот: отношение между ними абсолютно случайно. С тем же безразличием, с каким природа предлагает нам предметы наших ценностных оценок, она в другой раз отказывает нам в них, так что именно возникающая иногда гармония обоих рядов, реализация рядом действительности требований, источником которых является ряд ценности, обнаруживает всю беспринципность их отношения не менее, чем прямо противоположный случай. Мы можем осознавать одно и то же жизненное содержание и как действительное, и как ценное; но его внутренний удел в первом и во втором случае имеет совершенно разный смысл. Ряды естественных событий можно было бы описать с совершенной, без пробелов, полнотой, но при этом ценность вещей не обнаружится нигде - и точно так же шкала наших оценок сохраняет свой смысл, независимо от того, как часто их содержание обнаруживается в действительности и происходит ли это вообще. К, так сказать, готовому, всесторонне определенному в своей действительности, объективному бытию только добавляется оценка, как свет и тень, источником которых не может быть оно само, но только что-то еще. Однако отсюда вовсе не следует делать вывод, будто бы образование ценностного представления как психологический факт тем самым уже не подвластно становлению в соответствии с законами природы. Сверхчеловеческий дух, который бы с абсолютной полнотой понимал мировой процесс <Weltgeschehen> в соответствии с законами природы, нашел бы среди фактов этого процесса также и тот, что у людей есть ценностные представления. Но эти последние не имели бы для него, познающего чисто теоретически, никакого смысла и никакой значимости, помимо своего психического существования. За природой как механической каузальностью [мы] отрицаем здесь только вещественное, содержательное значение ценностного представления, в то время как душевный процесс, делающий это содержание фактом нашего сознания, все равно принадлежит природе. Оценка как действительный психологический процесс <Vorgang> есть часть природного мира; но то, что мы имеем в виду, [совершая оценку,] ее понятийный смысл, есть нечто независимо противостоящее этому миру, столь мало являющееся частью его, что, напротив, само оно, будучи рассмотрено с особой точки зрения, представляет собой целый мир. Редко отдают себе отчет в том, что вся наша жизнь, со стороны сознания, протекает в чувствах ценности и соображениях о ценности и вообще обретает смысл и значение лишь благодаря тому, что механически развертывающиеся элементы действительности, помимо своего вещественного содержания <Sachgehalt>, имеют для нас бесконечно многообразные меры и виды ценности. Всякий миг, когда душа наша не просто незаинтересованно отражает действительность (чего она, пожалуй, не делает никогда, ибо даже объективное познание может проистекать лишь из некоторой оценки этой действительности), она обитает в мире ценностей, который заключает содержания действительности в совершенно автономный порядок.
Тем самым ценность в некотором роде образует противоположность бытию, именно как охватывающую форму и категорию картины мира ее можно многократно сравнивать с бытием. Кант подчеркивал, что бытие не есть свойство вещей; ибо если я говорю об объекте, который прежде существовал только в моих мыслях, что он существует, то он тем самым не обретает новых свойств; потому что иначе существовала бы не та же самая вещь, которую я прежде мыслил, но иная. Так и благодаря тому, что я называю некую вещь ценной, у нее не возникает никаких новых свойств; ибо она только и ценится за те свойства, которыми обладает: именно ее бытие, уже всесторонне определенное, восходит в сферу ценности. Основанием здесь служит одно из тех [совершаемых] нашим мышлением членений, которые достигают наибольшей глубины. Мы способны мыслить содержания картины мира, полностью отвлекаясь от их реального существования или несуществования. Комплексы свойств, которые мы называем вещами, со всеми законами их взаимосвязи и развития, мы можем представлять себе в их чисто вещественном, логическом значении и, совершенно независимо от этого, спрашивать, осуществлены ли эти понятия или внутренние созерцания, [и если да,] то где и как часто. Подобно тому, как этого содержательного смысла и определенности объектов не касается вопрос о том, обнаруживаются ли они затем в бытии, так же и не затрагивает их и другой [вопрос]: занимают ли они место, и какое [именно], на шкале ценностей. Если же, с одной стороны, речь у нас должна идти о теории, а с другой, - о практике, то мы должны вопрошать эти содержания мышления и о том, и о другом, и в обоих аспектах ни одно из них не может уйти от ответа [на эти вопросы]. Напротив, надо, чтобы можно было недвусмысленно высказаться о бытии или небытии каждого из них, и каждый должен для нас занимать совершенно определенное место на шкале ценностей - начиная от высших и, далее, через безразличие - к негативным ценностям; ибо безразличие есть отказ от оценки, который по существу своему может быть очень позитивным, но за этим отказом всегда кроется возможность интереса, которой только не пользуются в данный момент. Конечно, в принципиальном значении этого требования, обусловливающего всю конституцию нашей картины мира, отнюдь ничего не меняется оттого, что наших средств познания очень часто не хватает, чтобы решить, насколько реальны понятия, и столь же часто [недостаточны] объем и надежность наших чувств для ценностного ранжирования вещей, особенно устойчивого и общезначимого. Миру только понятий, вещных качеств и определений противостоят великие категории бытия и ценности, всеохватные формы, которые берут свой материал из этого мира чистых содержаний. Общий характер обоих миров - фундаментальность, т. е. несводимость одного к другому или к более простым элементам. Поэтому непосредственно бытие какой-либо вещи совершенно невозможно доказать логически; напротив, бытие есть изначальная форма наших представлений, которая воспринимается, переживается, принимается на веру, но не может быть дедуцирована для того, кто еще не знает о ней. Если только однажды неким деянием, внеположным логическому, эта форма ухватила отдельное содержание, то логические связи вбирают и несут ее дальше, докуда достают они сами. Так что мы, как правило, можем, конечно, сказать, почему мы принимаем некую определенную действительность: потому что мы уже приняли некую иную действительность, определенность которой связана с первой через ее содержание. Однако действительность этой последней может быть доказана подобного же рода сведением <Zuruckschiebung> к действительности еще более фундаментальной. Но у этого регресса должен быть последний член, бытие которого дано только непосредственным чувством убеждения, утверждения, признания, точнее говоря: [оно дано именно] как такое чувство. Точно так же относится и ценность к объектам. Все доказательства ценности последних означают лишь принуждение признать уже предполагаемую для какого-либо объекта и в настоящий момент несомненную ценность также и за другим, ныне сомнительным объектом. О мотивах, по которым мы это делаем, следует сказать ниже; здесь же мы ограничимся только следующей констатацией: то, что мы усматриваем путем доказательств ценности, есть всегда лишь перенос определенной ценности на новые объекты; напротив, ни существо самой ценности, ни основание Того, почему она изначально прилепилась <geheftet> к этому объекту, который затем излучает ее на другие объекты, мы не усматриваем.
Если только имеется некоторая ценность, то пути ее осуществления, ее дальнейшее развитие можно понять рассудочным образом, ибо теперь она следует - по крайней мере, частично <abschnittsweise> - структуре содержаний действительности. Но что она вообще имеется, - это есть первофеномен. Все дедукции ценности позволяют лишь понять условия, при которых она появляется*, в конечном счете, без какого бы то ни было посредства, не будучи, однако, продуктом этих условий, - подобно тому, как все теоретические доказательства могут только подготовить условия, при которых наступает это чувство утверждения или бытия-присутствия <Dasein>.
* В оригинале: «auf diehiner sich [...] einstellt». «Sicheinstellen» может быть переведено как «наступать», «появляться», но не в смысле возникновения из ничего, атак, как наступает весна или приходят гости. «Sicheinstellen auf» обычно переводится как «настраиваться на», «приспосабливаться к». Поскольку ценности противоположны бытию, нельзя сказать, что они «появляются» или «возникают». Они также и не «приспосабливаются» к ситуациям. Но только при определенных условиях можно сказать, что «имеется» («gibt es») ценность.
Сколь мало умели сказать, что же есть собственно бытие, столь же мало могут ответить на этот вопрос и применительно к ценности. И именно поскольку они [(бытие и ценность)] относятся к вещам формально тождественным образом, постольку они так же чужды друг другу, как, по Спинозе, [чужды друг другу] мышление и протяжение: так как оба они выражают одно и то же, абсолютную субстанцию, но каждое своим собственным образом и каждое само по себе полностью, то одно никогда не сможет перейти в другое. Они никогда не соприкасаются, потому что вопрошают понятия вещей о совершенно различном. Но этим рядоположением без соприкосновения мир отнюдь не разорван, [не превращен в] в стерильную двойственность, которая не позволяет потребностям духа успокоиться в единстве - даже если его судьбой и формулой его поисков было бы бесконечное движение от множества к единству и от единства к множеству. Выше ценности и действительности расположено то, что обще им обеим: содержания, - то, что Платон, в конечном счете, подразумевал под «идеями». Это нечто такое в действительности и в наших оценках, что может быть обозначено, нечто качественное, непременно выражаемое в понятиях, то, что равным образом может войти как в тот, так и в другой порядок. Однако ниже ценности и действительности располагается то, чему общи оба этих порядка: душа, которая вбирает и то, и другое в свое таинственное единство или порождает их из него. Действительность и ценность - как бы два различных языка, на которых логически взаимосвязанные содержания мира, значимые в его идеальном единстве, как говорят, его «что», делаются понятными единой душе - или же языки, на которых может выразить себя душа как чистый, еще вне этой противоположности находящийся образ этих содержаний. И, быть может, оба совокупных представления <Zu-sammenfassungen> этих содержаний, познающее и оценивающее, еще раз охватываются метафизическим единством, для которого нет подходящего слова в языке, разве что среди религиозных символов. Быть может, имеется основание мира, с точки зрения которого воспринимаемые нами чуждость и расхождения между действительностью и ценностью, уже не существуют, где оба ряда обнаруживают себя как один и тот же - потому ли, что это единство вообще не затрагивается данными категориями и с благородным безразличием возвышается над ними, либо же потому, что оно означает совершенно гармоническое, во всех точках однородное переплетение обоих, которое искажается лишь нашим способом постижения, словно бы испорченный зрительный аппарат разнимает его на отдельные куски и противоположные ориентации.
Обычно характер ценности, как он до сих пор проявлялся по контрасту с действительностью, называют ее субъективностью. Поскольку один и тот же предмет может в одной душе обладать ценностью наивысшей степени, в другой же - самой низшей, а, с другой стороны, всестороннее, исключительное многообразие объектов прекрасно совмещается с их равноценностью, то кажется, будто основанием оценки может тогда служить только субъект с его нормальными или совершенно особенными, постоянными или меняющимися настроениями и способами реагирования. Вряд ли стоит упоминать о том, что эта субъективность ничего не имеет общего с той, которой препоручен был весь мир как «мое представление». Ибо субъективность, о которой говорят применительно к ценности, противопоставляет ее готовым, данным объектам, все равно, каким образом они появились. Иными словами, субъект, объемлющий все объекты, есть иной, чем тот, который противопоставляет себя им, та субъективность, которую ценность разделяет со всеми объектами, при этом вообще не учитывается. Субъективность ценности не может также иметь смысл произвола: вся эта независимость от действительного не означает, что воля с необузданной и прихотливой свободой могла бы распределять ценность, [помещая ее] то туда, то сюда. Напротив, сознание предна-ходит ее как факт, в котором он непосредственно может изменить столь же мало, как и в действительностях. Если исключить эти значения, то субъективность ценности первоначально сохранит лишь значение негативное: то, что ценность не в том же смысле присуща самим объектам, как цвет или температура; ибо эти последние, хотя и чувственными свойствами <Sinnesbeschaffenheiten>, все-таки сопровождаются чувством непосредственной зависимости от объекта - чувством, легко отказываться от которого по отношению к ценности нас научает видимое безразличие между рядами действительности и ценности. Однако более существенны и более плодотворны, чем это определение, те случаи, когда психологические факты их, как кажется, все-таки опровергают.
В каком бы эмпирическом или трансцендентальном смысле ни говорили о «вещах» <Dinge> в отличие от субъекта - «свойством» их является отнюдь не ценность, но пребывающее в субъекте суждение о них. Однако ни более глубокий смысл и содержание понятия ценности, ни его значение в пределах индивидуальной душевной жизни, ни практически-социальные события и формы <Gestaltungen>, которые сопряжены с ним, не понимаются сколько-нибудь удовлетворительным образом, если отвести этому понятию место в «субъекте». Путь к такому пониманию лежит в слое <Schicht>, с точки зрения которой эта субъективность кажется чем-то всего лишь преходящим и, собственно, не очень существенным.
Размежевание субъекта и объекта далеко не столь радикально, как можно подумать, исходя из вполне оправданного членения по этим категориям и мира практического, и мира научного. Напротив, душевная жизнь начинается с состояния неразличенности, в котором Я и его объекты еще покоятся в нераздельности, в котором впечатления или представления наполняют сознание, причем носитель этих содержаний еще не отделяет себя от них. Что в актуально определенном, действительном в данный момент состоянии обладающий субъект может быть отличен от содержания, которым он обладает, есть только вторичное сознание, дополнительное разделение. Развитие явно ведет part passu* к тому, что человек говорит самому себе «Я» и признает сущие для себя** объекты вне этого Я. И если в метафизике иногда бытует мнение, что трансцендентная сущность бытия абсолютно едина, [что она -] по ту сторону противоположности субъекта и объекта, то для этого обнаруживается психологический pendant***, [когда душа бывает] просто, примитивно заполнена содержанием представлений, что можно наблюдать у ребенка, который еще не говорит о себе «Я», и что в рудиментарной форме, видимо, сопутствует нам всю жизнь. Единство, из которого категории субъекта и объекта развиваются сначала в связи друг с другом, в ходе процесса, который еще нуждается в объяснении, - это единство лишь потому кажется нам субъективным, что мы подходим к нему с понятием объективности, которое вырабатывается лишь вполедствии, а для единств такого рода у нас вообще нет правильного выражения, и мы имеем обыкновение называть их по одному из односторонних элементов, взаимодействием которых они кажутся в последующем анализе. Так, утверждали, что действование по своей абсолютной сущности всегда совершенно эгоистично - в то время как эгоизм имеет понятное содержание лишь в рамках действования и в про-тивоположность альтруизму как своему корреляту; так, пантеизм назвал всеобщность бытия Богом, позитивное понятие которого можно обрести, однако же, только дистанцировавшись от всего эмпирического. Это эволюционистское соотнесение субъекта и объекта повторяется, наконец, в самых крупных размерах: духовный мир классической древности существенным образом отличается от Нового времени, поскольку лишь это последнее привело, с одной стороны, к самому глубокому и отчетливому понятию «Я», предельно заостренному в том неведомом древности значении, [какое придается] проблеме свободы, а с другой стороны, - к самостоятельности и мощи понятия «объект», выраженному в представлении о нерушимой законосообразности природы. Древность еще не так далеко, как последующие эпохи, отошла от состояния нераз-личенности, в котором содержания представляются просто, без расчленяющего их проецирования на субъект и объект.
* «В той же мере», «равным образом» (лат.).
** «Для себя» и «в себе» - устойчивые переводы для немецких «fur sich» и «an sich». Тем не менее в ряде случаев Зиммель явно использует эти выражения, не вкладывая в них большой философский смысл, что позволило предложить более удобочитаемый перевод: «сам (сама, само) по себе». Однако, выражение «в себе и для себя» переводится только традиционным образом.
*** Здесь: «пара», «соответствие» (фр.).
Основанием этого расходящегося развития представляется один и тот же, но словно бы действующий в различных слоях мотив. Ибо осознание субъектности само уже есть объективация. Здесь заключен первофеномен личностной формы духа; то, что мы можем сами себя наблюдать, знать, оценивать как некий «предмет», что мы все-таки разлагаем Я, воспринимаемое как единство, на представляющий Я-субъект и представляемый Я-объект, причем оно из-за этого отнюдь не теряет своего единства, а, напротив, собственно, только и осознает себя в этой внутренней игре противоположностей <Gegenspiel>, - именно это и является фундаментальным деянием нашего духа, определяющим все его формообразование <Gestammg>. Обоюдное требование субъектом объекта и объектом субъекта здесь словно бы сходится в некоторой точке, оно овладевает самим субъектом, которому обычно весь мир противостоит как объект. Таким образом у человека, коль скоро он осознает сам себя, говорит сам себе «Я», имеется основополагающая форма <Form> отношения к миру, так реализует он свое восприятие мира. Но прежде нее, как по смыслу, так и по душевному развитию, имеет место простое представление содержания, не вопрошающее о субъекте и объекте и еще не разделенное между ними. А с другой стороны, само это содержание как логическое, понятийное образование, ничуть не менее внеположно решению, выбирающему между субъективной и объективной реальностью. Мы можем мыслить любой и каждый предмет исключительно в соответствии с его определениями и их взаимосвязью, совершенно не задаваясь вопросом, дан ли или может быть дан этот идеальный комплекс качеств также и как объективное существование. Конечно, поскольку такое чистое вещественное содержание бывает помыслено, оно является представлением, а значит, и субъективным образованием. Только вот субъективное есть здесь лишь динамический акт представления, функция, воспринимающая это содержание; само содержание мыслится именно как нечто независимое от того, что оно представляется. Наш дух имеет примечательную способность мыслить содержания как нечто независимое от того, что оно помыслено <Gedachtwerden> - это первичное, ни к чему далее не сводимое его свойство; у таких содержаний имеется понятийная или вещественная определенность и взаимосвязи, которые, правда, могут представляться, однако не растворяются в представлении, но значимы, независимо от того, воспринимаются ли они моим представлением или нет: содержание представления не совпадает с представлением содержания. Так же, как это примитивное, недифференцированное представление, состоящее исключительно в осознании некоего содержания, нельзя называть субъективным, ибо оно еще вообще не погружено в противоположность субъекта и объекта, так и это содержание вещей или представлений отнюдь не объективно, но равно свободно и от этой дифференциальной формы, и от ее противоположности и только находится в готовности выступить в одной или другой из них. Субъект и объект рождаются в одном и том же акте: логически - потому что чисто понятийное, идеальное вещественное содержание дается то как содержание представления, то как содержание объективной действительности; психологически - потому что еще лишенное «Я» представление, в котором личность и вещь содержатся в состоянии неразличенности, расступается и между Я и его предметом возникает дистанция, благодаря которой каждый из них только и обретает свою отличную от другого сущность.
К тому же этот процесс, который, наконец, приводит к появлению нашей интеллектуальной картины мира, совершается и в практике воления. И здесь разделение на вожделеющий, наслаждающийся, оценивающий субъект и считающийся ценностью объект тоже не охватывает ни всех состояний души, ни всей вещественной систематики практической сферы. Когда человек лишь пользуется каким-либо предметом, [тогда] имеет место сам по себе совершенно единый акт. В такое мгновение у человека есть восприятие, которое не содержит ни сознания противостоящего нам объекта как такового, ни сознания «Я», которое было бы обособлено от своего моментального состояния. Здесь встречаются самые глубокие и самые высшие явления. Грубое влечение, особенно безлично-всеобщей природы, желает только исчерпать себя в предмете, только удовлетворить себя - все равно, чем; сознание наполнено одним только наслаждением и не акцентирует, обращаясь к ним по отдельности, ни, с одной стороны, свой носитель, ни, с другой стороны, свой предмет. Но вместе с тем, та же форма обнаруживается и у эстетического наслаждения, когда оно достигает наивысшей интенсивности. Также и здесь «мы сами себя забываем», однако, и произведение искусства мы уже не воспринимаем как нечто, противостоящее нам, ибо душа полностью слита с ним, оно столь же включено в нее, как и она отдает себя ему. И в том, и в другом случае психологическое состояние еще не или уже не затрагивается противоположностью субъекта и объекта, лишь вновь начинающийся процесс сознания исторгает из непосредственного единства этого состояния указанные категории и затем уже только рассматривает чистое наслаждение содержанием как, с одной стороны, состояние противостоящего объекту субъекта, а с другой стороны, - как воздействие объекта, независимого от субъекта. Это напряжение, которое разнимает наивно-практическое единство субъекта и объекта, только и создавая и то, и другое (одно в другом) для сознания, производится сначала простым фактом вожделения. Поскольку мы вожделеем то, чем еще не обладаем и не наслаждаемся, содержание его выступает перед нами. Правда, в развитой эмпирической жизни готовый предмет сначала предстоит нам и только затем оказывается вожделен - уже потому, что- помимо событий воления, объективацию душевных содержаний вызывают многие другие [события], теоретические и чувственные; только в пределах практического мира самого по себе, с точки зрения его внутреннего порядка и возможности понимать его, возникновение объекта как такового и вожделение объекта субъектом суть соотносительные понятия, две стороны процесса дифференциации, рассекающего непосредственное единство процесса наслаждения.
Утверждают, что наши представления об объективной действительности берут начало в том сопротивлении, которое мы испытываем со стороны вещей <Dinge>, в особенности при посредстве осязания. Это можно без оговорок перенести на практическую проблему. Мы вожделеем вещи лишь вне их непосредственной самоотдачи нашему потреблению и наслаждению, т. е. именно постольку, поскольку они ему как-то сопротивляются; содержание становится предметом, коль скоро оно противостоит нам, причем не только в своей воспринимаемой непроницаемости, но и в дистанцированности еще-не-наслаждения, субъективной стороной которого является вожделение. Кант говорил: возможность опыта есть возможность предметов опыта - потому что познавать на опыте означает, что наше сознание образует из чувственных восприятий предметы. Точно так же и возможность вожделения есть возможность предметов вожделения. Возникающий таким образом объект, характеризуемый дистанцией по отношению к субъекту, чье вожделение равно фиксирует эту дистанцию и стремится преодолеть ее, - [такой объект] мы называем ценностью. Сам миг наслаждения, когда субъект и объект смиряют свои противоположности, как бы поглощает <konsumiert> ценность, и она снова возникает только при отделении субъекта - как противоположности - от объекта. Простейшие наблюдения: что то, чем мы владеем, становится нам дорого как ценность по-настоящему лишь при утрате его; что один только отказ в [получении] вожделеемой вещи часто сообщает ей ценность, которой лишь в весьма малой степени соответствует достигнутое наслаждение; что удаленность от предметов наших наслаждений - ив самом непосредственном, и в любом переносном смысле слова «удаление» - показывает их преображенными и более возбуждающими, - все это производные, модификации, смешанные формы того основополагающего факта, что ценность берет начало не в цельном единстве момента наслаждения, но [возникает лишь постольку,] поскольку содержание его отрывается как объект от субъекта и выступает перед ним как только теперь вожделеемое, добыть которое можно только преодолением расстояний, препятствий, трудностей. Воспользуемся аналогией, к которой мы уже прибегли выше: в конечном счете, быть может, не реальности вторгаются в наше сознание, благодаря создаваемым ими для нас препятствиям, но те представления, с которыми связаны восприятия сопротивлений и ощущения помех, называются у нас объективно реальными, независимо существующими вне нас. Поэтому не из-за того, что они ценны, трудно заполучить эти вещи, но ценными мы называем те из них, которые выставляют препятствия нашему вожделению заполучить их. Поскольку в них это вожделение как бы надламывается или застопоривается, у них появляется такая значительность, для признания которой беспрепятственная воля никогда не видела повода.
Ценность, которая, таким образом, выступает одновременно с вожделеющим Я и как его коррелят в одном и том же процессе дифференциации, относится кроме того еще к одной категории, той же самой, которая имела силу и для объекта, обретаемого на пути теоретического представления. В этом последнем случае оказывалось, что содержания, которые, с одной стороны, реализованы в объективном мире, а с другой, - живут в нас как субъективные представления, обладают, помимо всего этого, еще и своеобразным идеальным достоинством. Понятие треугольника или организма, каузальность или закон гравитации имеют логический смысл, значимость <Gultigkeit> внутренней структуры, благодаря которой они, правда, определяют свое осуществление в пространстве и сознании, но даже если бы дело никогда и не дошло до такого осуществления, они все равно относились бы к уже не поддающейся дальнейшему членению категории значимого <Gultigen> или значительного <Bedeutsamen> и безусловно отличались бы от фантастических или противоречивых понятийных образований, которым они, однако же, были бы совершенно тождественны в аспекте физической или психической нереальности. Аналогично (хотя и с модификациями, обусловленными различием самих областей) обстоит дело и с ценностью, возникающей у объектов субъективного вожделения. Подобно тому, как мы представляем себе некоторые предложения истинными, причем это сопровождается осознанием того, что истинность их не зависит от этого представления, так и по отношению к вещам, людям, событиям мы воспринимаем, что они не только воспринимаются нами как ценные, но были бы ценны, даже если бы их не ценил никто. Самый простой пример - это ценность, которую мы приписываем убеждениям людей - нравственным, благородным, сильным, прекрасным. Выражаются ли когда-нибудь эти внутренние свойства в деяниях, которые позволят или даже вынудят признать их ценность; даже то, рефлектирует ли над ними с ощущением своей ценности сам их носитель, - все это применительно к факту самой их ценности не только нам безразлично, но как раз это безразличие относительно их признанности или осознанности придает этим ценностям особую окраску. Возьмем другой пример: [вот -] интеллектуальная энергия и тот факт, что она выводит на свет сознания сокровеннейшие силы и порядки природы; [вот -] сила и ритм тех чувств, которые в узком пространстве индивидуальной души все-таки бесконечно превосходят по своему значению весь внешний мир, даже если верно пессимистическое утверждение о преизбытке страдания; [вот, затем, - тот факт,] что вообще природа вне человека совершает движение в надежных рамках прочных норм, а множество ее форм тем не менее оставляет пространство для глубинного единства целого, что ее механизм и поддается истолкованию согласно идеям, и способен к производству красоты и грации*, - [пусть так], мы же на все это заявим, что мир именно ценностей, все равно, воспринимаются ли эти ценности сознанием или нет.
* В оригинале - совершенно неудобопонятная по-русски форма двойного отрицания: «sich weder der Deutung nach Ideen entzieht, noch sich weigert, Schonheit und Anmut zu erzeugen».
И то же самое будет иметь силу, опускаясь вплоть до уровня экономического количества ценности, которое мы приписываем некоторому объекту обмена <Tauschverkehrs>, даже если никто не готов, например, дать за него соответствующую цену .и даже если он вообще остается нежеланным и непродажным. Также и в этом направлении утверждает себя фундаментальная способность духа: одновременно противопоставлять себя содержаниям, которые он в себе представляет, представлять их так, словно бы они были независимы от того, что они представляемы. Конечно, всякая ценность, поскольку мы ее чувствуем, есть именно чувство; но вот что мы подразумеваем под этим чувством, есть в себя и для себя значащее содержание, которое, правда, психологически реализуется чувством, но не тождественно ему и не исчерпывается им. Эта категория явственным образом оказывается по ту сторону спорного вопроса о субъективности или объективности ценности, ибо она отвергает соотносительность <Korrelativitat> с субъектом, без которой невозможен объект; она есть, напротив, нечто третье, идеальное, что, правда, сопрягается с этим двойством <Zweiheit>, но не растворяется в нем. Практическому характеру той области, к которой она принадлежит, отвечает и особенная форма отношения к субъек^ ту, которая недоступна в случае сдержанного теоретического представления сугубо абстрактно «значимых» содержаний. Эту форму можно назвать требованием или притязанием. Ценность, которая прилепилась <haftet> к какой-либо вещи, личности, отношению, событию, жаждет признания. Конечно, это стремление как событие можно обнаружить только в нас, субъектах; но только вот исполняя его, мы ощущаем, что тем самым не просто удовлетворяем требованию, которое поставили себе мы сами, - и уж тем более не воспроизводим некоторую определенность объекта. Значение какого-либо телесного символа, состоящее в возбуждении у нас религиозного чувства; нравственное требование со стороны определенной жизненной ситуации революционизировать ее или оставить, как есть, развивать далее или направить движение назад; ощущение того, что долг наш - не быть равнодушными перед лицом великих событий, но реагировать на них всей душой; право наглядно созерцаемого быть не просто принятым к сведению, но включенным во взаимосвязи эстетической оценки - все это притязания, которые, правда, воспринимаются и осуществляются только внутри Я и для которых в самих объектах нельзя обнаружить никакого соответствия, никакой вещественной точки приложения, но которые, как притязания, столь же мало могут быть размещены в Я, как и в предметах, коих они касаются. С точки зрения естественной вещественности, такое притязание может казаться субъективным, с точки зрения субъекта, - объективным; в действительности же это третья категория, которую нельзя составить из первых двух, это как бы нечто между нами и вещами. Я говорил, что ценность вещей относится к тем образам содержания, которые мы, представляя их, одновременно воспринимаем как нечто самостоятельное, хотя именно представляемое, нечто оторванное от той функции, благодаря которой оно живет в нас; в том же случае, когда ценность образует содержание этого «представления», оно, если присмотреться внимательнее, оказывается именно восприятием притязания, данная «функция» есть требование, не существующее как таковое вне нас, но, по своему содержанию, берущее начало в идеальном царстве, которое находится не в нас, которое также не присуще <anhaftet> объектам ценностной оценки как их качество; напротив, оно есть <besteht> значение, которое эти объекты имеют для нас как субъектов благодаря своему расположению в порядках этого идеального царства. Ценность, которую мы мыслим независимой от ее признанности, есть метафизическая категория; как таковая она находится по ту сторону дуализма субъекта и объекта, подобно тому, как непосредственное наслаждение находилось по сию сторону этого дуализма. Последнее есть конкретное единство, к которому еще не приложены эти дифференциальные категории, первое же - это абстрактное, или идеальное единство, в для-себя-сущем значении которого этот дуализм снова исчез - подобно тому, как во всеохватности сознания, которую Фихте называет «Я», исчезает противоположность эмпирического Я и эмпирического He-Я. Как наслаждение в момент полного слияния функции со своим содержанием нельзя назвать субъективным, ибо нет никакого противостоящего объекта, который бы оправдывал понятие субъекта, так и эта сущая для себя, значимая в себе ценность не объективна, ибо она мыслится именно как независимая от субъекта, который ее мыслит; она выступает, правда, внутри субъекта как требование признания, однако ничего не утрачивает в своей сущности и при неисполнении этого требования.
При восприятии ценностей в повседневной практике жизни, эта метафизическая сублимация понятия не учитывается. Здесь речь идет только о ценности, живущей в сознании субъектов, и о той объективности, которая возникает в этом психологическом процессе оценивания как его предмет. Выше я показал, что этот процесс образования ценности происходит с увеличением дистанции между наслаждающимся и причиной его наслаждений. А поскольку величина этой дистанции варьирует (не по мере наслаждения, в котором она исчезает, но по мере вожделения, которое появляется одновременно с дистанцией и которое пытается преодолеть наслаждающийся), то постольку лишь и возникают те различия в акцентировании ценностей, которые можно рассматривать как разницу между субъективным и объективным. По меньшей мере, что касается тех объектов, на оценке которых основывается хозяйство, ценность, правда, является коррелятом вожделения (подобно тому, как мир бытия есть мое представление, так мир ценности есть мое вожделение) однако, несмотря на логико-физическую необходимость, с которой всякое вожделеющее влечение ожидает удовлетворения от некоторого предмета, оно во многих случаях, по своей психологической структуре, направляется на одно лишь это удовлетворение, так что сам предмет при этом совершенно безразличен, важно только, чтобы он утихомиривал влечение. Если мужчину может удовлетворить любая баба без индивидуального выбора; если он ест все, что только может прожевать и переварить; если спит на любой койке, если его культурные потребности можно удовлетворить самым простым, одной лишь природой предлагаемым материалом, - то [здесь] практическое сознание еще совершенно субъективно, оно наполнено исключительно собственным состоянием субъекта, его возбуждениями и успокоениями, а интерес к вещам ограничивается тем, что они суть непосредственные причины этих действий. Правда, это скрывает наивная проективная потребность примитивного человека, его направленная вовне жизнь, принимающая интимный мир как нечто самоочевидное. Одно только осознанное желание нельзя всегда считать вполне достаточным показателем действительно эффективного восприятия ценности. Легко понятная целесообразность в дирижировании нашими практическими силами достаточно часто представляет нам предмет как ценный, тогда как возбуждает нас, собственно, вовсе не он сам в своем вещественном значении, но субъективное удовлетворение потребности, которое он должен для нас создать. Начиная с этого состояния - которое, конечно, не всегда должно иметь значение первого по времени, но всегда должно считаться самым простым, фундаментальным, как бы систематически первым - сознание бывает направлено на сам объект двумя путями, которые, однако, снова соединяются. А именно, коль скоро одна и та же потребность отвергает некоторое количество возможностей удовлетворения, может быть, даже все, кроме одной, то есть там, где желаемо не просто удовлетворение, но удовлетворение определенным предметом, там открыт путь к принципиальному повороту от субъекта к объекту. Конечно, можно было бы возразить, что речь идет в каждом случае лишь о субъективном удовлетворении влечения, только в последнем случае само по себе влечение уже настолько дифференцировано, что удовлетворить его может лишь точно определенный объект; иными словами, и здесь тоже предмет ценится лишь как причина восприятия, но не сам по себе. Конечно, такое возражение могло бы свести на нет это сомнительное различие, если бы дифференциация влечения заостряла его на одном единственном удовлетворяющем ему объекте действительно столь исключительным образом, что удовлетворение посредством других объектов было бы вообще исключено. Однако это - весьма редкий, уникальный случай. Более широкий базис, на котором развиваются даже самые дифференцированные влечения, изначальная всеобщность потребности, содержащей в себе именно действие влечения <Getriebenwerden>, но не особенную определенность цели, обычно и впоследствии остается той подосновой, которая только и позволяет суженным желаниям удовлетворения осознать свою индивидуальную особенность. Поскольку все большая утонченность субъекта ограничивает круг объектов, удовлетворяющих его потребностям, он резко противопоставляет предметы своего вожделения всем остальным, которые сами по себе тоже могли бы утихомирить его потребность, но которые он, тем не менее, теперь уже не ищет. Это различие между объектами, как показывают известные психологические наблюдения, в особенно высокой степени направляет на них сознание и заставляет их выступить в нем как предметы самостоятельной значимости. На этой стадии кажется, что потребность детерминирована предметом; по мере того, как влечение уже не кидается на любое, лишь бы только возможное удовлетворение, уже не terminus a quo*, но terminus ad quern** все более и более направляет практическое восприятие, так что увеличивается пространство, которое занимает в сознании объект как таковой. Взаимосвязь здесь еще и следующая. Покуда влечения насилуют человека, мир образует для него, собственно, неразличимую массу; ибо, пока они означают для него только само по себе иррелевантное средство удовлетворения влечений (а этот результат к тому же может быть также вызван множеством причин), до тех пор с предметом в его самостоятельной сущности не бывает связано никакого интереса. Но то, что мы нуждаемся в совершенно особенном, уникальном объекте, позволяет более четко осознать, что мы вообще нуждаемся в каком-либо объекте. Однако это сознание известным образом более теоретично, оно понижает слепую энергию влечения, стремящегося только к самоисчерпанию.
* Исходный пункт (лат.).
** Конечный пункт (лат.).
В то время как дифференцирующее заострение потребности идет рука об руку с ослаблением ее стихийной силы, в сознании освобождается больше места для объекта. То же получается, если посмотреть с другой стороны: поскольку утончение и специализация потребности вынуждает сознание ко все большей самоотдаче объекту, у солипсистской потребности отнимается некоторое количество силы. Повсюду ослабление аффектов, т.е. безусловной самоотдачи Я моментальному содержанию своего чувства, взаимосвязано с объективацией представлений, с выведением их в противостоящую нам форму существования. Так, например, возможность выговориться является одним из мощнейших средств притупления аффектов. В слове внутренний процесс как бы проецируется вовне и противостоит [говорящему] как воспринимаемый образ, а тем самым уменьшается резкость аффекта. Смирение страстей и представление объективного как такового в его существовании и значении суть лишь две стороны одного и того же основного процесса. Очевидно, что отвратить внутренний интеpec от одной только потребности и ее удовлетворения и посредством сужения возможностей последнего обратить этот интерес на объект можно с тем же и даже большим успехом также и со стороны объекта - поскольку он делает удовлетворение трудным, редким и достижимым только обходными путями и благодаря специальному приложению сил. То есть если мы предположим наличие даже очень дифференцированного, направленного лишь на самые избранные объекты вожделения, то и оно все-таки будет воспринимать свое удовлетворение как нечто относительно самоочевидное, покуда это удовлетворение будет обходиться без трудностей и сопротивления. Дело в том, что для познания собственного значения вещей необходима дистанция, образующаяся между ними и нашим восприятием. Таков лишь один из многих случаев, когда надо отойти от вещей, положить пространство между нами и ними, чтобы обрести объективную картину их. Конечно, и она определена субъективно-оптически не в меньшей степени, чем нечеткая или искаженная картина при слишком большой или слишком малой дистанции, однако по внутренним основаниям целесообразности познания именно в этих крайних случаях субъективность оказывается особенно акцентированной. Изначально объект существует только в нашем к нему отношении, вполне слит с [этим отношением] и противостоит нам лишь в той мере, в какой он уже не во всем подчиняется этому отношению. Дело точно так же лишь там, где желание не совпадает с исполнением, доходит и до подлинного вожделения вещей, которое признает их для-себя-бытие, именно поскольку пытается преодолеть его. Возможность наслаждения, как образ будущего, должна быть сначала отделена от нашего состояния в данный момент, чтобы мы вожделели вещи, которые сейчас находятся на дистанции от нас. Как в области интеллектуального изначальное единство созерцания, которое можно еще наблюдать у детей, лишь постепенно расчленяется на сознание Я и осознание противостоящего ему объекта, так и наивное наслаждение лишь освободит место осознанию значения вещи, как бы уважению к ней, когда вещь ускользнет от него. Также и здесь проявляется взаимосвязь между ослаблением аффектов вожделения и началом объективации ценностей, поскольку усмирение стихийных порывов воления и чувствования благоприятствует осознанию Я. Покуда личность еще отдается, не сдерживаясь, возникающему в данный момент аффекту, совершенно преисполняется и увлекается им, Я еще не может образоваться; напротив, сознание Я, пребывающее по ту сторону отдельных своих возбуждений, может обнаружиться как нечто постоянное во всех изменениях этих последних только тогда, когда уже ни одно из них не увлекает человека целиком; напротив, они должны оставить нетронутой какую-то его часть, которая образует точку неразличенности их противоположностей, так что, таким образом, только определенное их умаление и ограничение позволяет возникнуть Я как всегда тождественному носителю нетождественных содержаний. Но подобно тому, как Я и объект суть во всех возможных областях нашего существования понятия соотносительные, которые еще не различены в изначальной форме представления и только вы-дифференцируются из нее, одно в другом, - так и самостоятельная ценность объектов могла бы развиться лишь в противоположности ставшему самостоятельным Я. Только испытываемые нами отталкивания от объекта, трудности получения его, время ожидания и труда, отодвигающее желание от исполнения, разнимают Я и объект, которые в неразвитом виде и без специального акцентирования покоятся в непосредственном примыкании друг к другу потребности и удовлетворения. Пусть даже объект определяется здесь одной только своей редкостью (соотносительно с вожделенностью) или позитивными трудами по его присвоению, - во всяком случае, он сначала полагает тем самым дистанцию между собой и нами, которая, в конце концов, позволяет сообщить ему ценность, потустороннюю для наслаждения этим объектом.
Таким образом, можно сказать, что ценность объекта покоится, правда, на том, что он вожделеем, но вожделение это потеряло свой абсолютный характер влечения. Однако точно так же и объект, если он должен оставаться хозяйственной ценностью, не может повысить количество своей ценности настолько, чтобы практически иметь значение абсолютного. Дистанция между Я и предметом его вожделения может быть сколь угодно велика - будь то из-за реальных трудностей с его получением, будь то из-за непомерной цены, будь то из-за сомнений нравственного или иного рода, которые противодействуют стремлению к нему, - так что дело не заходит о реальном акте воли, но вожделение либо затухает, либо превращается в смутные желания. Таким образом, дистанция между субъектом и объектом, с увеличением которой возникает ценность, по меньшей мере, в хозяйственном смысле, имеет нижнюю и верхнюю границы, так что формулировка, согласно которой мера ценности равна мере сопротивления, оказываемого получению вещей сообразно естественным, производственным и социальным шансам, - эта формулировка не затрагивает существа дела. Конечно, железо не было бы хозяйственной ценностью, если бы получение его не встречало больших трудностей, чем, например, получение воздуха для дыхания; с другой стороны, однако, эти трудности должны были стать ниже определенного уровня, чтобы путем обработки железа вообще можно было изготовить инструменты в таком количестве, что и сделало его ценным. Другой пример: говорят, что творения плодовитого живописца, при том же художественном совершенстве, будут менее ценны, чем у менее продуктивного; но это правильно только в случае превышения определенного количества. Ведь требуется некоторое множество произведений художника, чтобы он вообще мог однажды добиться той славы, которая поднимает цену его картин. Далее, в некоторых странах, где имеют хождение бумажные деньги, редкость золота приводит к тому, что простой народ вообще не хочет принимать золота, если оно ему случайно предлагается. Именно в отношении благородных металлов, которые из-за своей редкости считаются обычно особенно пригодным материалом для денег, теория не должна упустить из виду, что такое значение редкость обретает только после превышения довольно значительной частоты распространения, без которой эти металлы вообще не могли бы служить практической потребности в деньгах и, таким образом, не могли бы обрести той ценности, которой они обладают как денежный материал. Быть может, только практическое корыстолюбие, которое вожделеет превыше всякого данного количества благ и которому поэтому кажется малой всякая ценность, заставляет забыть, что не редкость, но нечто среднее между редкостью и не редкостью образует в большинстве случаев условие ценности. Нетрудно догадаться, что редкость - это момент, который важен для восприятия различий, а частота распространения - это момент, важность которого связана с привыканием. А поскольку жизнь всегда определяется пропорциональным соотношением обоих этих фактов, т. е. тем, что мы нуждаемся и в различии и перемене ее содержаний, и в привыкании к каждому из них, то эта общая необходимость выражается здесь в особой форме: с одной стороны, ценность вещей требует редкости, т. е. некоторого отрыва от них, особого к ним внимания, а с другой стороны, - известной широты, частоты распространения, длительности, чтобы вещи вообще переходили порог ценности.
Всеобщее значение дистанцирования для представляющегося объективным оценивания я намерен показать на примере, который весьма далек от ценностей экономических и как раз поэтому годится, чтобы отчетливее показать также и их принципиальную особенность. Я говорю о ценностях эстетических. То, что мы теперь называем радостью по поводу красоты вещей, развилось относительно поздно. Ведь сколько бы непосредственного физического наслаждения ни приносила нам она в отдельных случаях даже теперь, однако же специфика заключается именно в сознании того, что мы отдаем должное вещи <Sache> и наслаждаемся ею, а не просто состоянием чувственной или сверхчувственной возбужденности, которое, например, она нам доставляет. Каждый культурно развитый <kultivierter> мужчина, в принципе, весьма уверенно различит эстетическую и чувственную радость, доставляемую женской красотой, сколь бы мало ни мог он разграничить в отдельном явлении эти компоненты своего совокупного чувства. В одном аспекте мы отдается объекту, в другом - он отдается нам. Пусть эстетическая ценность, как и всякая другая, будет чужда свойствам самих вещей <Dinge>, пусть она будет проекцией чувства в вещи, однако для нее характерно, что эта проекция является совершенной, т. е. что содержание чувства, так сказать, целиком входит в предмет и являет себя как противостоящая субъекту значимость со своей собственной нормой, как нечто такое, что есть предмет. Но как же, [с точки зрения] историко-психологиче-ской, дело могло дойти до этой объективной, эстетической радости от вещей <Dinge>, если примитивное наслаждение ими, из которого только и может исходить более высокое наслаждение, прочно связано с их способностью быть предметами наслаждения и их полезностью? Быть может, ключ к разгадке даст нам очень простое наблюдение. Если какого-либо рода объект доставил нам большую радость или весьма поощряет нас, то всякий следующий раз, глядя на этот объект, мы испытываем чувство радости, причем даже тогда, когда об использовании его или наслаждении им речь уже не идет. Эта радость, отдающаяся в нас подобно эху, имеет совершенно особенный психологический характер, определяемый тем, что мы уже ничего не хотим от предмета; на место конкретного отношения, которое прежде связывало нас с ним, теперь приходит просто его созерцание как причины приятного ощущения; мы не затрагиваем его в его бытии, так что это чувство связывается только с его явлением, но не с тем, что здесь можно в каком-либо смысле употребить. Короче говоря, если предмет прежде был для нас ценен как средство для наших практических или эвдемонистических целей, то теперь один только его образ созерцания доставляет нам радость, тогда как мы ему противостоим при этом более сдержанно, более дис-танцированно, вовсе не касаясь его. Мне представляется, что здесь уже преформированы решающие черты эстетического, что недвусмысленно обнаруживается, как только это преобразование ощущений прослеживают далее, от индивидуально-психологического - к родовому развитию. Уже с давних пор красоту пытались вывести из полезности, однако из-за чрезмерного сближения того и другого, как правило, застревали на пошлом огрублении прекрасного. Избежать этого можно, только если достаточно далеко отодвинуть в историю рода внешнюю целесообразность и чувственно-эвдемонистическую непосредственность, так, чтобы с образом этих вещей в нашем организме было связано подобное инстинкту или рефлексу чувство удовольствия, которое действует в унаследовавшем эту физико-психическую связь индивиде, даже если полезность предмета для него самого не осознается им или [вообще] не имеет места. Мне нет нужды подробно останавливаться на спорах о наследовании приобретенных таким образом связей, потому что для нашего изложения достаточно и того, что явления протекают так, как если бы приобретенные свойства были унаследованы. Таким образом, прекрасным для нас было бы первоначально то, что обнаружило свою полезность для рода, а восприятие его потому и доставляет нам удовольствие, хотя мы как индивиды не имеем конкретной заинтересованности в этом объекте - что, конечно, не означает ни униформизма, ни прикованности индивидуального вкуса к среднему или родовому уровню. Отзвуки этой всеобщей полезности воспринимаются всем многообразием индивидуальных душ и преобразуются далее в особенности, заранее отнюдь не предрешенные, - так что, пожалуй, можно было бы сказать, что этот отрыв чувства удовольствия от реальности изначального повода к нему стал, наконец, формой нашего сознания, независимой от первых содержаний, вызвавших ее образование, и готовой воспринять в себя любые другие содержания, врастающие в нее в силу [той или иной] душевной констелляции. В тех случаях, когда у нас еще есть и повод для реалистического удовольствия, наше чувство по отношению к вещам - не специфически эстетическое, но конкретное, которое лишь благодаря определенному дистанцированию, абстрагированию, сублимации испытывает метаморфозу, [превращаясь именно в] эстетическое. Здесь происходит то, что случается, в общем-то, довольно часто: после того, как некоторое отношение устанавливается, связующий элемент выпадает, потому что его услуги больше уже не требуются. Связь между определенными полезными объектами и чувством удовольствия стала у [человеческого] рода, благодаря наследственному или какому-то иному механизму передачи традиции, столь прочной, что уже один только вид этих объектов, хотя бы мы ими и не наслаждались, оказывается для нас удовольствием. Отсюда - то, что Кант называет эстетической незаинтересованностью, безразличие относительно реального существования предмета, когда дана только его «форма», т. е. его зримость; отсюда - преображение и надмирность прекрасного - она есть результат временной удаленности реальных мотивов, в силу которых мы теперь воспринимаем эстетически; отсюда - и представление о том, что прекрасное есть нечто типическое, надындивидуальное, общезначимое - ибо родовое развитие уже давно вытравило из этого внутреннего движения все специфическое, сугубо индивидуальное, что относилось к отдельным мотивам и опыту; отсюда - частая невозможность рассудочно обосновать эстетическое суждение, которое к тому же нередко оказывается противоположным тому, что полезно или приятно нам как индивидам. Все это развитие вещей от их ценности-полезности к ценности-красоте есть процесс объективации. Поскольку я называю вещь прекрасной, ее качество и значение совершенно иначе независимы от диспозиций и потребностей субъекта, чем когда она просто полезна. Покуда вещи только полезны, они функциональны, т. е. каждая иная вещь, которая имеет тот же результат, может заменить каждую. Но коль скоро они прекрасны, вещи обретают индивидуальное для-себя-бытие, так что ценность, которую имеет для нас одна из них, не может быть заменена иною вещью, которая, допустим, в своем роде столь же прекрасна. Не обязательно прослеживать генезис эстетического, начиная с его едва заметных признаков и кончая многообразием развитых форм, чтобы понять: объективация ценности возникает в отношении дистанцированности, образующейся между субъективно-непосредственным истоком оценки объекта и нашим восприятием его в данный момент. Чем дальше отстоит по времени и как таковая забывается полезность для рода, которая впервые заставляет связать с объектом заинтересованность и оценку, тем чище эстетическая радость от одной лишь формы и созерцания объекта, т. е. он тем более противостоит нам со своим собственным достоинством, и мы тем более придаем ему то значение, которое не растворяется в случайном субъективном наслаждении им, а наше отношение к вещам, когда мы оцениваем их лишь как средства для нас, тем более уступает место чувству их самостоятельной ценности.
Я выбрал этот пример, потому что объективирующее действие того, что я называю дистанцированием, оказывается особенно наглядным в случае временной удаленности. Конечно, это более интенсивный и качественный процесс, так что количественная характеристика с указанием на дистанцию является только символической. И поэтому тот же самый эффект может быть вызван рядом других моментов, как это фактически уже и обнаружилось: редкостью объекта, трудностями его получения, необходимостью отказа от него. Пусть в этих случаях, которые существенны для хозяйства, важность вещей всегда будет важностью для нас и потому останется зависимой от нашего признания - однако решающий поворот состоит в том, что в результате этого развития вещи противостоят нам как сила <Macht> противостоит силе, как мир субстанций и энергий <Krafte>, которые своими свойствами определяют, удовлетворяют ли они, и насколько именно, наши вожделения, и которые, прежде чем отдаться нам, требуют от нас борьбы и трудов. Лишь если встает вопрос об отказе - отказе от ощущения (а ведь дело, в конце концов, в нем), появляется повод направить сознание на предмет такового. Стилизованное представлением о рае состояние, в котором субъект и объект, вожделение и исполнение еще не разделились, отнюдь не есть состояние исторически ограниченной эпохи и выступает повсюду и в самых разных степенях; это состояние, конечно, предопределено к разложению, но тем самым опять-таки и к примирению: смысл указанного дистанцирования заключается в том, что оно преодолевается. Страстное желание, усилие, самопожертвование, вмещающиеся между нами и вещами, как раз и должны нам их доставить. «Дистанцирование» и приближение также и практически суть понятия взаимообразные, каждое из них предполагает другое, и оба они образуют стороны того отношения к вещам, которое мы субъективно называем своим вожделением, а объективно - их ценностью. Конечно, мы должны удалить от себя предмет, от которого мы получили наслаждение, дабы вожделеть его вновь; что же касается дальнего, то это вожделение есть первая ступень приближения, первое идеальное отношение к нему. Такое двойственное значение вожделения, т. е. то, что оно может возникнуть только на дистанции к вещам, преодолеть которую оно как раз и стремится, но что оно при этом все-таки предполагает уже какую-то близость между нами и вещами, дабы имеющаяся дистанция вообще ощущалась, - это значение прекрасно выразил Платон, говоривший, что любовь есть среднее состояние между обладанием и необладанием. Необходимость жертвы, уяснение в опыте, что вожделение успокоено не напрасно, есть только заострение или возведение в степень этого отношения: тем самым мы оказываемся принуждены осознать удаленность между нашим нынешним Я и наслаждением вещами, причем именно благодаря тому, что та же необходимость и выводит нас на путь к преодолению удаленности. Такое внутреннее развитие, приводящее одновременно к возрастанию дистанции и сближения, явственно выступает и как исторический процесс дифференциации. Культура вызывает увеличение круга интересов, т. е. периферия, на которой находятся предметы интереса, все дальше отодвигается от центра, т. е. Я. Однако это удаление возможно только благодаря одновременному приближению. Если для современного человека объекты, лица и процессы, удаленные от него на тысячи миль, имеют жизненное значение, то они должны быть сначала сильнее приближены к нему, чем к естественному человеку, для которого ничего подобного вообще не существует; поэтому для последнего они еще находятся по ту сторону позитивного определения, [т. е. определения их] близости или удаленности. И то, и другое начинает развиваться из такого состояния неразличенности только во взаимодействии. Современный человек должен работать совершенно иначе, чем естественный человек, прилагать усилия совершенно иной интенсивности, т. е. расстояние между ним и предметами его воления несравнимо более дальнее, между ними стоят куда более жесткие условия, но зато и бесконечно более велико количество того, что он приближает к себе - идеально, через свое вожделение, а также реально, жертвуя своим трудом. Культурный процесс - тот самый, который переводит субъективные состояния влечения и наслаждения в оценку объектов - все резче разводит между собой элементы нашего двойного отношения близости к вещам и удаленности от них.
Субъективные процессы влечения и наслаждения объективируются в ценности, т. е. из объективных отношений для нас возникают препятствия, лишения, появляются требования [отдать] какую-то «цену», благодаря чему причина или вещественное содержание влечения и наслаждения только и удаляется от нас, а благодаря этому, одним и тем же актом, становится для нас подлинным «объектом» и ценностью. Таким образом, отвлеченно-радикальный вопрос о субъективности или объективности ценности вообще поставлен неправильно. Особенно сильно вводит в заблуждение, когда его решают в духе субъективности, основываясь на том, что нет такого предмета, который мог бы задать совершенно всеобщий масштаб ценности, но этот последний меняется - от местности к местности, от личности к личности и даже от часа к часу. Здесь путают субъективность и индивидуальность ценности. Что я вожделею наслаждения или наслаждаюсь, есть, конечно, нечто субъективное постольку, поскольку здесь, в себе и для себя, отнюдь не акцентируется осознание предмета как такового или интерес к предмету как таковому. Однако, в дело вступает совершенно новый процесс, процесс оценки: содержание воли и чувства обретает форму объекта. Объект же противостоит субъекту с некоторой долей самостоятельности, довольствуя его или отказывая ему, связывая с получением себя требования, будучи возведен изначальным произволом выбора себя в законосообразный порядок, где он претерпевает совершенно необходимую судьбу и обретает совершенно необходимую обусловленность. То, что содержания, принимающие эту форму объективности, не суть одни и те же для всех субъектов, здесь совершенно не важно. Допустим, все человечество совершило бы одну и ту же оценку; тем самым у этой последней не приросло бы нисколько «объективности» свыше той, какой она уже обладает в некотором совершенно индивидуальном случае; ибо, поскольку содержание вообще оценивается, а не просто функционирует как удовлетворение влечения, как наслаждение, оно находится на объективной дистанции от нас, которая устанавливается реальной определенностью помех и необходимой борьбы, прибылей* и потерь, соображений [о ценности] и цен.
* В оригинале: «Gewinn». В сочетаниях «GewinndesGegenstandes»,«Gewinn desObjekts» и т. д. мы до сих пор переводили его как «получение» (предмета, объекта и т. п.). В сочетаниях «Gewinn und Verlust», «Gewinnund Verzicht», «Gewinn und Opfer» и т. д. оно будет переводиться как «прибыль» («и потеря», «и отказ», «и жертва» и т. п.).
Основание, в силу которого снова и снова ставится ложный вопрос относительно объективности или субъективности ценности, заключается в том, что мы преднаходим в развитом эмпирическом состоянии необозримое число объектов, которые стали таковыми исключительно по причинам, находящимся в сфере представления. Однако уж если в нашем сознании есть готовый объект, то кажется, будто появляющаяся у него ценность помещается исключительно на стороне субъекта; первый аспект, из которого я исходил, - включение содержаний в ряды бытия и ценности, - кажется тогда просто синонимичным их разделению на объективность и субъективность. Однако при этом не принимают во внимание, что объект воли есть как таковой нечто иное, чем объект представления. Пусть даже оба они располагаются на одном и том же месте пространственного, временного и качественного рядов: вожделенный предмет противостоит нам совершенно иначе, означает для нас нечто совсем иное, чем представляемый. Вспомним об аналогичном случае - любви. Человек, которого мы любим, - совсем не тот же образ, что и человек, которого мы представляем себе в соответствии с познанием [о нем]. Я при этом не имею в виду те смещения или искажения, которые привносит, например, аффект в образ познания. Ведь этот последний все равно остается в области представления и в рамках интеллектуальных категорий, как бы ни модифицировалось его содержание. Однако то, как является для нас объектом любимый человек, - это, по существу, иной род, чем интеллектуально представляемый, он означает для нас, несмотря на все логическое тождество, нечто иное, примерно, так, как мрамор Венеры Милосской означает нечто иное для кристаллографа, чем для эстетика. Таким образом, элемент бытия, удостоверяемый, в соответствии с некоторыми определенностями бытия, как «один и тот же», может стать для нас объектом совершенно различными способами: [способом] представления и [способом] вожделения. В пределах каждой из этих категорий противопоставление субъекта и объекта имеет разные причины и разные действия, так что если практические отношения между человеком и его объектами ставят [нас] перед такого рода альтернативой: [либо] субъективность, либо объективность, которая может быть значима лишь в области интеллектуального представления, то это ведет только к путанице. Ибо даже если ценность предмета объективна и не в том самом смысле, в каком объективны его цвет или тяжесть, то от этого она отнюдь еще не субъективна в том смысле, который соответствует этой объективности; такая субъективность присуща, скорее, например, окраске, возникающей из-за обмана чувств, или какому-либо качеству вещи, которое приписывает ей ложное умозаключение, или некоторому бытию, реальность которого внушает нам суеверие. Напротив, практическое отношение к вещам создает совершенно иной род объективности - благодаря тому, что реальные обстоятельства оттесняют содержание вожделения и наслаждения от самого этого субъективного процесса и тем самым создают для объективности специфическую категорию, которую мы называем ее ценностью.
В хозяйстве же этот процесс происходит таким образом, что содержание жертвы или отказа, становящихся между человеком и предметом его вожделения, одновременно является предметом вожделения кого-то другого: первый должен отказаться от владения или наслаждения, вожделеемых другим, чтобы подвигнуть его на отказ от того, чем он владеет и что вожделеет первый. Ниже я покажу, что и хозяйство изолированного производителя, ориентированного на собственное потребление, может быть сведено к той же формуле. Итак, два ценностных образования <Wertbildungen> переплетаются между собой: необходимо вложить ценность, чтобы получить ценность. Поэтому все происходит так, как если бы вещи обоюдно определяли свои ценности. Ведь в процессе обмена одной на другую практическое осуществление и меру своей ценности каждая ценность обретает в другой. Это - решающее следствие и выражение дистанцирования предметов от субъекта. Пока они находятся в непосредственной близости к нему, пока дифференцированность вожделений, редкость предметов, трудности и сопротивления при их получении не оттесняют их от субъекта, они остаются для него, так сказать, вожделением и наслаждением, но еще не являются предметом ни того, ни другого. Указанный процесс, в ходе которого они становятся [именно предметом], завершается тем, что дистанцирующий и одновременно преодолевающий дистанцию предмет, собственно, и производится для этой цели. Тем самым обретается чистейшая хозяйственная объективность, отрыв предмета от субъективного отношения к личности, а поскольку это производство совершается для кого-то другого, кто предпринимает соответствующее производство для первого, то предметы вступают в обоюдное объективное отношение. Форма, которую ценность принимает в обмене, включает ее в уже описанную выше категорию по ту сторону субъективности и объективности в строгом смысле слова; в обмене ценность становится надсубъектной*, надындивидуальной, не становясь, однако, вещественным <sachlich> качеством и действительностью самой вещи <Ding>: она выступает как требование вещи, как бы выходящее за пределы ее имманентной вещественности, которое состоит в том, чтобы быть отданной, быть полученной лишь за соответствующую ценность с противоположной стороны.
* В оригинале: «ubersubjektiv». Немецкое «subjektiv» может быть передано по-русски и как «субъективный», и как «субъектный», соответственно варьируют и производные от него.
Будучи всеобщим истоком ценностей вообще, Я, тем не менее, настолько далеко отступает от. своих созданий, что они теперь могут мерить свои значения друг по другу, не обращаясь всякий раз снова к Я. Цель этого сугубо вещественного взаимоотношения ценностей, которое совершается в обмене и основано на обмене, явно состоит в том, чтобы, наконец, насладиться ими, т. е. в том, чтобы к нам было приближено больше более интенсивных ценностей, чем это было бы возможно без такой самоотдачи и объективного выравнивания в процессе обмена. Подобно тому, как о божественном начале говорили, что оно, сообщив силы мировым стихиям, отступило на задний план и предоставило их взаимной игре этих сил, так что мы теперь можем говорить об объективном, следующем своим собственным отношениям и законам мире; но также и подобно тому, как божественная власть избрала такое исторжение из себя мирового процесса как самое пригодное средство для наиболее совершенного достижения своих целей касательно мира, - так и в хозяйстве мы облачаем вещи в некоторое количество ценности, как будто это - их собственное качество, и затем предоставляем их движению обмена, объективно определенному этими количествами механизму, некоторой взаимности безличных ценностных действий - откуда они, умножившись и делая возможным более интенсивное наслаждение, возвращаются к своей конечной цели, которая была их исходным пунктом: к чувствованию субъектов. Таковы исток и основа хозяйственного образования ценностей, последствия которого выступают носителем смысла денег. К демонстрации этих последствий мы сейчас и обратимся.
II
Техническая форма хозяйственного общения создает [настоящее] царство ценностей, которое в большей или меньшей степени совершенно оторвалось от своего субъективно-личностного базиса. Индивид совершает покупку, потому, что он ценит предмет и желает его потребить, однако это вожделение индивид эффективно выражает только посредством того предмета, который он обменивает на [желаемый]; тем самым субъективный процесс дифференциации и растущего напряжения между функцией и содержанием, в ходе которого последнее становится «ценностью», превращается в вещественное, надличное отношение между предметами. Личности*, которые побуждаются своими желаниями и оценками к совершению то одного обмена, то другого, реализуют тем самым для своего сознания только ценностные отношения, содержание которых уже заключено в самих вещах: количество одного объекта соответствует по ценности определенному количеству другого объекта, и эта пропорция как нечто объективно соразмерное и словно бы законосообразное столь же противоположна личным мотивам (своему истоку и завершению), как мы это видим в объективных ценностях нравственной и других областей. По меньшей мере, так должно было бы выглядеть вполне развитое хозяйство. В нем предметы циркулируют соответственно нормам и мерам, устанавливающимся в каждый данный момент; индивиду они противостоят, таким образом, как некое объективное царство, к которому он может быть причастным либо непричастным, но если он желает первого, то это для него возможно лишь как для носителя или исполнителя внеположных ему определенностей. Хозяйство стремится (это никогда не бывает совершенно нереальным и никогда не реализуется полностью) достигнуть такой ступени развития, на которой вещи взаимно определяют меры своей ценности, словно бы посредством самодеятельного механизма, - невзирая на то, сколько субъективного чувствования вобрал в себя этот механизм в качестве своего предварительного условия или своего материала. Но именно благодаря тому, что за один предмет отдается другой, ценность его обретает всю ту зримость и осязаемость, какая здесь вообще возможна. Взаимное уравновешение, благодаря которому каждый из объектов хозяйствования выражает свою ценность в ином предмете, изымает их из области сугубо чувственного значения: относительность определения ценности означает его объективацию. Тем самым предполагается основное отношение к человеку, в чувственной жизни которого как раз и совершаются все процессы оценивания, оно, так сказать, вросло в вещи, и они, будучи оснащены им, вступают в то взаимное уравновешение, которое является не следствием их хозяйственной ценности, но уже ее носителем или содержанием.
* В оригинале: «Personen». Немецкие слова «Person» и «Personlichkeit» строго и адекватно передаются русскими «лицо» и «личность». Однако это терминологическое различие не выдержано в данном тексте Зиммеля, и потому мы предлагаем, как представляется, более удобочитаемый перевод.
Таким образом, факт хозяйственного обмена изымает вещи из состояния слитности с сугубой субъективностью субъектов, а поскольку в них тем самым инвестируется их хозяйственная функция, это заставляет их взаимно определять друг друга. Практически значимую ценность предмету сообщает не одно только то, что он вожделен, но и то, что вожделен другой [предмет]. Его характеризует не отношение к воспринимающему субъекту, а то, что это отношение обретается лишь ценой жертвы, в то время как с точки зрения другой стороны, эта жертва есть ценность, которой возможно насладиться, а та первая ценность - жертва. Тем самым объекты взаимно уравновешиваются, а потому и ценность может совершенно особенным образом выступить как объективно присущее им самим свойство. Поскольку по поводу предмета торгуются - а это означает, что представляемая им жертва фиксируется - его значение выступает для обоих контрагентов как нечто гораздо более внеположное им, чем если бы индивид воспринимал его только в отношении к себе самому; ниже мы увидим, что изолированное хозяйство, поскольку оно противопоставляет хозяйствующего требованиям природы, с той же необходимостью заставляет его жертвовать [чем-то] для получения объекта, так что и здесь то же самое отношение, которое только сменило одного носителя, может сообщить предмету столь же самостоятельное, зависимое от его собственных объективных условий значение. Конечно, за всем этим стоит вожделение и чувство субъекта как движущая сила, однако в себе и для себя она не смогла бы породить эту форму ценности, которая подобает только взаимному уравновешению объектов. Хозяйство проводит поток оценок сквозь форму обмена, создавая как бы междуцарствие между вожделениями, истоком всякого движения в человеческом мире, и удовлетворением наслаждения, его конечным пунктом. Специфика хозяйства как особой формы общения и поведения состоит (если не побояться парадоксального выражения) не столько в том, что оно обменивает ценности, сколько в том, что оно обменивает ценности. Конечно, значение, обретаемое вещами в обмене и посредством обмена, никогда не бывает вполне изолировано от их субъективно-непосредственного значения, напротив, они необходимо предполагают друг друга, как форма и содержание. Однако объективный процесс, достаточно часто господствующий над сознанием индивида, так сказать, абстрагируется о того, что его материал образуют именно ценности; здесь наиболее существенным оказывается их равенство - вроде того, как задачей геометрии оказываются пропорции величин, безотносительно к субстанциям, в которых эти пропорции только и существуют реально. Что не только рассмотрение хозяйства, но и само хозяйство, так сказать, состоит в реальном абстрагировании из объемлющей действительности процессов оценки, не столь удивительно, как может показаться на первый взгляд, если только уяснить себе, насколько человеческая деятельность [вынуждена] внутри каждой провинции души считаться с абстракциями. Силы, отношения, качества вещей, к которым в этой связи принадлежит и наше собственное существо - объективно образуют единое нерасчлененное <Ineinander>, которое, чтобы мы могли иметь с ним дело, рассекается на множество самостоятельных рядов или мотивов лишь нашим привходящим интересом. Так, любая наука изучает явления, которые только с ее точки зрения обладают замкнутым в себе единством и совершенно отграничены от проблем других наук, тогда как действительность нимало не озабочена этими разграничениями и, более того, каждый фрагмент мира представляет собой конгломерат задач для самых разнообразных наук. Равным образом и наша практика вычленяет из внешней или внутренней комплексности вещей односторонние ряды и лишь так создает большие системы интересов культуры. То же самое обнаруживается и в деятельности чувства. Если наше восприятие религиозно или социально, если мы настроены меланхолично или радуемся миру, то абстракции, извлеченные из целого действительности, наполняют нас именно как предметы нашего чувства - то ли потому, что наша реактивная способность выхватывает из предлагаемых впечатлений лишь те, которые могут быть подведены под то или иное общее понятие интереса; то ли потому, что она самостоятельно сообщает каждому предмету некоторую окраску, причем это оправдано самим предметом, поскольку в его целостности основание для подобной окраски переплетается в объективно неразличенном единстве с основаниями для иных окрасок. Так что вот еще одна формула для описания отношения человека к миру: из абсолютного единства и взаимной сращенности вещей, где каждая есть основа для другой и все существуют равноправно, наша практика не менее, чем теория, непрерывно извлекает отдельные элементы, чтобы сомкнуть их в относительные единства и целостности. У нас, не считая самых общих чувств, нет отношения к тотальности бытия: лишь поскольку, исходя из потребностей нашего мышления и действования, мы извлекаем из явлений продолжительно существующие абстракции и наделяем их относительной самостоятельностью сугубо внутренней взаимосвязи, [той самостоятельностью,] в которой их объективному бытию отказывает непрерывное мировое движение, - мы обретаем определенное в своих частностях отношение к миру. Таким образом, хозяйственная система, конечно, основана на абстракции, на отношении обоюдности обмена, балансе между жертвой и прибылью, тогда как в реальном процессе эта система неразрывно слита со своим основанием и своим результатом: вожделениями и наслаждениями. Но эта форма существования не отличается от других областей, на которые мы, сообразно своим интересам, разлагаем совокупность явлений.
Чтобы хозяйственная ценность была объективна и тем самым служила определению границ хозяйственной области как самостоятельной, главное - принципиальная зап-редельность этой значимости для отдельного субъекта. Благодаря тому, что за предмет следует отдавать другой, оказывается, что он чем-то ценен не только для меня, но и в себе, т. е. и для другого. В хозяйственной форме ценностей уравнение «объективность = значимость для субъектов вообще» находит одно из своих самых ясных оправданий. Благодаря эквивалентности, которая вообще только в связи с обменом привлекает к себе сознание и интерес, ценность обретает специфические характерные черты объективности. Пусть даже каждый из элементов будет только личностным или только субъективно ценным - но то, что они равны друг другу, есть момент объективный, не заключенный ни в одном из этих элементов как таковом, но и не внеположный им. Обмен предполагает объективное измерение субъективных ценностных оценок, но не в смысле временного предшествования, а так, что и то, и другое существуют в едином акте.
Здесь необходимо уяснить себе, что множество отношений между людьми может считаться обменом; он представляет собой одновременно самое чистое и самое интенсивное взаимодействие, которое, со своей стороны, и составляет человеческую жизнь, коль скоро она намеревается получить материал и содержание. Уже с самого начала часто упускают из виду, сколь многое из того, что на первый взгляд есть сугубо односторонне оказываемое воздействие, фактически включает взаимодействие: кажется, что оратор в одиночку влияет на собрание и ведет его за собой, учитель - класс, журналист - свою публику; фактически же каждый из них в такой ситуации воспринимает определяющие и направляющие обратные воздействия якобы совершенно пассивной массы; в политических партиях повсеместно принято говорить: «раз я ваш вождь, то должен следовать за вами», - а один выдающийся гипнотизер даже подчеркивал недавно, что при гипнотическом внушении (явно представляющем собой самый определенный случай чистой активности, с одной стороны, и безусловной подверженности влиянию, - с другой) имеет место трудно поддающееся описанию воздействие гипнотизируемого на гипнотизера, без которого не был бы достигнут эффект. Однако всякое взаимодействие можно рассматривать как обмен: каждый разговор, любовь (даже если на нее отвечают другого рода чувствами), игру, каждый взгляд на другого. И если [кому-то] кажется, что здесь есть разница, что во взаимодействии отдают то, чем сами не владеют, а в обмене - лишь то, чем сами владеют, то это мнение ошибочно. Ибо, во-первых, во взаимодействии возможно пускать в дело только свою собственную энергию, жертвовать своей собственной субстанцией; и наоборот: обмен совершают не ради предмета, который прежде был во владении другого, но ради своего собственного чувственного рефлекса, которого прежде не было у другого; ибо смысл обмена - т. е. что сумма ценностей после него должна быть больше, чем сумма ценностей прежде него, - означает, что каждый отдает другому больше, чем имел он сам. Конечно, «взаимодействие» - это понятие более широкое, а «обмен» - более узкое; однако в человеческих взаимоотношениях первое в подавляющем большинстве случаев выступает в таких формах, которые позволяют рассматривать его как обмен. Каждый наш день слагается из постоянных прибылей и потерь, прилива и отлива жизненных содержаний - такова наша естественная судьба, которая одухотворяется в обмене, поскольку тут одно отдается за другое сознательно. Тот же самый духовно-синтетический процесс, который вообще создает из рядополож-ности вещей их совместность и [бытие] друг для друга; то же самое Я, которое, пронизывая все чувственные данности, сообщает им форму своего внутреннего единства, благодаря обмену овладевает и естественным ритмом нашего существования и организует его элементы в осмысленную взаимосвязь. И как раз обмену хозяйственными ценностями менее всего можно обойтись без окраски жертвенности. Когда мы меняем любовь на любовь, то иначе вообще не знали бы, что делать с открывающейся здесь внутренней энергией; отдавая ее, мы (с точки зрения внешний последствий деятельности) не жертвуем никаким благом; когда мы в диалоге обмениваемся духовным содержаниями, то количество их от этого не убывает; когда мы демонстрируем тем, кто нас окружает, образ своей личности и воспринимаем образ другой личности, то у нас от этого обмена отнюдь не уменьшается владение собою как тем, что нам принадлежит*. В случае всех этих обменов умножение ценностей происходит не посредством подсчета прибылей и убытков; напротив, каждая сторона <Partei> либо вкладывает что-то такое, что вообще находится за пределами данной противоположности, либо одна только возможность сделать это вложение уже есть прибыль, так что ответные действия партнера мы воспринимаем - несмотря на наше собственное даяние - как незаслуженный подарок. Напротив, хозяйственный обмен - все равно, касается ли он субстанций или труда или инвестированной в субстанции рабочей силы - всегда означает жертвование благом, которое могло бы быть использовано и по-другому, насколько бы в конечном счете ни перевешивало эвдемонистическое умножение [ценностей].
* В оригинале более сжато: «Besitz unser selbst», однако, столь же сжатый русский перевод мог навести на мысль о том, что речь здесь идет о самообладании как сдержанности.
Утверждение, что все хозяйство есть взаимодействие, причем в специфическом смысле жертвующего обмена, должно столкнуться с возражением, выдвинутым против отождествления хозяйственной ценности вообще с меновой ценностью*.
* Здесь мы должны впервые оговорить перевод слова «Wert». Установившийся у нас способ перевода, в частности, работ К. Маркса навязывает здесь замену «ценности» «стоимостью». Однако это полностью нарушило бы единство текста, так как нередко пришлось бы все-таки оставлять «ценность». Мы исходим из того, что, по уверению самого Зиммеля, текст его не экономический, а философский, а значит, уже одним этим, в принципе, может быть оправдан сквозной перевод «Wert» как «ценность».
Говорят, что даже совершенно изолированный хозяин - то есть тот, который ни покупает, ни продает, - должен все-таки оценивать свою продукцию и средства производства, то есть образовать независимое от всякого обмена понятие ценности, чтобы его затраты и результаты находились в правильной пропорции друг к другу. Но этот факт как раз и доказывает, однако, именно то, что должен был опровергнуть. Ведь все соображения хозяйствующего субъекта насчет того, оправданы ли затраты определенного количества труда или иных благ для получения определенного продукта, и оценивание при обмене того, что отдают, в соотношении с тем, что получают, суть для него совершенно одно и то же. Нечеткость в понимании отношений, особенно частая, когда речь идет о понятии обмена, приводит к тому, что о них говорят как о чем-то внешнем для тех элементов, между которыми они существуют. Однако ведь отношение - это только состояние или изменение внутри каждого из элементов, но не то, что существует между ними, в смысле пространственного обособления некоего объекта, находящегося между двумя другими. При сопряжении в понятии обмена двух актов, или изменений состояния, совершающихся в действительности, легко поддаться искушению представить себе, будто в процессе обмена что-то совершается над и наряду с тем, что происходит в каждом из контрагентов, - подобно тому, как если бы понятие поцелуя (ведь поцелуями тоже «обмениваются») было субстанциализировано, так что соблазнительно было бы считать его чем-то таким, что существует где-то вне обеих пар губ, вне их движений и восприятий. С точки зрения непосредственного содержания обмена, он есть только каузальное соединение двукратно совершающегося факта: некий субъект имеет теперь нечто такое, чего у него прежде не было, а за это он не имеет чего-то такого, что у него прежде было. Но тогда тот изолированный хозяин, который должен принести определенные жертвы для получения определенных плодов, ведет себя точно так же, как и тот, кто совершает обмен; только его контрагентом выступает не второй волящий субъект, а естественный порядок и закономерность вещей, обычно столь же мало удовлетворяющий наши вожделения без [нашей] жертвы, как и другой человек. Исчисления ценностей изолированным хозяином, согласно которым он определяет свои действия, в общем, совершенно те же самые, что и при обмене. Хозяйствующему субъекту как таковому, конечно, совершенно все равно, вкладывает ли он находящиеся в его владении субстанции или рабочую силу в землю или он отдает их другому человеку, лишь бы только результат для него оставался одним и тем же. В индивидуальной душе этот субъективный процесс жертвования и получения прибыли отнюдь не является чем-то вторичным или подражательным по сравнению с обменом, происходящим между индивидами. Напротив: обмен отдачи на достижение <Errungenschaft> в самом индивиде есть основополагающая предпосылка и как бы сущностная субстанция всякого двустороннего обмена. Этот последний есть просто подвид первого, а именно, такой, при котором отдача бывает вызвана требованием со стороны другого индивида, в то время как с тем же результатом для субъекта она может быть вызвана вещами и их технически-естественными свойствами. Чрезвычайно важно совершить редукцию хозяйственного процесса к тому, что действительно происходит, т. е. совершается в душе каждого хозяйствующего. Хотя при обмене этот процесс является обоюдным и обусловлен тем же самым процессом в Другом, это не должно вводить в заблуждение относительно того, что естественное и, так сказать, солипсистское хозяйство сводится к той же самой основной форме, что и двусторонний обмен: к процедуре выравнивания двух субъективных процессов в индивиде; этого выравнивания в себе и для себя совершенно не касается второстепенный вопрос, исходило ли побуждение к нему от природы вещей или от природы человека, имеет ли оно характер только натурального хозяйства или хозяйства менового. Таким образом, почувствовать ценность объекта, доступного для приобретения, можно, в общем, лишь отказавшись от других ценностей, причем такой отказ имеет место не только тогда, когда мы, опосредованная работа на себя выступает как работа для других, но и тогда, что бывает достаточно часто, когда мы совершенно непосредственно работаем ради своих собственных целей. Ясно поэтому, что обмен является в точности столь же производительным и образующим ценность, что и производство в собственном смысле. В обоих случаях речь идет о том, чтобы принять отдаваемые нам блага за ту цену, которую назначают другие, причем таким образом, что конечным состоянием будет преизбыток чувств удовлетворения по сравнению с состоянием до этих действий. Мы не можем заново создать ни материала, ни сил, мы способны только переместить данные материалы и силы так, чтобы как можно больше из них взошли из ряда действительности в ряд ценностей. Однако обмен между людьми осуществляет это формальное перемещение внутри данного материала точно так же, как и обмен с природой, который мы называем производством, т. е. оба они подпадают под одно и то же понятие ценности: и там, и тут речь идет о том, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся на месте отданного, объектом более высокой ценности, и только в этом движении объект, прежде слитый с нуждающимся и наслаждающимся Я, отрывается от него и становится ценностью. На глубокую взаимосвязь между ценностью и обменом, благодаря которой не только второе обусловлено первым, но и первое - вторым, указывает уже равенство обоих в создании основы для практической жизни. Как бы сильно ни была наша жизнь определена механикой вещей и их объективностью, мы в действительности не можем сделать ни шага, ни помыслить мысли, не оснащая свое чувствование вещей ценностями и не направляя соответственно этим ценностям нашу деятельность. Но сама эта деятельность совершается по схеме обмена: начиная с удовлетворения низших потребностей и кончая обретением высших интеллектуальных и религиозных благ, всегда требуется вложить ценность, чтобы получить ценность. Что здесь исходный пункт, а что - следствие, определить, видимо, невозможно. Либо в фундаментальных процессах одно невозможно отделить от другого, ибо они образуют единство практической жизни, которое мы, будучи не в состоянии ухватить его как таковое, разнимаем на указанные моменты, либо между ними совершается бесконечный процесс такого рода, что хотя каждый обмен и восходит к ценности, но зато эта ценность восходит к некоторому обмену. Однако, по меньшей мере, для нас более плодотворен и больше дает в смысле объяснения подход от обмена к ценностям, так как обратное кажется более известным и более очевидным. - Ценность представляется нам результатом процесса жертвования, а тем самым нам открывается бесконечное богатство, которым наша жизнь обязана этой основной форме. Стремление по возможности сделать жертву меньше и болезненное ее ощущение заставляют нас поверить, что только полное прекращение жертв подняло бы жизнь к высочайшим вершинам ценности. Но при этом мы упускаем из виду, что жертва отнюдь не всегда является внешним барьером, но что она - внутреннее условие самой цели и пути к ней. Загадочное единство нашего практического отношения к вещам мы разлагаем на жертву и прибыль, помеху и достижение, а поскольку жизнь с ее дифференцированными стадиями часто отделяет по времени одно от другого, мы забываем, что если цель достанется нам без такого препятствия, которое следует преодолевать, то это уже не будет та же самая цель. Сопротивление, которое должна уничтожить наша сила, только позволяет ей удостоверить себя самое; грех, преодолевая который душа восстает к блаженству, только и обеспечивает ей ту «радость на небесах», которую там отнюдь не связывают с изначально праведными; всякий синтез нуждается в одновременно столь же эффективном аналитическом принципе, каковой он как раз и отрицает (а без аналитического принципа это был бы уже не синтез многих элементов, но абсолютное Одно), а равным образом и всякий анализ нуждается в синтезе, в снятии которого он состоит (потому что он все еще требует некоторой сопряженности [элементов], без которой она была бы сугубой несвязностью: даже самая ожесточенная вражда есть еще взаимосвязь в большей степени, чем просто безразличие, а безразличие - больше, чем просто незнание друг о друге). Короче говоря, препятствующее противодействие, устранение которого как раз и означает жертву, часто (а с точки зрения элементарных процессов, даже всегда) является позитивной предпосылкой самой цели. Жертва отнюдь не относится к категории «не-должного», как это совершенно ложно пытаются внушить поверхностность и алчность. Жертва есть условие не только отдельных ценностей, более того, в рамках хозяйственной жизни, о которой здесь идет речь, она является условием ценности вообще; это не только цена, которую приходится платить за отдельные, уже фиксированные ценности, но и цена, благодаря которой они вообще появляются.
Обмен происходит в двух формах, которых я здесь коснусь лишь применительно к трудовой ценности. Поскольку имеется желание праздности или совершенно самодостаточной игры сил, или желание избежать чисто обременительных усилий, всякий труд*, бесспорно, является жертвованием. Однако, наряду с этими побуждениями, имеется еще некоторое количество скрытой трудовой энергии, с которым, как таковым, мы не знаем что делать, либо же оно обнаруживается благодаря влечению к добровольному, не вызываемому ни нуждой, ни этическими мотивами труду. На это количество рабочей силы, отдача которой не является в себе и для себя жертвованием, [притязают,] конкурируя между собой, многочисленные требования, для удовлетворения которых ее недостаточно. Итак, при всяком употреблении силы приходится жертвовать одним или несколькими возможными ее употреблениями. Если бы ту силу, посредством которой мы совершаем работу А, мы бы не могли использовать и для работы В, то первая не стоила бы нам никакой жертвы; но то же самое имеет силу и для работы В, в том случае, например, если бы мы совершили ее вместо работы А. Итак, с уменьшением эвдемонизма, отдается отнюдь не труд, но именно нетруд; в уплату за А мы не приносим в жертву труд, - потому что, как мы здесь предположили, это совсем нас не тяготит, - нет, мы отказываемся от В. Таким образом, жертва, которую мы отдаем в обмен при труде, во-первых, абсолютна, а во-вторых, относительна: страдание, которое мы принимаем, с одной стороны, непосредственно связано с трудом - когда труд для нас есть тягость и наказание; с другой же стороны, [это страдание] косвенно - в тех случаях, когда мы можем заполучить один объект, лишь отказавшись от другого, причем сам труд [оказывается] эвдемонистически иррелевантен или даже имеет позитивную ценность. Но тогда и те случаи, когда труд совершается с удовольствием, сводятся к форме самоотверженного обмена, всегда и повсюду характерного для хозяйства.
* В оригинале: «Arbeit». Переводится как «труд» или как «работа» в зависимости от контекста.
То, что предметы вступают в отношения хозяйства, имея определенного уровня ценность, поскольку каждый из двух объектов любой трансакции для одного контрагента означает прибыль, к которой тот стремится, а для другого - жертву, которую он приносит, - все это, видимо, имеет силу для сформировавшегося хозяйства, но не для основных процессов, которые только его и образуют. Кажется, будто есть логическая сложность, которая, правда, обнаруживается благодаря аналогии: две вещи могли бы иметь равную ценность, только если каждая из них сначала имела бы ценность сама по себе, подобно тому, как две линии могли бы быть равны по длине, только если бы каждая из них уже до сравнения имела определенную длину. Но если присмотреться внимательнее, то выяснится, что на самом деле длина у линии имеется только в момент сравнения. Ведь определение своей длины - потому что она же не просто «длинна» - линия не может получить от себя самой, но получает его только благодаря другой, относительно которой она себя мерит и которой она тем самым оказывает точно такую же услугу, хотя результат измерения зависит не от самого этого акта, но от каждой линии, существующей независимо от другой. Вспомним о категории, которая сделала для нас понятным объективное ценностное суждение, названное мною метафизическим: [речь шла о том, что] в отношении между нами и вещами появляется требование совершить определенное суждение, содержание которого, между тем, не заключено в самих вещах. Подобным же образом совершается и суждение относительно длины: от вещей исходит к нам как бы притязание осуществить некое содержание, но это содержание не предначертано самими вещами, а может быть реализовано лишь нашим внутренним актом. То, что длина вообще только и создается в процессе сравнения и, таким образом, заказана объекту как таковому, о которого она зависит, легко укрывается от нас только потому, что из отдельных относительных длин мы абстрагировали общее понятие длины - исключив при этом, таким образом, именно определенность, без которой не может быть никакой конкретной длины, - а теперь проецируем это понятие внутрь вещей, полагая, будто они должны были все-таки сначала вообще иметь длину, прежде чем она могла быть путем сравнения определена для единичного случая. Сюда еще добавляется, что из бесчисленных сравнений, образующих длину, выкристаллизовались прочные масштабы, через сравнение с которыми определяются длины всех отдельных пространственных образований, так что эти длины, будучи как бы воплощениями абстрактного понятия длины, кажутся уже не относительными, потому что все измеряется по ним, они же совсем не измеряются - заблуждение не меньшее, чем уверенность в том, что падающее яблоко притягивается землей, а она им - нет. Наконец, ложное представление о том, что отдельной линии самой по себе присуща длина, внушается потому, что для нас в отдельных частях линии уже имеется множество элементов, в отношениях которых состоит длина. Подумаем, что было бы, если бы во всем мире имелась бы только одна линия: она вообще не была бы «длинна», так как у нее отсутствовало бы соотношение с какой-либо другой, - потому-то и признается, что невозможно говорить об измерениях мира как целого, ибо вне мира нет ничего, в соотношении с чем он мог бы иметь некую величину. Но фактически так обстоит дело с каждой линией, покуда она рассматривается без сравнения с другими или без сравнения ее частей между собой: она ни коротка, ни длинна, но еще внеположна всей этой категории. Итак, эта аналогия, вместо того чтобы опровергнуть относительность хозяйственной ценности, только делает ее еще яснее.
Если нам приходится рассматривать хозяйство как особый случай всеобщей жизненной формы обмена, при которой отдают, чтобы получить, то уже с самого начала мы будем предполагать ситуации, когда и внутри него ценность полученного не бывает доставлена, так сказать, в готовом виде, но возрастает у вожделеемого объекта отчасти или даже всецело по мере для этого, как для [его получения] требуется жертва. Такие случаи, столь же частые, сколь и важные для учения о ценностях, таят в себе, правда, одно внутреннее противоречие: получается, что мы должны приносить в жертву ценность ради вещей, которые по себе ценности не имеют. Однако ведь разумным образом никто не отдает ценность, не получая за нее нечто по меньшей мере столь же ценное, а так, чтобы цель, наоборот, обретала свою ценность лишь благодаря цене, которую мы должны за нее отдать, может случаться лишь в извращенном мире. Это [рассуждение] правильно уже применительно к непосредственному сознанию, причем даже в большей мере, чем, с точки зрения этого популярного подхода, считается в других случаях. Фактически та ценность, которую субъект отдает за другую, при фактических сиюминутных обстоятельствах никогда не может для самого субъекта превышать ту, которую он на нее выменивает. И если кажется, что все обстоит наоборот, то это всегда происходит оттого, что действительно воспринимаемую субъектом ценность путают с той, которая присуща соответствующему предмету обмена согласно средней или представляющейся объективной оценке. Так, в крайней нужде некто отдает драгоценность за кусок хлеба, потому что последний при данных обстоятельствах важнее для него, чем первая. Но чтобы с некоторым объектом было связано некоторое чувство ценности всегда нужны определенные обстоятельства, потому что носителем каждого такого чувства является весь многочленный, находящийся в постоянном движении, приспособлении и преобразовании комплекс нашего чувствования; а уникальны ли эти обстоятельства или относительно постоянны, в принципиальном смысле явно безразлично. Отдавая драгоценность, голодный однозначно доказывает, что хлеб для него более ценен. Итак, нет сомнения, что в момент обмена, принесения жертвы, ценность выменянного предмета образует ту границу, выше которой не может подняться ценность отдаваемого предмета. И совершенно независимо от этого ставится вопрос, откуда же получает свою столь необходимую ценность тот первый объект, не из тех ли жертв, которые надо принести, чтобы получить его, так что эквивалентность полученного и его цены устанавливается как бы a posteriori и с точки зрения последней. Мы сейчас увидим, сколь часто ценность психологически возникает именно таким, кажущимся нелогичным, образом. Но если уж она однажды появилась, то, конечно, и по отношению к ней - не меньше, чем по отношению к ценности, конституированной любым другим образом, - психологически необходимо, чтобы она считалась позитивным благом, по меньшей мере, таким же большим, как и негативное, - приносимая ради нее жертва. В действительности уже поверхностному психологическому рассмотрению известен целый ряд случаев, когда жертва не просто повышает, но именно только и создает ценность цели. Прежде всего, в этом процессе находит выражение радость от доказательства своей силы, от преодоления трудностей, а часто и противодействия. Необходимость идти обходным путем для достижения определенных вещей часто является поводом, но часто - и причиной, чтобы почувствовать их ценность. Во взаимоотношениях людей, прежде всего и яснее всего в эротических, мы замечаем, как сдержанность, равнодушие или отказ возбуждают как раз самое страстное желание победить, несмотря на препятствия, и побуждают нас к усилиям и жертвам, которых эта цель, не будь такого противодействия, казалась бы, не заслуживает. Для многих людей эстетическое потребление альпийских восхождений не стоило бы внимания, если бы его ценой не были чрезвычайные усилия и опасности, которые только и придают ему важность, притягательную силу и достоинство. Очарование древностей и редкостей нередко заключено в том же; если с ними не связан никакой эстетический или исторический интерес, то заменой ему служит одна только трудность их получения: они настолько ценны, сколько они стоят, и только затем уже оказывается, что они стоят столько, насколько они ценны. Далее, нравственные заслуги всегда означают, что для совершения нравственно желательного деяния сначала было необходимо побороть противоположно направленные влечения и желания и пожертвовать ими. Если же оно совершается без какого бы то ни было преодоления, как само собой разумеющийся результат беспрепятственных импульсов, то сколь бы ни было объективно желательно его содержание, ему тем не менее не приписывается в том же смысле субъективная нравственная ценность. Напротив, только благодаря жертвованию низшими и все-таки столь искусительными благами достигается вершина нравственных заслуг, тем более высокая, чем соблазнительнее были искушения и чем глубже и обширнее было жертвование ими. Наивысший почет и наивысшую оценку получают такие дела людей, которые обнаруживают или, по крайней мере, кажется, что обнаруживают, максимум углубленности, затраты сил, постоянной концентрации всего существа, - а тем самым также и отречения, жертвования всем посторонним, отдачи субъективного объективной идее. А если несравненную привлекательность демонстрирует, напротив, эстетическая продукция и все легкое, приятное, источаемое самоочевидным влечением, то и эта особенность объясняется подспудным ощущением, что обычно-то аналогичный результат обусловлен тяготами и жертвами. Подвижность наших душевных содержаний и неисчерпаемая их способность вступать в комбинации часто приводит к тому, что важность некоторой связи переносится на прямую ее противоположность, так, примерно, как ассоциация двух представлений совершается и потому, что они согласуются между собой, и потому, что они друг другу противоречат. Полученное без преодоления трудностей и словно подарок счастливого случая мы воспринимаем как совершенно особенную ценность только благодаря тому, какое значение имеет для нас достигаемое с трудом, измеряемое жертвами - это та же самая ценность, но с обратным знаком, и первична именно она, а другая может быть только выведена из нее, но никак не наоборот.
Таковы, конечно, скорее, крайние или исключительные случаи. Но если мы хотим выявить их тип в широкой области хозяйственных ценностей, требуется, видимо, сначала отделить понятие хозяйственности как специфического различия, или формы, от ценностей как всеобщего, или их субстанции. Примем, что ценность есть нечто данное и теперь уже не подлежащее дискуссии, и тогда, после всего, что уже было сказано, не подлежит сомнению, по меньшей мере, то, что хозяйственная ценность как таковая присуща не изолированному предмету в его для-себя-бытии, а только затрате другого предмета, который отдается за первый. Дикорастущий плод, сорванный без труда, не отдаваемый в обмене и вкушаемый непосредственно, не есть хозяйственное благо; таковым он может считаться в лучшем случае лишь тогда, когда его потребление избавляет, скажем, от иных хозяйственных затрат; но если бы все требования жизни <Lebenshaltung> удовлетворялись таким образом, чтобы ни один момент не был связан с жертвой, то и люди уже не хозяйствовали бы, как птицы, рыбы или жители страны дураков. Каким бы способом ни стали ценностями оба объекта, А и В, но хозяйственной ценностью А становится лишь потому, что я должен отдать за него В, а В - лишь потому, что я могу получить за него А; причем, как уже сказано, принципиально все равно, совершается ли жертвование путем отдачи ценности другому человеку, то есть путем обмена между индивидами, или в пределах круга интересов самого индивида, путем подсчета усилий и результатов. В объектах хозяйства невозможно найти совершенно ничего, кроме того значения, которое каждый из них прямо или косвенно имеет для нашего потребления, и обмена, совершающегося между ними. А так как признается, что первого как такового еще недостаточно, чтобы сделать предмет хозяйственным, то последнее только и способно добавить к нему специфическое различие, которое мы называем хозяйственным. Однако это разделение между ценностью и ее хозяйственной формой движения искусственно. Если хозяйство поначалу представляется только формой в том смысле, что оно уже предполагает ценности как свои содержания, чтобы иметь возможность включить их в движение уравнивания жертвы и прибыли, то все-таки в действительности тот же самый процесс, который из ценностей как предпосылок образует хозяйство, можно обрисовать как производство самих ценностей следующим образом.
Хозяйственная форма ценности находится между двух границ: с одной стороны, вожделение объекта, которое подсоединяется к предвосхищаемому чувству удовлетворения от обладания и наслаждения им; с другой стороны, - само это наслаждение, которое, строго говоря, не есть хозяйственный акт. Ведь если согласиться с тем, о чем мы только что говорили (а это достаточно общепринятый взгляд), то есть что непосредственное потребление дикорастущих плодов не является хозяйственной деятельностью, а сами эти плоды, таким образом, не являются хозяйственной ценностью, то и потребление собственно хозяйственных ценностей тогда уже не является хозяйственным: ибо акт потребления в этом последнем случае абсолютно не отличается от акта потребления в первом случае: для того, кто ест плод, в акте еды и его прямых последствиях нет никакой разницы, случайно ли он нашел этот плод, вырастил сам или купил. Но предмет, как мы видели, -вообще еще не ценность, пока он, как непосредственный возбудитель чувств, еще непосредственно слит с субъективным процессом, составляя как бы самоочевидную компетенцию нашей чувственной способности. Он должен быть сначала отделен от нее, чтобы получить для нас то подлинное значение, которое мы называем ценностью. Дело не только в том, что в себе и для себя вожделение, конечно, вообще не могло бы выступать основанием какой бы то ни было ценности, если бы не наталкивалось на препятствия - ведь если бы всякое вожделение удовлетворялось без борьбы и без остатка, то не только никогда не возникло бы хозяйственного обращения ценностей, но и само вожделение при беспрепятственном удовлетворении никогда не достигало бы сколько-нибудь значительных высот. Только отсрочка удовлетворения из-за препятствий, опасения, что объект может ускользнуть, напряжение борьбы за [обладание] им, суммирует моменты вожделения: интенсивность воления и непрерывность обретения. Но если бы даже наивысшее по силе вожделение имело сугубо внутреннее происхождение, то и тогда, как это неоднократно подчеркивалось, за объектом, который его удовлетворяет, не признавалось бы никакой ценности, если бы он доставался нам без ограничений. Тогда для нас был бы важен, конечно, весь род [объектов], существование которого гарантирует нам удовлетворение наших желаний, а не то ограниченное количество, которым мы фактически обладаем, потому что его точно так же можно было бы без труда заменить другим, причем, однако, и вся эта совокупность осознавалась бы как ценная только при мысли о том, что ее могло бы не быть. Наше сознание в этом случае было бы просто наполнено ритмом субъективных вожделений и удовлетворений, не уделяя внимания посредствующему объекту. Сами по себе потребность и удовлетворение не содержат ни ценности, ни хозяйства. И то, и другое осуществляется одновременно только благодаря обмену между двумя субъектами, каждый из которых делает для другого условием чувства удовлетворения некоторый отказ, или благодаря аналогу [такого обмена] в солипсистском хозяйстве. Благодаря обмену, то есть хозяйству, одновременно возникают ценности хозяйства, потому что оно является носителем или создателем дистанции между субъектом и объектом, которая переводит субъективное состояние чувства в объективное оценивание. Я уже приводил выше слова Канта, суммировавшего свое учение о познании следующим образом: условия опыта суть одновременно условия предметов опыта, то есть процесс, который мы называем опытом, и представления, которые образуют его содержания или предметы, подлежат одним и тем же законам рассудка. Предметы могут входить в наш опыт, постигаться нами на опыте потому, что они суть наши представления, и та же самая сила, которая образует и определяет опыт, обнаруживается и в образовании предметов. И в том же самом смысле мы можем здесь сказать, что возможность хозяйства есть одновременно возможность предметов хозяйства. Именно процесс, происходящий между двумя собственниками объектов (субстанций, рабочей силы, прав, вообще всего, что только можно передать), который устанавливает среди них отношение «хозяйства», то есть [процесс] - взаимной - отдачи, в то же самое время возвышает каждый из этих объектов, относя его к категории ценности. Трудность, угрожавшая нам со стороны логики, а именно, что сначала ценности должны были бы существовать, существовать как ценности, прежде чем вступить в форму в хозяйства и его движение, теперь преодолена, благодаря уясняемому значению того психического отношения, которое мы назвали дистанцией между нами и вещами. Дистанция дифференцирует изначально субъективное состояние чувств на вожделеющий субъект, только антиципирующий чувства, и противостоящий ему объект, который теперь содержит в себе ценность, - тогда как дистанция создается в области хозяйства благодаря обмену, т. е. благодаря обоюдному установлению границ, препятствий, отказов. Таким образом, для производимых ценностей хозяйства, равно как и для хозяйственного характера <Wirtschaftlichkeit> ценностей свойственны одна и та же взаимность и относительность.
Обмен - это не сложение процесса отдачи и процесса принятия, но некое новое третье, которое возникает, поскольку каждый из них есть в одно и то же время и причина другого, и его результат. Благодаря этому ценность, которую сообщает объекту необходимость отказа, становится хозяйственной ценностью. Если, в общем, ценность возникает в интервале, который препятствия, отказы, жертвы устанавливают между волей и ее удовлетворением, то раз уж процесс обмена состоит в такой взаимообусловленности принятия и отдачи, то нет нужды в предшествующем процессе оценивания, который бы делал ценностью один только данный объект для одного только данного субъекта. Все что здесь необходимо, совершается ео ipso* в акте обмена. В эмпирическом хозяйстве вещи, вступающие в обмен, обычно уже снабжены, конечно, знаками ценности. Мы же здесь имеем в виду только внутренний, так сказать, систематический смысл понятия ценности и обмена, от которого в исторических явлениях остались лишь рудименты или идеальное значение, не та форма, в которой эти явления живут как реальные, но та, которую они обнаруживают в проекции на уровень объективно-логического, а не историке-генетического понимания.
* Само собой (лат.).
Перевод хозяйственного понятия ценности, имеющего характер изолированной субстанциальности, в живой процесс соотнесения, можно, далее, объяснить тем, что обычно рассматривается как конституирующие ценность моменты: нужностью и редкостью. Нужность здесь выступает как первое условие, заложенное в самой организации <Verfassung> хозяйственных субъектов, лишь при соблюдении которого объект вообще может иметь значение для хозяйства. А вот чтобы обрести конкретную высоту отдельной ценности, к нужности должна добавиться редкость как определенность самого ряда объектов. Если бы решили устанавливать хозяйственные ценности путем спроса и предложения, то спрос соответствовал бы нужности, а предложение - моменту редкости. Пригодность играла бы решающую роль при определении того, есть ли у нас вообще спрос на предмет, а редкость - в вопросе о том, с какой ценой предмета мы были бы вынуждены согласиться. Пригодность выступает как абсолютная составляющая хозяйственных ценностей, величина которой должна быть определена, чтобы с нею она и вступала в движение хозяйственного обмена. Правда, редкость с самого начала следует признать чисто негативным моментом, так как она означает исключительно то - количественное - отношение, в котором соответствующий объект находится с наличной совокупностью себе подобных, иначе говоря, [редкость] вообще не затрагивает качественную сущность объекта. Однако, нужность, как кажется, существует до всякого хозяйства, до сравнения, соотнесения с другими объектами и, будучи субстанциальным моментом хозяйства, делает зависимыми от себя его движения.
Но, прежде всего, указанное обстоятельство неправильно обозначать понятием нужности (или полезности). В действительности здесь имеется в виду вожделенноетъ объекта. Сколь бы ни был нужен предмет, само по себе это не может стать причиной хозяйственных операций с ним, если из его нужности не следует вожделенность. Так и получается. Любое представление о нужных нам вещах может сопровождать какое-нибудь «желание», однако подлинного вожделения, которое имеет хозяйственное значение и предваряет нашу практику, не возникает и по отношению к ним, если ему противодействуют продолжительная нужда, инертность конституции, уход к другим сферам интересов, равнодушие чувства по отношению к теоретически признанной пользе, очевидная невозможность [ее] достижения, а также другие позитивные и негативные моменты. С другой стороны, мы вожделеем и, следовательно, хозяйственно оцениваем многие вещи, которые невозможно обозначить как нужные или полезные, разве только произвольно расширяя словоупотребление. Но если допустить такое расширение и все хоз.яйственно вожделеемое подводить под понятие нужности, тогда логически необходимо (а иначе не все полезное будет также и вожделее-мо), чтобы решающим моментом хозяйственного движения считалась вожделенность объектов. Однако и этот момент, даже с такой поправкой, отнюдь не абсолютен и не избежал относительности оценивания. Во-первых, как мы уже видели, само вожделение не получает сознательной определенности, если между объектом и субъектом не помещаются препятствия, трудности, жертвы; мы подлинно вожделеем лишь тогда, когда мерой наслаждения предметом выступают промежуточные инстанции, когда, во всяком случае, цена терпения, отказа от других стремлений и наслаждений отодвигают от нас предмет на такую дистанцию, желание преодолеть которую и есть его вожделение. А во-вторых, хозяйственная ценность предмета, возникающая на основании его вожделенности, может рассматриваться как усиление или сублимация уже заложенной в вожделении относительности. Ибо практической, то есть вступающей в движение хозяйства ценностью вожделее-мый предмет становится лишь благодаря тому, что его вожделенность сравнивается с вожделенностью иного и только так вообще обретает некую меру. Только если есть второй объект, относительно которого мне ясно, что я хочу его отдать за первый или первый - за второй, можно указать на хозяйственную ценность обоих объектов. Изначально для практики точно так же не существует отдельной ценности, как для сознания изначально не существует единицы. Двойка, как это подчеркивали разные авторы, древнее единицы. Если палка разломана на куски, требуется слово для обозначения множества, целая - она просто «палка», и повод назвать ее «одной» появляется, только если дело уже идет о двух как-то соотнесенных палках. Так и вожделение объекта само по себе еще не ведет к тому, чтобы у него появилась хозяйственная ценность, - для этого здесь нет необходимой меры: только сравнение вожделений, иными словами, обмениваемость их объектов фиксирует каждый из них как определенную по своей величине, т. е. хозяйственную ценность. Если бы в нашем распоряжении не было категории равенства (одной из тех фундаментальных категорий, которые образуют из непосредственно [данных] фрагментов картину мира, но только постепенно становятся психологически реальными), то «нужность» и «редкость», как бы велики они ни были, не создали бы хозяйственного общения. То, что два объекта равно достойны вожделения или ценны, при отсутствии внешнего масштаба можно установить лишь таким образом, что в действительности или мысленно их обменивают друг на друга, не замечая разницы в (так сказать, абстрактном) ощущении ценности. Поначалу же, видимо, не обмениваемость указывала на равноценность как на некоторую объективную определенность самих вещей, но само равенство было не чем иным, как обозначением возможности обмена. В себе и для себя интенсивность вожделения еще не обязательно повышает хозяйственную ценность объекта. Ведь, поскольку ценность выражается только в обмене, то и вожделение может определять ее лишь постольку, поскольку оно модифицирует обмен. Даже если я очень сильно вожделею предмет, ценность, на которую его можно обменять, тем самым еще не определена. Потому что или у меня еще нет предмета - тогда мое вожделение, если я не выражаю его, не окажет никакого влияния на требования нынешнего владельца, напротив, он будет предъявлять их в меру своей собственной или некоторой средней заинтересованности в предмете; или же, [если] у меня самого есть предмет, мои требования будут либо столь завышены, что предмет окажется вообще исключен из процесса обмена, или мне придется их подстраивать под меру заинтересованности в этом предмете потенциального покупателя. Итак, решающее значение имеет следующее: хозяйственная, практически значимая ценность никогда не есть ценность вообще, но - по своей сущности и понятию - всегда есть определенное количество ценности; это количество вообще может стать реальным только благодаря измерению двух интенсивностей вожделения, служащих мерами друг для друга; форма, в которой это совершается в рамках хозяйства, есть форма обмена жертвы на прибыль; вожделенность предмета хозяйства, следовательно, не содержит в себе, как это кажется поверхностному взгляду, момента абсолютной ценности, но исключительно как фундамент или материал - действительного или мыслимого - обмена сообщает предмету некую ценность. Относительность ценности - вследствие которой данные вожделеемые вещи, возбуждающие чувство, только в процессе взаимной отдачи и взаимного обмена становятся ценностями - заставляет, как кажется, сделать вывод, что ценность есть не что иное, как цена, и что по величине между ними нет никаких различий, так что частыми расхождениями между ценой и ценностью теория якобы оказывается опровергнута. Однако, теория утверждает, что первоначально ни о какой ценности вообще не было бы речи, если бы не то всеобщее явление, которое мы называем ценой. То, что вещь чисто экономически чем-то ценна, означает, что она чем-то ценна для меня, т. е. что я готов что-то за нее отдать. Всю свою практическую эффективность ценность как таковая может обнаружить лишь настолько, насколько она эквивалентна другим, т. е. насколько она обмениваема. Эквивалентность и обмениваемость суть понятия взаимозаменимые, оба они выражают в разных в формах одно и то же положение дел, [одно -] как бы в состоянии покоя, а [другое -] в движении. Да и что же, скажите, вообще могло бы подвигнуть нас не только наивно-субъективно наслаждаться вещами, но еще и приписывать им ту специфическую значимость <Bedeutsamkeit>, которую мы называем их ценностью? Во всяком случае, это не может быть их редкость как таковая. Потому что если бы она существовала просто как факт и мы совершенно не могли бы ее модифицировать (а ведь это возможно, причем не только благодаря производительному труду, но и благодаря смене обладателя), то мы, пожалуй, примирились бы с тем, что это - естественная определенность внешнего космоса, пожалуй, даже не осознаваемая из-за отсутствия различий, которая не добавляет к содержательным качествам вещей никакой дополнительной важности. Эта важность появляется лишь тогда, когда за вещи приходится что-то платить: терпением ожидания, трудами поиска, затратами рабочей силы, отказом от чего-то другого, что тоже достойно вожделения. Итак, без цены (поначалу мы говорим о цене в этом более широком смысле) ни о какой ценности речи не идет. Весьма наивно это выражено в вере, бытующей на некоторых островах южных морей, будто если не заплатить врачу, то не подействует и предписанное им лечение. То, что из двух объектов один более ценен, чем другой, как внешне, так и внутренне выглядит таким образом, что субъект готов отдать второй за первый, но не наоборот. В практике, которая еще не стала сложной и многосоставной, большая или меньшая ценность может быть только следствием или выражением этой непосредственной воли к обмену. А если мы говорим, что обменяли одну вещь на другую, потому что они равноценны, то это тот нередкий случай, когда понятия, язык все выворачивают наизнанку и мы думаем, будто любим кого-то за то, что он обладает определенными качествами, - тогда как это мы сообщили ему эти качества только потому, что любим его; - или же мы выводим нравственные императивы из религиозных догм, тогда как в действительности мы в них верим именно потому, что они живут в нас.
Итак, по своей сущности, как она схватывается в понятии, цена совпадает с экономически объективной ценностью; без цены вообще не удалось бы отграничить эту последнюю от субъективного наслаждения предметом. Выражение же, что обмен предполагает равную ценность, неправильно именно с точки зрения субъектов-контрагентов. А и В хотят обменяться между собой предметами своего владения се и р, так как оба они равноценны. Однако у А не было бы повода отдавать свой а, если бы он действительно получал за него равную по величине ценность р. Р должен означать для него большее количество ценности, нежели то, которым он прежде обладал как а; а равным образом и В должен больше приобретать, чем терять при обмене, чтобы вступить в него. Итак, если для А р более ценен, чем а, а для В, напротив, - а более ценен, чем р, то, конечно, с точки зрения наблюдателя, объективно это уравнивается. Однако этого равенства ценности нет для контрагента, который больше получает, чем отдает. И если он все-таки убежден, что поступил с другим по праву и справедливости и выменял у него [нечто] равноценное, то применительно к А это следует выразить так: конечно, объективно он отдал В равное за равное, цена (а) эквивалентна предмету (Р), однако субъективно ценность р для него, конечно, больше, чем ценность а. Но чувство ценности, связывающее А с Р, есть само по себе некое единство, а в нем уже невозможно различить даже мельчайшей черточки, которая бы разделяла объективное количество ценности и его субъективное признание. Итак, исключительно тот факт, что объект обменивается, то есть является некой ценой и стоит некую цену, задает эту границу, определяет в пределах субъективного количества его ценности ту часть [объекта], которая вступает в общение как встречная ценность.
Другое наблюдение ничуть не менее поучительно. [Оно заключается в том,] что обмен отнюдь не обусловлен предшествующим представлением об объективной равноценности. Присмотримся к тому, как совершают обмен ребенок, человек импульсивный и (как по всему кажется) человек примитивный. Они что угодно отдадут за предмет, который страстно вожделеют именно в данный момент, даже если, по общему мнению, цена его слишком высока, да и сами они, спокойно поразмыслив, думают так же. Однако это не противоречит результату наших предшествующих рассуждений, что всякий обмен должен представляться выгодным для сознания субъекта именно потому, что субъективно такие действия в целом еще не имеют отношения к вопросу о равенстве или неравенстве объектов обмена. Как раз для рационализма, [подходящего к вопросу] столь непсихологически, кажется, между прочим, самоочевидным, будто каждый обмен предполагает, что уже взвешены все жертвы и прибыли, и в результате, по меньшей мере, одно было приравнено к другому. А к тому же еще [полагают, будто участник обмена] объективен по отношению к своему вожделению, что вовсе не характерно для душевных конституций, о которых только что шла речь. Неразвитый или пристрастный дух не отступает от своего интереса, обострившегося в данный момент, так далеко, чтобы затевать сравнение, он хочет в данный момент именно лишь одного и, отдавая другое, не считает поэтому, что умаляет желанное удовлетворение, то есть отдача не воспринимается как цена. Мне-то, напротив, в виду той бездумности, с какой ребячливые, неопытные, порывистые люди «любой ценой» заполучают то, что является предметом их сию-минутного вожделения, кажется вероятным, что суждение о тождестве является только результатом опыта и мно-жества перемен во владении, совершившихся без каких бы то ни было соображений, [взвешивающих жертвы и прибыли]. Совершенно одностороннее, полностью оккупирующее дух вожделение должно сначала успокоиться благодаря обладанию [предметом], чтобы [оно могло] вообще допустить другие объекты к сравнению с ним. Не вышколенный и необузданный дух, между тем, придает одно значение своим интересам в данный момент, и совершенно другое - всем остальным представлениям и оценкам. Поэтому он пускается на обмен прежде, нежели дело дойдет до суждений о ценности, т. е. об отношении между собой различных количеств вожделения. Не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что в случае развитого по-нятия ценности и достаточного самообладания суждение о равной ценности предшествует обмену. Вполне вероятно, что и здесь, как это нередко бывает, рациональное отношение развилось только из психологически противоположного отношения (также и в области души то рсут змЬт есть последнее, что цэуей* есть первое), а перемена владения, ставшая результатом чисто субъективных импульсов, только впоследствии демонстрирует нам относительную ценность вещей.
* [То] для нас [есть последнее, что] по природе [есть первое]. (Греч.). (См.: Аристотель. Физика. Кн. первая, Гл. первая: «...надо попытаться определить прежде всего то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе...». Пер. В. П. Карпова). - Указано Т. Ю. Бородай.
Если, таким образом, ценность является как бы эпигоном цены, то кажется тождественным положение, что величины обеих должны быть одинаковы. Я здесь имею в виду указанную выше постановку вопроса: в каждом индивидуальном случае ни один контрагент не платит цены, которая слишком высока для него в данных обстоятельствах. Если в стихотворении Шамиссо разбойник приставляет пистолет и вынуждает жертву продать ему часы и кольцо за три гроша, то при таких обстоятельствах для последнего (ибо только так он может спасти свою жизнь) полученное в обмен действительно стоит свою цену; никто не стал бы работать за нищенское жалованье, если бы в том положении, в котором он фактически находится, это жалованье не было бы для него все-таки предпочтительнее, чем отсутствие работы. Видимость парадокса в утверждении об эквивалентности ценности и цены в каждом индивидуальном случае возникает только потому, что в это утверждение привносятся определенные представления о другого рода эквивалентности ценности и цены. Сравнительная стабильность отношений, которыми определяется множество действий, ас другой стороны, - аналогии, которые также фиксируют еще колеблющееся отношение ценности соответственно норме уже существующих [отношений ценности], вызывают представление о том, что с определенным объектом сопряжен по своей ценности именно такой-то и такой-то иной объект как его обменный эквивалент, оба эти объекта или круга объектов обладают ценностью одинаковой величины, а если ненормальные обстоятельства заставляют нас обменивать этот объект на другие ценности, которые находятся выше или ниже этого уровня, то ценность и цена здесь расходятся, хотя в каждом отдельном случае, с учетом конкретных обстоятельств, они совпадают. Не следует только забывать, что объективная и справедливая эквивалентность ценности и цены, которую мы делаем нормой для фактически существующей и единичной эквивалентности, имеет силу тоже только при совершенно определенных исторических и правовых условиях, а с изменением их сразу же исчезает. Итак, между самой нормой и теми случаями, которые она характеризует как отклоняющиеся или адекватные, различие здесь не принципиальное <genereller>, а, так сказать, нумериче-ское - что-то вроде того, как об индивиде, стоящем необыкновенно высоко или [упавшем] необыкновенно низко говорят, что это, собственно, уже не человек, тогда как такое понятие человека есть лишь среднее, которое потеряло бы свой нормативный характер в тот момент, когда большинство людей либо поднялось столь же высоко, либо опустилось столь же низко, и тогда уже именно эта его конституция считалась бы единственно человеческой. Но чтобы понять это, требуется самым энергичным образом освободиться от укоренившихся и практически совершенно справедливых представлений о ценностях. Ведь при сколько-нибудь более развитых отношениях эти представления располагаются друг над другом двумя слоями: один [слой] образуют традиции общественного круга, основная часть опыта, кажущиеся чисто логическими требования; другой же [слой] составляют индивидуальные констелляции, то, что требуется в данное мгновение и к чему принуждает случайное окружение. В противоположность скорым переменам, происходящим на этом последнем уровне, медленная эволюция, совершающаяся на первом, и его образование через сублимацию второго оказывается скрытым от нашего восприятия, так что он кажется объективно <sachlich> оправданным, выражением некоторой объективной <objektiven> пропорции. Итак, если при обмене в данных обстоятельствах ощущения ценности жертвы и ценности прибыли, по меньшей мере, выступают как равные, - потому что иначе ни один субъект, который вообще производит сравнение, не стал бы этот обмен совершать, - но, с точки зрения указанных общих характеристик, между ними обнаруживаются различия, тогда говорят о разрыве между ценностью и ценой. Самым решительным образом это проявляется при наличии двух предпосылок, которые, впрочем, почти всегда образуют единое целое: во-первых, одно-единственное ценностное качество считается хозяйственной ценностью вообще, и два объекта, таким образом, лишь постольку считаются равно ценными, поскольку в них заложено равное количество <Quan-tum> этой фундаментальной ценности; а во-вторых, определенная пропорция между двумя ценностями выступает как должная, с акцентом не только на объективное, но и на моральное требование. Например, представление о том, что собственно ценностным моментом во всех ценностях является опредмеченное, общественно необходимое рабочее время, используется в обоих отношениях и задает, таким образом, масштаб (применимый прямо или косвенно), заставляя ценность, как маятник, колебаться по отношению к цене, с переменным интервалом отличаясь от нее в большую или меньшую сторону. Однако поначалу сам факт единого масштаба ценности совершенно оставляет в стороне [вопрос о том,] как же рабочая сила стала ценностью.
Вряд ли это произошло бы, если бы она, действуя на различные материалы и создавая различные продукты, не получила бы тем самым возможность обмена или если бы ее применение не было воспринято как жертва, которую приносят для получения результата. Также и рабочая сила лишь благодаря возможности и реальности обмена включается в категорию ценностей, невзирая на то, что затем она в рамках этой категории может задавать масштаб для других ее содержаний. Итак, пусть даже рабочая сила будет содержанием всякой ценности, форму ценности она получает лишь благодаря тому, что вступает в отношение жертвы и прибыли или цены и ценности (в узком смысле). Согласно этой теории получается, что в случае расхождения цены и ценности один контрагент отдает некое количество непосредственно опредмеченной рабочей силы за некоторое меньшее количество того же самого, причем с этим количеством таким образом сопряжены иные, не относящиеся ни к какой рабочей силе обстоятельства, что этот контрагент, тем не менее, совершает обмен, удовлетворяя, например, какую-то неотложную потребность, из любительского интереса, ради обмана, монополии и тому подобного. Итак, в более широком и субъективном смысле и здесь ценность эквивалентна другой ценности, тогда как единая норма рабочей силы, которая делает возможным их расхождение, все равно обязана генезисом своего ценностного характера обмену.
Качественная определенность объектов, которая субъективно означает их вожделенность, теперь уже больше не может претендовать на то, что именно она создает абсолютную величину их ценности: только осуществляемое в обмене отношение вожделений друг к другу делает предметы этих вожделений хозяйственными ценностями. Это определение непосредственно выступает на передний план в другом моменте ценности, который считается конститутивным для нее - в недостаточности или относительной редкости. Ведь обмен есть не что иное, как межиндивидная попытка улучшения скверных обстоятельств, возникающих из-за недостаточности благ, т. е. попытка по возможности уменьшить количество субъективных лишений путем распределения имеющихся запасов. Уже отсюда вытекает прежде всего общая соотнесенность между тем, что называют (это, впрочем, справедливо подвергается критике) ценностью редкости, и тем, что называют меновой ценностью. Однако здесь более важна обратная взаимосвязь. Выше я уже подчеркивал, что следствием недостаточности благ вряд ли было бы приписыванием им ценности <Wertung>, если бы мы не могли модифицировать эту недостаточность. А это возможно двумя способами: либо отдачей рабочей силы, объективно умножающей запас благ, либо отдачей уже имеющихся во владении объектов, потому что при смене владений для субъекта устраняется редкость того объекта, который он более всего вожделеет. Таким образом, можно поначалу, видимо, утверждать, что недостаточность благ сравнительно с ориентированным на них вожделением объективно обусловливает обмен, однако только обмен, в свою очередь, делает редкость одним из моментов ценности. Ошибочно во многих теориях ценности то, что они, беря полезность и редкость как данные, рассматривают экономическую ценность, т. е. движение обмена, как нечто само собой разумеющееся, как необходимо вытекающее из самих этих понятий следствие. Но здесь они совершенно не правы. Если бы, например, в ряду этих предпосылок находилось также аскетическое самоотречение или если бы они вызывали только борьбу и разбой (что часто и случается), то не возникло бы ни экономической ценности, ни экономической жизни.
Этнология учит нас, какими удивительно произвольными, изменчивыми, несоразмерными бывают понятия ценности в примитивных культурах, коль скоро речь идет о чем-то большем, нежели самых настоятельных повсе-днев-ных нуждах. Не вызывает сомнения, что причина этого (во всяком случае, таков один из взаимодействующих [моментов]) - в другом явлении: в отвращении первобытного человека к обмену. Основания такого отвращения назывались разные. Поскольку у примитивного человека отсутствует объективный и всеобщий масштаб ценностей, он всегда должен бояться, что при обмене его обманут; поскольку продукт труда всегда производится им самим для себя самого, он отчуждает от себя в обмене часть своей личности и дает власть над собой злым силам. Быть может, здесь же берет начало и отвращение естественного человека к труду. Здесь у него тоже нет надежного масштаба для обмена усилий на результат, он боится, что его обманет даже природа, объективность которой непредсказуема и ужасающа для него, пока он не зафиксирует также и свою деятельность на некоторой дистанции и не включит ее в категорию объективности. Итак, из-за того, что он погружен в субъективность своего отношения <Verhaltens> к предмету, обмен - как природный, так и межиндивидный, - который идет рука об руку с объективацией вещи и ее ценности, выступает для первобытного человека как нечто неподходящее. И действительно, кажется, будто первое осознание объекта как такового приносит с собой чувство страха, словно бы человек чувствует, что от его Я тем самым отрывается часть. А отсюда сразу же следует мифологическое и фетишистское толкование объекта, которое, с одной стороны, гипостазирует это чувство страха, сообщая объекту единственно возможную для первобытного человека понятность, а с другой, - ослабляет его, очеловечивая объект, ближе подводя его к примирению с субъективностью. Тем самым объясняются многие явления. Прежде всего то, что грабеж, субъективный и ненормированный захват того, чего только что захотелось, рассматривался как нечто само собой разумеющееся и почетное. Не только в гомеровскую эпоху, но и много позже морской разбой считался в отсталых областях Греции законным промыслом, а у многих примитивных народов насилие и разбой считаются даже делом более благородным, чем честная оплата. И это тоже совершенно понятно: при обмене и оплате подчиняются объективной норме, перед которой вынуждена отступить сильная и автономная личность, к чему она как раз часто не склонна. Отсюда же - презрение к торговле вообще со стороны весьма аристократических и своевольных натур. Но по той же причине обмен также поощряет мирные отношения между людьми, поскольку они признают в нем межсубъектную*, в равной мере стоящие над всеми ними объективность и нормирование.
* В оригинале: «intersubjektive». Перевод этого термина радикально испорчен традицией переложения феноменологических текстов. Во всяком случае, мы можем быть уверены, что Зиммель в 1900 г. далек от «интерсубъективности ».
Следует с самого начала предположить, что существует целый ряд опосредствующих явлений между чистой субъективностью смены владений, с чем мы имеем дело в случаях грабежа и дарения, и ее объективностью в форме обмена, когда вещи обмениваются в соответствии с равными количествами содержащихся в них ценностей. Сюда относится традиционная взаимность дарения. У многих народов имеется представление о том, что дар позволительно принять лишь тогда, когда возможно ответить на него встречным даром, так сказать, заслужить задним числом. А отсюда уже прямой путь к полноценному обмену, если он, как это часто бывает на Востоке, происходит таким образом, что продавец «дарит» объект покупателю - но горе тому, кто не сделает соответствующего «встречного дара». Сюда относится так называемая работа «всем миром» <Bitt-arbeit> которая встречается повсеместно: соседи или друзья собираются для взаимопомощи при выполнении неотложной работы, не получая за это жалованья. Однако, обычным делом при этом является, по меньшей мере, хорошенько угостить работников и, по возможности, устроить для них маленький праздник, так что, например, о сербах сообщают, что у них только состоятельные люди могли себе позволить собрать такое товарищество добровольных работников. Конечно, и сегодня на Востоке, а по большей части даже в Италии не существует понятия соразмерной цены, которое ограничивает и фиксирует субъективные предпочтения и покупателя, и продавца. Каждый продает настолько дорого и покупает настолько дешево, насколько это удается применительно к противоположной стороне, обмен есть исключительно субъективная акция, происходящая между двумя лицами и ее исход зависит только от хитрости, жадности, настойчивости сторон, но не от самой вещи и не от ее надындивидуально обоснованного отношения к цене. В том то и состоит гешефт, объяснял мне один римский антиквар, что продавец требует так много, а покупатель предлагает так мало, и постепенно они сближаются друг с другом, доходя до приемлемой позиции. Итак, здесь ясно видно, каким образом объективно соразмерное оказывается результатом встречного и соревновательного движения <Gegeneinander> субъектов - в целом, это вторжение дообменных отношений в обменное хозяйство, которое проникло уже повсюду, но еще не выявило всех своих последствий. Обмен уже тут, он уже представляет собой объективный процесс, происходящий между ценностями, но совершается он вполне субъективно, его модус и его количества связаны исключительно с взаимоотношением личных качеств. - В этом, видимо, состоит также и конечный мотив [существования] сакральных форм, закрепления в законе, гарантий со стороны общественности и традиции, которые сопутствуют торговому делу во всех ранних культурах. Все это позволяло достичь над-субъектности, необходимой по самой сути обмена, создать которую еще не умели посредством объективного соотнесения самих объектов. До тех пор, пока обмен, а также идея, что между вещами существует нечто вроде ценностного равенства, были еще чем-то новым, ни о каком согласии не было бы и речи, если бы достигать его приходилось всякий раз двум индивидам между собой. Поэтому повсеместно, вплоть до самого средневековья мы обнаруживаем, что обмен не просто совершается публично, но прежде всего, что существуют точные определения относительно обмениваемых количеств употребительных товаров и не подчиниться этим определениям, заключив приватное соглашение, не может ни одна пара контрагентов. Конечно, это - объективность механическая и внешняя, она опирается на мотивы и силы вне отдельного акта обмена. Соразмерная самой вещи <sachlich> объективность свободна от такого априорного закрепления и включает в расчеты всю совокупность особых обстоятельств, которыми насильственно овладевает эта форма. Однако намерения и принцип здесь те же самые: надсубъектное фиксирование ценности в обмене, которое только позже пошло более вещественным, более имманентным путем. Свободно и самостоятельно совершаемый индивидами обмен предполагает ценовую оценку <Taxiemng> в соответствии с масштабами, которые заложены в самой вещи, и потому на предшествующей стадии обмен должен быть содержательно фиксирован, а эта фиксация обмена должна быть социально гарантирована, потому что иначе у индивида не было бы никакой точки опоры для оценки <Schatzung> предметов. Видимо, благодаря тому же самому мотиву и примитивный труд повсеместно приобрел социально упорядоченную направленность и стал совершаться в соответствии с социальными правилами, также и здесь обнаруживая сущнос-тное тождество обмена и труда, точнее говоря, принадлежность последнего к первому как более высокому понятию. Впрочем, многообразные отношения между объективно значимым <Gultigen> - как в практическом, так и в теоретипеском аспекте - и его социальным значением <Bedeutung> и признанием часто исторически проявляются таким образом, что социальное взаимодействие, распространение, нормирование гарантируют индивиду то достоинство и ту прочность некоторого жизненного содержания, которые позже ему дают вещественное право и доказуемость этого содержания. Так, ребенок верит всему, [что ему говорят,] но не по внутренним основаниям, а поскольку доверяет [данным] людям; он верит не чему-то, а кому-то. Так и наши вкусы зависят от моды, т. е. от социального распространения некоторой деятельности и оценок, прежде чем, достаточно поздно, мы не научимся сами эстетически судить о вещах. Так индивид оказывается перед необходимостью превзойти себя самого, но одновременно обрести какую-то опору и поддержку вовне: в праве, в познании, в нравственности - как силе традиции; постепенно это поначалу необходимое нормирование, которое, правда, стоит над отдельным субъектом, но не субъектом вообще, превращается в нормирование, исходящее из знания вещей <Dinge>H постижения идеальных норм. То, что [находится] вне нас, [что] нужно нам для ориентации, принимает более доступную форму социальной всеобщности, пока не начинает выступать для нас как объективная определенность реальности и идей. Таким образом, в этом смысле, что характерно для всего развития культуры, обмен изначально является делом социального установления, пока индивиды в достаточной мере не ознакомятся с объектами и своими собственными оценками, чтобы от случая к случаю самостоятельно фиксировать норму обмена. Здесь напрашивается то возражение, что эти зафиксированные обществом и законами оценки цен <Preistaxen>, в соответствии с которыми обычно идет общение во всех полуразвитых культурах <Halbkulturen>, являются, возможно, всего лишь результатом многих предшествующих обменов, которые поначалу состоялись между индивидами в единичной и еще нефиксированной форме. Однако это возражение имеет здесь силу не больше, чем стародавние попытки объяснять возникновение языка, нравов, права, религии, короче говоря, всех основополагающих форм жизни, возникающих и господствующих в группе как целом, только тем, что их изобрели отдельные индивиды, хотя они, безусловно, с самого начала возникали как межиндивидные образования, как взаимодействие между отдельными и многими, так что приписать их происхождение нельзя ни одному индивиду как таковому. Я считаю вполне возможным, что предшественником социально фиксированного обмена явился не индивидуальный обмен, а некий род смены владений, который вообще не был обменом, например, грабеж. Тогда межиндивидный обмен был бы не чем иным, как мирным договором, а возникновение обмена было бы также и возникновением фиксированного обмена. Как аналогию этому можно было бы рассматривать похищение женщин в примитивных обществах, предшествовавшее экзогамному мирному договору с соседями, который служит основой для покупки женщин и обмена ими и регулирует этот процесс. Вводимая тем самым принципиально новая форма супружества сразу же устанавливается так, чтобы фиксировать ее предрешенность для индивида. Нет никакой нужды в том, чтобы [такому супружеству] предшествовали свободные специальные договоры того же рода между отдельными людьми, поскольку тип супружества и социальное регулирование даны одновременно. Считать, что всякое социально регулируемое отношение исторически развилось из тождественной по содержанию, но только индивидуальной, социально не отрегулированной формы, - это предрассудок. Такому отношению предшествовало, скорее, то же самое содержание, но в совершенно иной по своему роду форме отношения. Обмен выходит за субъективные формы присвоения чужого владения - грабеж и дарение, - в полном соответствии с тем, что подарки вождю и налагаемые им денежные штрафы являются предшественниками налогов, - и на этом пути у него обнаруживается первая надсубъектная возможность социального регулирования, которая только и подготавливает объективность в смысле вещности; только вместе с этим общественным нормированием в свободную смену владений врастает та объективность, которая составляет сущность обмена.
Результат всего этого таков: обмен есть социологическое образование sui generis, изначальная форма и функция межиндивидной жизни, которая отнюдь не вытекает как логическое следствие из тех качественных и количественных свойств вещей, которые называются их полезностью и редкостью. Как раз наоборот: и полезность, и редкость обнаруживают свое значение для образования ценности только в тех случаях, когда предпосылкой является обмен. Если по каким-либо причинам обмен, жертвование в целях получения прибыли, прекращается, то никакая редкость вожделенного объекта не может сделать его хозяйственной ценностью, пока такое отношение не станет вновь возможным. - Значение предмета для субъекта заключено всегда только в его вожделенности; в том, что он может нам дать, решающую роль играет его качественная определенность, а если мы его имеем, то в позитивном отношении к нему совершенно неважно, существуют ли еще другие экземпляры того же рода, будь то в большем или меньшем количестве, или их вообще нет. (Я не рассматриваю здесь по отдельности те случаи, когда сама редкость вновь становится родом качественной определенности, делающей предмет для нас достойным вожделения, подобно тому, как это происходит со старым почтовыми марками, диковинами, древностями, которые не имеют эстетической или исторической ценности, и т. п.). Впрочем, ощущение различия, которое необходимо для наслаждения в узком смысле слова, может быть повсеместно обусловлено редкостью объекта, т. е. тем, что наслаждаются им как раз не везде и не всегда. Однако это внутреннее психологическое условие наслаждения не становится практическим уже потому, что должно было бы повлечь за собой не преодоление, а консервацию и даже усиление редкости, чего, как показывает опыт, не происходит. Практически помимо прямого, зависящего от качества вещей наслаждения, речь может идти только о пути к получению такового. Коль скоро этот путь долог и труден, если требуется приносить жертвы, затрачивать терпение, испытывать разочарования, вкладывать труд, переносить неудобства, идти на отречения и т. д., то этот предмет мы называем «редким» . Непосредственно это можно выразить так: вещи труднодостижимы не потому, что они редки, напротив, они редки потому, что труднодостижимы. Сам по себе тот жесткий внешний факт, что запас определенных благ слишком мал, дабы удовлетворить все наши вожделения, направленные на них, не имел бы никакого значения. Есть много объективно редких вещей, которые не редки в хозяйственном смысле; а для хозяйственной редкости решающим обстоятельством является то, в какой мере для ее получения ее через обмен нужны силы, терпение, самоотдача - те жертвы, которые, конечно, предполагают вож-деленность объекта. Трудности с получением [вещи], т. е. величина приносимой в обмене жертвы есть подлинно конститутивный момент ценности, а редкость - лишь внешнее его проявление, лишь объективация в форме количества. Часто не замечают, что редкость как таковая является все-таки лишь негативным определением, сущим, характеризуемым через несущее. Однако несущее не может быть действенным, всякое позитивное следствие должно исходить от позитивного определения и силы, а это негативное [определение] есть как бы только тень позитивного. Но этими конкретными силами очевидно являются лишь те, которые вложены в обмен. Только нельзя полагать, будто характер конкретности принижается от того, что здесь он не связан с индивидом* как таковым. [Господствующая] среди вещей относительность занимает уникальное положение: она выходит за пределы индивида, существует <subsistiert> только в множестве как таковом и все-таки не является всего лишь понятийным обобщением и абстракцией.
В этом тоже выражается глубинная связь относительности с обобществлением, самым непосредственным образом делающая относительность наглядной на материале человечества: общество есть надъединичное, но не абстрактное образование. Благодаря обществу историческая жизнь оказывается избавленной от альтернативы: либо совершаться в одних лишь в индивидах <Individuen>, либо протекать в абстрактных всеобщностях; оно есть то всеобщее, которое одновременно имеет конкретную жизненность. Отсюда - и уникальное значение обмена для общества как хозяйственно-исторического осуществления относительности вещей: он выводит отдельную вещь <Ding> и ее значение для отдельного человека из ее единичности, но не в сферу всеобщего, а в живое взаимодействие, являющееся как бы телом хозяйственной ценности. Как бы точно ни были исследованы сущие сами по себе определения предмета, обнаружить хозяйственную ценность тем самым не удастся, так как она состоит исключительно во взаимоотношении, возникающем между многими предметами на основе этих определений, [причем] каждый предмет обусловливает другой и возвращает ему то значение, которое от него получает.
* В оригинале: «Einzelwesen» (буквально: «отдельная сущность»), что может означать и отдельную вещь, и человека как индивида.
Роберт Парк ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
I. ТКАНЬ ЖИЗНИ
Натуралисты прошлого века были чрезвычайно заинтригованы своими наблюдениями взаимосвязей и взаимосоответствий в царстве живой природы - многочисленностью и разнообразием повсюду распространившихся видов. Их последователи - сегодняшние ботаники и зоологи - обратили свое внимание к более специфичным исследованиям, и «царство природы», как и понятие эволюции, стало для них чем-то далеким и умозрительным.
«Ткань жизни», в которой все живые организмы (растения и животные) связаны воедино в обширной системе взаимозависимых жизней, все же является, по выражению Артура Томпсона, «одним из фундаментальных биологических понятий» и «столь же характерно дарвиновским, как и борьба за существование»*.
Знаменитый пример Дарвина с кошками и клевером - классическая иллюстрация этой взаимозависимости. Он обнаружил, как он говорит, что шмели просто необходимы для опыления анютиных глазок, так как другие пчелы не посещают этот цветок. То же самое происходит и с некоторыми видами клевера. Только шмели садятся на красный клевер; другие пчелы не могут добраться до его нектара. Вывод заключается в том, что если шмели станут редки или вообще исчезнут в Англии, редкими станут или же вовсе исчезнут и анютины глазки и красный клевер. Однако, численность шмелей в каждом отдельном районе в большой степени зависит от численности полевых мышей, которые разоряют их норы и гнезда. Подсчитано, что более двух третей из них таким образом уже разрушено по всей Англии. Гнезд шмелей гораздо больше возле деревень и малых городов, чем в других местах, и это благодаря кошкам, которые уничтожают мышей**. Таким образом, будущий урожай красного клевера в некоторых частях Англии зависит от численности шмелей в этих районах; численность шмелей зависит от количества полевых мышей, численность мышей - от числа и проворности кошек, а количество кошек, как кто-то добавил, - от числа старых дев, проживающих в окрестных деревнях, которые и держат кошек.
Эти длинные цепочки пищи, как их называют, каждое звено в которых поедает другое, имеют своим прототипом детское стихотворение «Дом, который построил Джек». Помните:
А это корова безрогая, Лягнувшая старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота. Который пугает и ловит синицу. Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится, В доме, Который построил Джек***.
*J. Arthur Thompson. The System of Animate Nature (Gifford Lectures, 1915-16), II (New York, 1920), 58.
** J. Arthur Thompson. Darvinism and Human Life. New York 1911 P. 52-53.
*** Перевод С. Маршака. (Прим, перев.).
Дарвина и его современников-натуралистов особенно интересовали наблюдения и описания подобных любопытных иллюстраций взаимной адаптации, взаимосвязи растений и животных, поскольку это, как им представлялось, проливает свет на происхождение видов. И виды, и их взаимозависимость в едином обиталище являются, по всей видимости, результатом все той же дарвиновской борьбы за существование.
Примечательно, что именно приложение к органической жизни социологического принципа, а именно - принципа «соревновательной кооперации» - дало Дарвину.первую возможность сформулировать его эволюционную теорию.
«Он перенес на органическую жизнь, - пишет Томпсон, - социологическую идею» и «тем самым доказал уместность и полезность социологических идей в области биологии»*.
* Ibid., P. 72.
Действующим принципом упорядочивания и регулирования жизни в царстве живой природы является, по Дарвину, «борьба за существование». С ее помощью регулируется жизнь многих организмов, контролируется их распределение и поддерживается равновесие в природе. Наконец, при помощи этой изначальной формы конкуренции существующие виды, те, кто выжил в этой борьбе, находят свои ниши в физической окружающей среде и в существующей взаимозависимости, или разделении труда между различными видами. Дж. Артур Томпсон приводит впечатляющее подтверждение тому в своей «Системе живой природы»:
«Множества живых организмов - ...не изолированные создания, ибо каждая жизнь переплетена с другими в сложной ткани... Цветы и насекомые пригнаны друг к другу, как рука к перчатке. Кошки так же имеют отношение к чуме в Индии, как и к урожаю клевера здесь... Так же, как взаимосвязаны органы тела, взаимосвязаны и организмы в мире жизни. Когда мы что-нибудь узнаем о подспудном обмене, спросе и предложении, действии и реакции между растениями и животными, цветами и насекомыми, травоядными и плотоядными, между другими конфликтующими, но взаимосвязанными интересами, мы начинаем проникать в обширную саморегулирующуюся организацию».
Эги проявления живого, изменяющегося, но устойчивого порядка среди конкурирующх организмов - организмов, воплощающих в себе «конфликтующие, но взаимосвязанные интересы» - являются, по всей видимости, основой для понятия социального порядка, относящегося к отдельным видам, и к обществу, покоящемуся, скорее, на биотическом, нежели культурном основании; это понятие позднее было разработано экологами применительно к растениям и животным.
В последние годы географы растений первыми возродили свойственный предшествующим естествоиспытателям определенный интерес к взаимосвязям видов. Геккель в 1878 году первым назвал такого рода исследования «экологией» и, тем самым, придал им характер отдельной самостоятельной науки, науки, которую Томпсон описывает как «новую естественную историю»*. Взаимосвязь и взаимозависимость видов, естественно, более очевидны и более тесны в привычном окружении, чем где бы то ни было еще. Более того, по мере увеличения числа взаимосвязей и уменьшения конкуренции в последовательности взаимных адаптации конкурирующих видов, окружающая среда и ее обитатели стремились принять характер более или менее совершенно закрытой системы.
В пределах этой системы индивидуальные единицы популяции вовлечены в процесс соревновательной кооперации, которая придает их взаимосвязям характер естественной экономии. Такого рода среду и ее обитателей - растения ли, животных или человека - экологи называют «сообществом».
Существенными характеристиками интерпретируемого таким образом сообщества являются: 1) популяция, территориально организованная, 2) более или менее полностью укорененная на земле, которую она занимает, 3) причем ее индивидуальные единицы живут в состоянии взаимозависимости, которая более симбиотична, нежели социеталь-на в том смысле, в каком этот термин применим к людям.
Эти симбиотические сообщества - не просто неорганизованные собрания растений и животных, которые по случайности сосуществуют в одной среде. Напротив, они взаимосвязаны самым замысловатым образом. У каждого сообщества есть что-то от органического образования. Оно обладает более или менее определенной структурой и «историей жизни, в которой прослеживаются периоды юности, зрелости и старости»**. Если это организм, то он - один из органов, какими являются и другие организмы. Это, выражаясь словами Спенсера, - суперорганизм.
* «Экология», - пишет Элтон, - соответствует ранее употреблявшимся терминам «естественная история» и «биономика», однако ее методы теперь более тщательны и точны». См. статью «Ecology» // Encyclopaedia Вгиапгаса (14th ed.)
** Edward J. Salisbury. Plants// Encyclopaedia Britannica (14th ed.).
Более чем что бы то ни было придает симбиотическому сообществу характер организма тот факт, что оно обладает механизмом (конкуренцией) для того, чтобы 1) регулировать свою численность и 2) сохранять равновесие между составляющими его конкурирующими видами. Именно благодаря поддержанию этого биотического равновесия сообщество сохраняет свою тождественность и целостность как индивидуальное образование и переживает все изменения и чередования, которым оно подвержено в процессе движения от ранних к поздним стадиям своего существования.
II. РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ
Равновесие в природе, как его понимают экологи животных и растений, во многом является вопросом численности. Когда давление популяции на природные ресурсы среды обитания достигает определенной степени интенсивности, неизбежно что-то должно произойти. В одном случае популяция может схлынуть и ослабить давление, мигрируя в другое место. В другом случае, когда нарушение равновесия между популяцией и природными ресурсами является результатом некоторого внезапного или постепенного изменения в условиях жизни, существовавшие до него отношения между видами могут быть полностью нарушены.
Причиной изменения может быть голод, эпидемия, вторжение в среду обитания чуждых видов. Результатом такого вторжения может быть резкое увеличение численности вторгшейся популяции и внезапное уменьшение численности изначально обитавшей в этой среде популяции, если не полное ее исчезновение. Определенного рода изменение является продолжительным, хотя иногда и варьирует существенно по времени и скорости. Чарльз Элтон пишет:
«Впечатление, возникающее у любого исследователя популяций диких животных, таково, что «равновесие в природе» вряд ли существует, разве что - в головах ученых. Кажется, что численность животных всегда стремится достичь слаженного и гармоничного состояния, но всегда что-нибудь случается и препятствует достижению этого счастья»*.
* «Animal Ecology», Ibid.
В обычных условиях эти малозначительные отклонения от биотического баланса опосредуются и поглощаются, не нарушая существующего равновесия и обыденности жизни. Но когда происходят внезапные и катастрофические изменения - война ли, голод или мор, - тогда нарушается биотический баланс, вдребезги разбиваются все традиции, и высвобождаются силы, доселе подконтрольные. Тогда могут последовать многие внезапные и даже губительные изменения, которые глубоко преобразуют существующую организацию коммунальной жизни и зададут другое направление развитию дальнейших событий.
Так, появление коробочного долгоносика на южных хлопковых плантациях - случай незначительный, но прекрасно иллюстрирующий принцип. Коробочный долгоносик пересек Рио Гранде в районе Браунсвилля летом 1892 года. К 1894 году он распространился уже на десяток графств в Техасе, поражая хлопковые коробочки и нанося огромный ущерб плантаторам. Его распространение продолжалось каждый сезон вплоть до 1928 года, когда он поразил практически все хлопкопроизводящие области Соединенных Штатов. Это распространение приняло форму территориальной сукцессии. Последствия для сельского хозяйства были катастрофическими, но не бывает худа без добра - это нашествие послужило толчком для начала уже давно назревших преобразований в организации производства хлопка. Оно также способствовало и переселению на север негритянских фермеров-арендаторов.
Случай с коробочным долгоносиком типичен. В нашем подвижном современном мире, где пространство и время сведены на нет, не только люди, но и все низшие организмы (включая микробы), кажется, как никогда, находятся в движении. Торговля, поступательно разрушая замкнутость, на которой основывался древний порядок в природе, усилила борьбу за существование и расширила арену этой борьбы в обитаемом мире. В результате этой борьбы появляется новое равновесие и новая система живой природы, новое биотическое основание для нового мирового общества.
Как отмечает Элтон, именно «колебания численности» и происходящие время от времени «сбои в механизме регуляции прироста численности животных» как правило прерывают установленный порядок вещей и, тем самым, начинают новый цикл изменений. По поводу этих колебаний численности Элтон пишет:
«Эти сбои в механизме регуляции прироста численности животных - обусловлены ли они (1) внутренними изменениями, вроде внезапно зазвонившего будильника или взорвавшегося парового котла, или же какими-либо факторами внешней среды - растительностью или чем-то в этом роде?»*.
* Ibid.
и добавляет:
«Оказывается, что эти сбои происходят и из-за внутренних, и из-за внешних факторов, но последние являются более существенными и обычно играют решающую роль».
Условия, воздействующие на передвижения и численность популяций и контролирующие их, в человеческих обществах более сложны, чем в растительных и животных сообществах, но обнаруживают и поразительные сходства с последними.
Коробочный долгоносик, перемещающийся из своей давным-давно обжитой среды на Мексиканское нагорье и на девственную территорию южных хлопковых плантаций и увеличивающий численность своей популяции соответственно новым территориям и их ресурсам, не так уж отличается от буров из Южноафриканской Капской провинции, прокладывающих себе путь на вельды (пастбища) Южноафриканского нагорья и заселяющих ее своими потомками в течение каких-нибудь ста лет.
Конкуренция в человеческом (как и в растительном или животном) сообществе стремится привести его к равновесию, восстановить его, когда в результате вторжения внешних факторов или в ходе обычной жизни сообщества это равновесие нарушается.
Таким образом, любой кризис, дающий начало периоду быстрых перемен и усиления конкуренции, в конце концов переходит в фазу более или менее стабильного равновесия и нового разделения труда. Таким способом конкуренция создает условие, при котором ее сменяет кооперация. Только когда конкуренция ослабевает (и только в той степени, в какой она ослабевает), можно говорить о существовании того типа порядка, который мы называем обществом. Короче говоря, с экологической точки зрения общество, постольку, поскольку оно является территориальным образованием, является просто областью, в которой биотическая конкуренция уменьшилась и борьба за существование приняла высшие, более сублимированные формы.
III. КОНКУРЕНЦИЯ, ГОСПОДСТВО Я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Существуют и другие, менее очевидные способы, посредством которых конкуренция контролирует отношения индивидов и видов в коммунальной среде. Два экологических принципа - господство и последовательность, - стремящиеся к установлению и поддержанию такого коммунального порядка, являются функциями конкуренции и зависят от нее.
В каждом сообществе живых организмов всегда есть один (или более) господствующий вид. В растительном сообществе такое господство - результат борьбы различных видов за солнечный свет. В климате, благоприятствующем росту леса, господствующим видом, безусловно, будут деревья. В степях и прериях господствующими будут травы.
«В сообществе растений, где солнечный свет является основной потребностью, господствующим будет самое высокое из всех растений, которое сможет вытянуть свои энергетические ловушки поверх голов других. Второстепенное использование может заключаться в использовании тусклого света под сенью более высоких крон. Нечто похожее происходит в любом сообществе живых организмов на земле, в поле, как и в лесу, есть уровни растительности, адаптировавшиеся к существованию с менее интенсивным освещением, чем растения, стоящие на уровень выше. Как правило существует два или три таких уровня; в дубровнике, например, есть уровень мха, над ним - травы, и низкий кустарник, а затем - ничего, до самых крон; на пшеничном поле господствующей формой будет пшеница, а ниже, между ее стеблей, - сорняки. А в тропических лесах все пространство от пола до крыши поделено на зоны и населено»*.
* Н. G. Wells, Julian S. Huxley, and G. P. Wells. The Science of Life. New York, 1934. P. 968-969.
Но принцип господства действует в человеческих сообществах так же, как и в сообществах растений и животных. Так называемые естественные или функциональные области городского сообщества - например, трущоба, район доходных домов, центральные торговые ряды и центральный район банков - каждый из этих районов обязан своим существованием непосредственно фактору господства, и опосредованно - конкуренции.
Борьба производственных и коммерческих институтов за стратегическое местоположение определяет в перспективе и основные очертания городского сообщества. Распределение населения, равно, как и местоположение и границы занимаемых им областей расселения, определяются другой, схожей, но подчиненной системой сил.
Господствующим районом в любом сообществе является, как правило, тот, где самые высокие цены на землю. В любом большом городе есть обычно два таких положения с самыми высокими ценами на землю - это центральный торговый район и центральный район банков. Начиная с этих позиций цены на землю снижаются, сначала резко, а затем - постепенно, по мере приближения к периферии городского сообщества. Именно эти цены на землю определяют местоположение социальных институтов и деловых предприятий. И те, и другие взаимосвязаны в едином своеобразном территориальном комплексе, внутри которого они являются одновременно и конкурирующими, и взаимозависимыми образованиями.
По мере расширения городского сообщества в сторону пригородов давление профессиональных сообществ, деловых предприятий и разного рода социальных институтов, призванных обслуживать весь метрополитенский регион, постепенно усиливает их потребность пространства именно в центре. Таким образом, не только увеличение пригородной зоны, но и любое изменение в способах передвижения, делающее деловой центр города более доступным, увеличивает давление на центр. Отсюда это давление передается и распространяется, как показывает профиль цен на землю, на все остальные части города.
Тем самым принцип доминирования, действующий в границах, обусловленных территорией и другими естественными характеристиками местоположения, в целом определяет и общий социологический тип города и функциональное отношение различных частей города между собой.
Более того, доминирование, поскольку оно стремится стабилизировать биотическое или культурное сообщество, косвенным образом отвечает и за феномен наследственности.
Термин «наследственность» экологи используют для описания и обозначения той упорядоченной последовательности изменений, через которою проходит биотическое сообщество в своем развитии от начальной и сравнительно нестабильной к относительно устойчивой стадии или к высшей стадии. Суть в том, что не только отдельные растения или животные растут в среде сообщества, но и само сообщество - система отношений между видами - как бы вовлечено в упорядоченный процесс изменения и развития.
Тот факт, что в ходе этого развития сообщество проходит через целый ряд более или менее определенных стадий, придает этому развитию циклический характер, как раз и предполагаемый понятием «наследственность».
Объяснением цикличности изменений, составляющих наследственность, может служить тот факт, что на каждой стадии этого процесса достигается более или менее устойчивое равновесие, которое образуется в ходе последовательных изменений в условиях жизни и как результат этих изменений, а равновесие, достигнутое на ранних стадиях тем самым нарушается. В этом случае силы, доселе сдерживаемые равновесием, высвобождаются, конкуренция усиливается, изменение происходит относительно быстро до тех пор, пока не установится новое равновесие.
Наивысшая стадия развития сообщества соответствует поре зрелости в жизни индивида.
«В развивающемся отдельно взятом организме каждая стадия развития самореализуется и дает начало новой стадии: так, головастик отращивает щитовидную железу, которая предназначена для того, чтобы перейти из состояния головастика к состоянию лягушонка. То же самое происходит и в развивающемся сообществе организмов - каждая стадия изменяет свою среду обитания, поскольку изменяет и почти необратимо обогащает почву своего произрастания, тем самым фактически приближаясь к собственному завершению, и создает возможность для новых видов растений с большими потребностями в минеральных солях или каких-либо других свойствах почвы для своего процветания на ней. Соответственно, большие и более прихотливые растения постепенно вытесняют предшествующих им первопроходцев до тех пор, пока, наконец, не установится равновесие - предельная возможность для данного климата.»*
* Ibid., pp. 977-78.
Культурное сообщество развивается сходным с биотическим сообществом образом, однако, несколько сложнее. Изобретения, равно как и внезапные катастрофические изменения, видимо, имеют более важное значение для появления циклических изменений в культурном соообществе, нежели в биотическом. Но сам принцип появления изменений в сущности тот же. Во всяком случае, все, или большинство наиболее существенных процессов функционально связаны с конкуренцией и зависят от нее.
Конкуренция, которая на биотическом уровне функционирует в целях контроля и регулирования отношений между организмами, на социальном уровне стремится принять форму конфликта. На тесную связь между конкуренцией и конфликтом указывает тот факт, что война зачастую, если не всегда, имеет, или предполагает, своим источником экономическую конкуренцию, которая в этом случае принимает более сублимированную форму борьбы за власть и престиж. Социальная функция войны, с другой стороны, судя по всему, расширяет сферу, в пределах которой возможно сохранение мира.
IV. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Если, с одной стороны, давление населения дополняется изменениями локальной и более широкой среды так, что в одночасье нарушается биотический баланс и социальное равновесие, это, в то же время, усиливает и конкуренцию. А это косвенным образом приводит к новому, более сложному и одновременно территориально более экстенсивному разделению труда.
Под влиянием усилившейся конкуренции и увеличившейся активности, предполагаемой этой конкуренцией, все индивиды и все виды, каждый по-своему, стремятся найти свою особую нишу в физической и жилой среде, где он сможет выжить и процветать в наибольшей степени, соответствующей его неизбежой зависимости от своих соседей.
Именно так устанавливается и поддерживается территориальная организация и биологическое разделение труда в среде сообщества. Это объясняет, хотя бы отчасти, тот факт, что биотическое сообщество одно время воспринималось как нечто вроде сверхорганизма, а затем и как экономическая организация для эксплуатации природных ресурсов своей среды обитания.
X. Дж. Уэллс со своими сотрудниками Джулианом Хаксли и Дж. П. Уэллсом в интересном обзоре под названием «Наука жизни» описывают экологию как «биологическую экономику», которая занимается в большей мере «балансами и взаимным давлением друг на друга видов, обитающих в одной среде»*.
* Ibid.
«Экология, - пишут они, - это распространение экономики на все живое». С другой стороны, наука экономики в традиционном смысле, несмотря на то, что она на целое столетие старше экологии, является просто отраслью более общей науки экологии, которая включает человека вместе со всеми живыми существами. В известном смысле то, что традиционно описывалось как экономика и строго привязывалось к деятельности человека, можно вполне описать и как экологию человека, как несколько лет назад Бэрроуз описал географию. Именно в этом смысле и используют этот термин Уэллс и его соавторы.
«Наука экономики - сначала ее называли политической экономией - на столетие старше экологии. Она была и остается наукой о социальном жизнеобеспечении, о потребностях и их удовлетворении, о труде и богатстве. Она стремится прояснить отношения производителя, торговца, потребителя в человеческом сообществе и показать, как держится вся система. Экология расширяет это исследование до всеобщего изучения отдачи и получения, усилия, накопления и потребления во всех уголках жизни. Экономика, поэтому, есть лишь экология человека, это узкое и специальное изучение в рамках экологии весьма своеобразного сообщества, в котором мы живем. Она могла бы, стать лучшей и более ясной наукой, если бы она начиналась с биологических основ»*.
* Н. Н. Barrows. Geography as Human Ecology // Annals Association American Geographers, 13 (1923): 1-14. See H. G. Wells, et al., pp. 961 - 962.
Поскольку экология человека не может быть одновременно и географией, и экономикой, можно принять в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что она не является ни тем, ни другим, но представляет собой нечто независимое от обеих. Но и тогда причины отождествления экологии с географией, с одной сторны, и с экономикой - с другой, достаточно очевидны.
С точки зрения географии растение, животное и популяция людей вместе с ее обиталищем и другими свидетельствами человеческого пребывания на земле являются лишь частью ландшафта, к детальному описанию и представлению которого и стремится географ.
С другой стороны, экология (биологическая экономика), даже когда она включает в себя некую неосознанную кооперацию и естественное, спонтанное и нерациональное разделение труда, представляет собой нечто отличное от коммерческой экономики, нечто не укладывающееся в рамки торговли на рынке. Коммерция, как отметил где-то Зим-мель, - одно из более поздних и наиболее сложных социальных отношений, которые усвоили люди. Человек - это единственное животное, которое торгуется и обменивается.
Экология и экология человека, если она не отождествляется с экономикой на специфически человеческом и культурном уровне, отличается все же и от статического порядка, обнаруживаемого социальным географом, когда тот описывает культурный ландшафт.
Сообщество, описываемое географом отличается от сообщества описываемого экологом, хотя бы по той причине, что закрытая система с сетью коммуникаций, распространенная человеком по всей земле - это не то же, что и «ткань жизни», связывающая живые существа по всему свету жизненными узами.
V. СИМБИОЗ И ОБЩЕСТВО
Экология человека, не отождествляемая ни с экономикой, ни с географией, как таковая отличается во многих отношениях и от экологии растений и животных. Взаимоотношения между людьми и взаимодействие человека со средой обитания сопоставимы, но не тождественны отношениям других форм жизни, живущих совместно и осуществляющих нечто вроде «биологической экономии» в пределах общей среды обитания.
Прежде всего, человек не столь непосредственно зависит от своего физического окружения, как другие животные. Благодаря существующему всеобщему разделению труда, отношение человека к его физическому окружению опосредовано вторжением другого человека. Обмен товарами и услугами способствовал его освобождению от зависимости от его локального окружения.
Более того, человек, благодаря изобретениям и различного рода техническим изыскам развил невероятную способность преобразовывать не только свое непосредственное окружение и реагировать на него, но осваивать свой мир. Наконец, человек воздвиг на основе биотического сообщества институциональную структуру, укорененную в традиции и обычае.
Структура, там, где она существует, сопротивляется изменению, по меньшей мере - изменению, навязываемому извне; тогда как внутренние изменения она, вероятно, стремится накапливать*. В сообществах растений и животных структура предопределена биологически и, в той мере, в какой вообще существует разделение труда, она имеет физиологические и инстинктивные основания. Одним из самых любопытных примеров этого факта могут служить социальные насекомые, а одной из причин изучения их повадок, как отмечает Уилер, является то, что они показывают, до какой степени социальная организация может быть развита начисто физиологическом и инстинктивном основании; то же самое можно отнести и к людям, находящимся в естественной семье, в отличие от институциональной**.
* Это, очевидно, является еще одним свидетельством той органической природы взаимодействий организмов в биосфере, которую отмечают Артур Томпсон и другие. Она указывает на тот способ, каким конкуренция опо-средует влияния извне, приспосабливая вновь и вновь отношения внутри сообщества. В этом случае «внутри» совпадает с траекторией процесса конкуренции, постольку, поскольку результаты этого процесса существенны и очевидны. Сравни также с зиммелевским определением общества и социальной группы в пространстве и времени, приведенном во «Введении в науку социологии» Парка и Бэрджесса (2-е изд.), ее. 348-356.
** William Morton Wheeler. Social life among the Insects. - Lowell Institute Lectures, March, 1922. - pp. 3-18.
Однако в случае человеческого общества эта структура сообщества подкрепляется обычаем и приобретает институциональный характер. В человеческих обществах, в отличие от сообществ животных, конкуренция и индивидуальная свобода ограничиваются обычаем и консенсусом на каждом уровне, следующим за биотическим.
Случайность этого более или менее произвольного контроля, который обычай и консенсус налагают на естественный социальный порядок, усложняет социальный процесс, но не меняет его существенно, а если и меняет, то результаты биотической конкуренции проявят себя в последующем социальном порядке и в ходе последующих событий.
Таким образом, можно считать, что человеческое общество, в отличие от сообществ растений и животных, организовано на двух уровнях - биотическом и культурном. Есть симбиотическое общество, основанное на конкуренции, и культурное общество, основанное на коммуникации и консенсусе. По сути дела эти два общества являются лишь разными аспектами одного общества, они, несмотря на все перипетии и изменения, остаются, тем не менее, в определенной зависимости друг от друга. Культурная над-структура основывается на симбиотической подструктуре, а возникающие силы, которые проявляются на биотическом уровне как передвижения и действия, на высшем, социальном, уровне принимают более утонченные, сублимированные формы.
Однако, взаимоотношения людей гораздо более разнообразны и сложны, они не сводятся к этой дихотомии - симбиотического и культурного. Этот факт находит подтверждение в самых различных системах человеческих взаимоотношений, которые выступают предметом специальных социальных наук. Поэтому следует иметь в виду, что человеческое общество, в его зрелом и более рациональном виде, представляет собой не только экологический, но и экономический, политический и моральный порядки. Социальные науки состоят не только из социальной географии и экологии, но из экономики, политических наук и культурной антропологии.
Примечательно, что эти различного рода социальные порядки организованы в своего рода иерархию. Можно сказать, что они образуют пирамиду, основанием которой служит экологический порядок, а вершиной - моральный. На каждом из последовательно расположенных уровней - на экологическом, экономическом, политическом и моральном - индивид оказывается полнее инкорпорированным в социальный порядок, более подчиненным ему, нежели на предшествующем уровне.
Общество повсюду является организацией контроля. Его функция состоит в том, чтобы организовывать, интегрировать и направлять усилия составляющих его индивидов. Наверное, можно сказать и так, что функцией общества везде является сдерживание конкуренции и, тем самым, установление более эффективной кооперации органических составляющих этого общества.
Конкуренция на биотическом уровне, как это наблюдается в растительных и животных сообществах, представляется относительно неограниченной. Общество, по факту своего существования, является анархичным и свободным. На культурном уровне эта свобода индивида конкурировать сдерживается конвенциями, пониманием и законом. Индивид более свободен на экономическом уровне, чем на политическом, и более свободен на политическом, нежели на моральном.
По мере развития общества контроль все более распространяется и усиливается, свободная коммерческая деятельность индивидов ограничивается, если не законом, то тем, что Джильберт Мюррей называет «нормальным ожиданием человечества». Нравы - это лишь то, чего люди привыкли ожидать в определенного рода ситуации.
Экология человека, в той мере, в какой она соотносится с социальным порядком, основанным более на конкуренции, нежели на согласии, идентична, по крайней мере в принципе, экологии растений и животных. Проблемы, с которыми обычно имеет дело экология растений и животных, - это, по сути, проблемы популяции. Общество, в представлениях экологов, - это популяция оседлая и ограниченная местом своего обитания. Ее индивидуальные составляющие связаны между собой свободной и естественной экономикой, основывающейся на естественном разделении труда. Такое общество территориально организованно, и связи, скрепляющие его, скорее физические и жизненные, нежели традиционные и моральные.
Экология человека, однако, должна считаться с тем фактом, что в человеческом обществе конкуренция ограничивается обычаем и культурой. Культурная надструктура довлеет как направляющая и контролирующая инстанция над биотической субструктурой.
Если человеческое сообщество свести к его элементам, то можно его себе представить как состоящее из населения и культуры, последняя, при этом, включает в себя 1) совокупность обычаев и верований, 2) соответствующую первой совокупность артефактов и технологических изобретений.
К этим трем элементам, или факторам, - населению, артефактам (технологической культуре) и обычаям и верованиям (нематериальной культуре) - составляющим социальный комплекс, следует, наверное, добавить и четвертый, а именно - природные ресурсы среды обитания.
Именно взаимодействие этих четырех факторов - населения, артефактов (технологической культуры), обычаев и верований (нематериальной культуры) и природных ресурсов - поддерживает одновременно и биотический баланс, и социальное равновесие всегда и везде, где они существуют.
Изменения, которые интересны для экологии, - это движение населения и артефактов (товаров), это изменения в местоположении и занятии - фактически любое изменение, которое влияет на сложившееся разделение труда или отношение населения к земле.
Экология человека по сути своей является попыткой исследовать процесс, в котором биотический баланс и социальное равновесие 1) сохраняются, как только они установлены и 2) процесс перехода от одного относительно стабильного порядка к другому, как только биотический баланс и социальное равновесие нарушены.
ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
Основную часть книги образуют переводы работ современных теоретиков.
Библиографическое оформление этих переводов было по возможности унифицировано. Списки используемой литературы размещаются в конце каждой статьи в алфавитном порядке. В ряде случаев они дополнены библиографическими описаниями русских переводов цитируемых произведений. В переводах классических сочинений библиографическое оформление соответствует оригиналу.
В наиболее сложных теоретических работах необходимые для понимания по-русски, но отсутствующие в оригинале слова или фрагменты фраз заключены в квадратные скобки.
Отточия в квадратных скобках означают незначительные сокращения. В угловые скобки заключены слова на языке оригинала, если перевод предполагает возможные разночтения или нуждается в соответствующем уточнении.
ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ
Первоначальный замысел этой книги был связан с публикацией под одной обложкой ряда социологических работ, опубликованных в русских переводах в альманахе THESIS. В конечном счете было отобрано только три из них, вошедших в выпуск № 4 за 1994 г. («Научный метод»):
Р. Коллинз. Социология: наука или антинаука? (CollinsR. Sociology: Pro-science or Antiscience? // American Sociological Review, 1989, vol. 54 (February). P. 124-139), THESIS. № 4. C. 71-96; Г. Терборн. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке (Goran Therborn. Cultural Belonging, Structural Location and Human Action. Explanation in Sociology and in Social Science //Acta Sociologica. 1991. Vol. 34. No 3. P. 177-192). THESIS, № 4. C. 97-118; Дж. Тернер. Аналитическое теоретизирование (Jonathan Turner. Analytical Theorizing// Social Theory Today / Ed. by Giddens A., Turner J. Stanford: Polity Press, 1987. P. 156-194). THESIS. № 4. C. 119-157. Для данного издания эти переводы были заново сверены и отредактированы. Печатаются с разрешения издателей THESIS'а.
РаботаМ Арчер «Реализм и морфогенез» (Realism and Morphogenesis) была получена в рукописи в 1994 г., еще до выхода книги: Archer Margaret S. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, в которой она должна была стать пятой главой. В русском переводе частично опубликована в «Социологическом журнале». 1994. № 4. С. 50-68. Для данного издания редактором были частично переработаны, а частично переведены заново некоторые фрагменты, выпущенные в первой публикации. Весь перевод был сверен и основательно отредактирован.
Статья Г. Вагнера «Социология: к вопросу о единстве дисциплины» (Gerhard Wagner. Soziologie: Uberlegungen zur Einheit des Faches. Ms. 1995) была написана по моей просьбе и предоставлена в рукописи. В русском переводе впервые опубликована в «Социологическом журнале», 1996, № ѕ. С. 60-83 Для настоящего издания перевод заново сверен.
Статья Ф. Макнотена и Дж. Урри «Социология природы» (PhilMacnagh-ten, John Urry. A Sociology of Nature) была предоставлена в рукописи по моей просьбе в 1995 г. специально для данного издания. Перевод публикуется впервые.
Отдельная история связана с публикацией работы Н. Лумана «Теория общества» (Nik/as Luhmann. Theorie der Gesellschaft. Fassung San Foca' 89). Рукопись я получил от Лумана в феврале 1991 г. Он отнюдь не радовался возможной публикации на русском языке, потому что считал свое сочинение еще далеко не доработанном. Луман много раз перерабатывал рукопись, использовал как основу для курсов лекций, читанных, прежде всего, в Билефельде, но также и в других университетах; в частности, он работал над ней в Италии (отсюда подзаголовок: «Вариант San Foca' 89»), с которой вообще связывал в это время много не сбывшихся позже планов. Поддавшись на мои уговоры, он просил только предуведомить читателя, что это далеко еще не зрелый плод его труда. Однако, когда в 1997 г. вышла монументальная монография Лумана «Общество общества» (Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp), я сравнил тексты первой главы имеющейся у меня рукописи и окончательного варианта. Мне показалось, что выбранные для перевода параграфы если и отличаются от книжного текста, то очень незначительно. Таким образом, не нарушая волю автора, я все-таки могу уверить читателя в том, что он держит в руках отнюдь не полуфабрикат теории. К сожалению, известить Лумана о готовящейся публикации я уже не смог. Он скончался в ноябре 1998 г.
Статья Гая Оукса «Прямой разговор об эксцентричной теории» (Guy Oakes. Straight Thinkinh about Queer Theorizing) была предоставлена в рукописи по моей просьбе. Перевод публикуется впервые.
Работу над переводом «Философии денег» Георга Зиммеля я начал очень давно, перспективы ее завершения далеко не ясны. Между тем, интерес именно к этой книге Зиммеля заметно растет. Не имея возможности удовлетворить ожиданиям коллег полным текстом, я все-таки надеюсь, что этот небольшой фрагмент (представляющий собой две трети первой главы книги) окажется небесполезным. Перевод сделан по изданию: Georg Simmel. Philosophic des Geldes. Zweite, vermehrte Auflage. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1907. S. in-ГХ, 3-61. Сверен по изданию: SimmelG. Philosophic des Geldes / Hrsgg. v. David P. Frisby und Klaus Christian Kohnke. Ge-org Simmel Gesamtausgabe / Hrsgg. v. Otthein Rammstedt. Bd. 6. Frankfurt a.M.: Suhrlamp, 1989. S. 9-14, 23-92.
Перевод статьи Робрета Парка «Экология человека» был выполнен специально для настоящего издания и публикуется впервые. Перевод сделан по изданию: Robert E. Park. Human Ecology // Rober E. Park. On Social Control and Collective Behavior. Selected Papers / Edited and with an Introduction by Ralph H. Turner. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1967. P. 69-84.
А. Филиппов
ОБ АВТОРАХ
Маргарет Арчер (Margaret Archer) - профессор университета Уорика (Warwick), Великобритания. Основные публикации: Social Origins of Educational Systems. London: Sage, 1979; Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Герхард Вагнер (Gerhard Wagner) - приват-доцент Билефельдского университета (Bielefeld), ФРГ. Основные публикации: Geltung und normativer Zwang. Freiburg / Milnchen: Karl Alber, 1987; Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwindung der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
Рэндал Коллинз (Randall Collins) - профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: Collins R. Sociology since Midcentury. Essays in Theory Cumulation. N.Y.: Academic Press, 1981; Theoretical Sociology. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
НикласЛуман (NiklasLuhmann) (1927-1998) - в 1968-1993 гг. - профессор Билефельдского университета, ФРГ. Основные публикации: Sozio-logische Aufklarung. Bde. 1-6. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1970-1995; Gesellschaftstruktur und Semantik. Bde. 1-4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1980- 1995; Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984 и др.
Фил Макнотен (PhilMacnaghten) - сотрудник Ланкаширского Центра исследований изменений окружающей среды, Ланкастерский университет (Lancaster), Великобритания. Основная публикация: Contested Natures (соавтор - J. Urry). London: SAGE, 1998.
Гай Оукс (Guy Oakes) - профессор Монмутского (Monmouth) университета, США. Переводчик сочинений Зиммеля и Риккерта. Основные публикации, помимо переводов: Weber and Rickert. Concept Formation in the Cultural Sciences. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1988; The Imaginary War: Civil Defense and American cold war culture. N.Y.: Oxford University Press, 1994; The Soul of the Salesman : The Moral Ethos of Personal Sales. Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press International, 1990.
Гёран Терборн (Goran Therborn) - профессор Уппсальского (Uppsala) университета, Швеция. Основные сочинения: The Ideology of Power and the Power of Ideology. London: NLB, 1980; What Does the Ruling Class Do When It Rules? London: Verso, 1980; European Modernity and Beyond: the Trajectory of European Societies, 1945-2000. London: Sage, 1995
Джонатан Тернер (Jonathan Turner) - Профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: The Body and Society. Oxford: Blackwell, 1986; A Theory of Social Interaction. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1988; The Strcuture of Sociological Theory. 5th ed. Belmont, Ca.: Wadsworth, 1991.
Джон Урри (John Urry) - профессор Ланкастерского университета, Великобритания. Основные публикации: The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society. London: Sage, 1990; Economies of Signs and Space (соавтор - S. Lash). London: Sage, 1994. Consuming Places. London: Routledge, 1995.
Памяти Никласа Лумана
Никлас ЛУМАН 8.12.1927-6.11.1999
Скончался Никлас Луман. Социологов такого масштаба после второй мировой войны было совсем немного, и ничто не предвещает появления в ближайшем будущем фигуры даже не равновеликой, а хотя бы только сопоставимой с ним по дарованию и продуктивности.
Странные чувства вызывает известие о его кончине. Помимо обычных, человеческих - сожаления и горечи - еще и удивление. Кажется почти невероятным, что остановился поток публикаций, что каждый новый год не принесет одну-две новые книги Лумана. За удивлением следует - как бы кощунственно это ни звучало - своеобразное удовлетворение, вроде того, какое высказала Марина Цветаева, узнав что Волошин умер в полдень - «в свой час». Последняя книга Лумана, более чем тысячестраничная монография «Общество общества»*, так и выглядит - как последняя книга, монументальный труд, итог грандиозного проекта, дело всей жизни. Считать ли ее вершиной творчества или отчаянной неудачей (оценки книги сильно разнятся), все равно несомненно, что это - завершение, после которого могло следовать лишь новое, неожиданное начало. Огромный труд исчерпал видимые возможности теории и жизненные силы теоретика. Структурная связка аутопойесиса жизни и аутопойесиса теории была столь совершенна, что завершение труда и завершение жизни не могли не совпасть.
* Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997.
Писать о Лумане безотносительно к его трудам, даже по столь скорбному поводу, кажется, почти невозможно. Но труды остаются с нами - оборвалась жизнь: что мы скажем о ней? То же, что и о любом профессоре: диплом - диссертация - профессура? Случай Лумана, впрочем, несколько особый: то, что у других ученых растягивается на годы, у него спрессовано в наикратчайший период, которому предшествует необыкновенно затянувшееся начало и за которым уже не следует никаких изменений: в 1968 г. Луман получает профессуру в новом, только что основанном Биле-фельдском университете и остается там четверть века до выхода на пенсию. Профессуре предшествует (в 1966 году) защита диссертаций - в высшей степени необычная, а по нынешним представлениям в Германии попросту невозможная: обе диссертации (Promotion, дающая докторскую степень, и Habilitation, открывающая путь к профессуре) защищаются с перерывом всего в полгода. В том, что это удалось, заслуга не только Лумана, но и виднейшего немецкого социолога X. Шельски, основателя Билефельд-ского университета. Шельски замечает Лумана еще раньше - точная дата их знакомства мне неизвестна, но то обстоятельство, что Луман еще до получения ученых степеней становится (в 1965 году) руководителем подразделения Центра социальных исследований в Дортмунде, который возглавляет Шельски, достаточно примечательно. А что до этого? Сотрудничество с Высшей школой наук управления в Шпейере, где в это время профессорствует знаменитый Арнольд Гелен, старший друг и коллега Шельски, в соавторстве с которым он, в частности, написал первый учебник по социологии в послевоенной Германии. Установить, откуда тянется ниточка знакомств и важных связей, невозможно: краткие биографии Лумана только сообщают нам, что в Шпейере он оказывается через год после возвращения из США, где в 1960-61 гг. учится (слово сомнительное: не студентом же он туда поехал! возможно, мы бы назвали это стажировкой) у Толкота Парсонса. В это время Луман уже зрелый человек, за его плечами не только учеба на юридическом факультете Фрайбургского университета, но и почти десяток лет ответственной чиновничьей работы (к 1962 г. он занимает пост старшего правительственного советника в министерстве культов земли Нижняя Саксония). Собственно, как чиновник он и устроил себе стажировку: «Я сидел и оформлял документы для тех, кто собирался учиться в Америке, - рассказывал он впоследствии. - Мне пришло в голову, что я могу сделать то же и для себя». Все просто, если только не принимать в расчет, что преуспевающий чиновник, профессиональный юрист вдруг круто меняет всю свою жизнь. Что должно было произойти, какие предпосылки определили этот выбор? Что там в прошлом, до этого?
Он родился в семье пивовара в Люнебурге, родном городе Генриха Гейне. Впрочем, о последнем обстоятельстве Луман не знал*. Гейне и так-то не очень почитаем в Германии, но тут другое: все сознательное детство Лумана приходится на эпоху нацизма, правда, он посещает классическую гимназию и даже на старости лет не отказывает себе в удовольствии проспрягать для куда менее образованных современных студентов какой-нибудь греческий глагол. Но он не принадлежит по происхождению к образованному бюргерству. Как и многие послевоенные социологи, он чуть ли не первый в своем роду, кто получает университетское образование.
* Я как-то случайно выяснил это в разговоре.
Однако, до университета еще надо просто дожить, хотя, в отличие от Гелена и Шельски, воевавших на Восточном фронте, Лумана война, так сказать, задевает только краем. Шельски в середине 70-х напишет: «Вообще-то меня должны были закопать в Восточной Пруссии». Луман же, которого в 1944 г. забирают в армию, не дав закончить гимназию, служит помощником авиационного техника в самой Германии, остро ощущает абсурд происходящего и в 1945 г., подобно многим сверстникам, ищет только возможности сдаться в плен американцам или англичанам и уцелеть. В конце концов, ему это удается.
Он заканчивает учебу в университете в год образования обеих Германий - Федеративной и Демократической; и всего только за два с небольшим года до выхода на пенсию успевает сказать прощальное слово той старой, «неполной» Федеративной Республике, в которой прошла вся его взрослая жизнь. Луман - социолог ФРГ в самом прямом смысле этого слова. И вместе с тем его интерес к социологии вообще довольно типичен для людей его поколения и его круга. Типичен-то он типичен, но было ли его решение необходимым? Сам Луман, наверное, не удержался бы здесь от ехидных замечаний. Одно из основных понятий его концепции - «Kontingenz», что можно перевести как «ненеобходимость». В мире нет ничего прочного, субстанциального, неизменного. Существование каждого человека контингентно хотя бы потому, что само его появление на свет стало следствием стечения множества обстоятельств.
Какое-то предощущение своего призвания, у него, видимо, сложилось все-таки очень рано. Известно, что Луман уже в 1952- 53 гг. начинает создавать свои знаменитые картотечные ящики. Именно создавать, потому что ничего похожего не было ни раньше, ни позже. Правда, эта первоначальная картотека, видимо, еще не похожа на позднейшую, в ней больше сходства с обычными подборками карточек, которые ведет для себя любой ученый. На карточках - прежде всего цитаты. Картотека служит упорядочиванию чужих идей. «Настоящая» картотека Лумана появляется позже. Своеобразие ее в том, что она служит прежде всего организации идей самого теоретика, а не чьих-то еще. Представьте себе компьютер, в котором каждый текстовый файл содержит лишь небольшое суждение или группу суждений (иногда - вместе с отсылками к литературе) и может находиться лишь на строго определенном месте, в директории (папке), субдиректории и т. п., в соответствии со своим содержанием. При этом он, с одной стороны, подобно гипертексту, содержит «линки», отсылающие к другим файлам и директориям, а с другой, - сам может выступать не только как файл, но и как директория. Изначально количество директорий невелико и хорошо упорядочено, однако затем они начинают наполняться файлами (которые тоже становятся - или не становятся - директориями), члениться все дальше и дальше; здесь образуются новые и новые пересечения и отсылки. Вот это и есть идея картотеки Лумана. Поначалу теория организована только в самом общем виде. С течением времени теоретику приходит в голову больше идей, некоторые старые идеи, казавшиеся лишь элементом рассуждения, влекут за собой целые серии новых рассуждений, каждое суждение, записанное на карточке, снабжено четкой системой отсылок, позволяющей в считанные минуты извлекать и затем снова ставить на место все карточки - повторим еще раз: с собственными суждениями теоретика! - которые имеют отношение к предмету его работы в данный момент. Текст для публикации, по идее, образуется, в основном, из множества мелких фрагментов, работа над которыми занимает основное время. Это компьютер без компьютера, это рабочий инструмент человека, еще в начале 90-х гг. предпочитавшего всем новинкам оргтехники электрическую пишущую машинку. Сама идея не проста, но ее реализация бесконечно сложна. Сложность возникает из-за все увеличивающегося количества карточек и связей между ними. Картотека воплощает одну из основных категорий Лумана - «сложность», «комплексность» («Komplexitat»). Сложна картотека, сложна теория, сложен мир, упростить который пытается сложная теория. Теория и ее картотека, однако, суть составляющие мира, они одновременно и уменьшают («редуцируют») и увеличивают его сложность.
Как можно было додуматься до этого, самое позднее, в конце 50-х? Как можно было, додумавшись, воплотить замысел хотя бы даже в первоначальной форме? Как можно было поддерживать, развивать этот замысел на протяжении почти четырех десятилетий?
Кажется, ответ есть только на последний вопрос. К середине 60-х годов у Лумана, можно сказать, кончается биография. «Биографии, - говорит он, - суть в большей мере цепочки случайностей, которые организуются в нечто такое, что затем постепенно становится менее подвижным». Биография Лумана почти неподвижна с конца 60-х гг. Мы узнаем из посвящения к книге «Функция религии»*, что в 1977 г. скончалась его жена. Вдовец с тремя детьми так и не женится больше, и не один дружелюбный коллега в Билефельде полусочувственно, а скорее осуждающе расскажет вам, что детьми Луман совсем не занимается, предоставив их попечению домработницы. Он живет в Орлингхаузене**, городке, где когда-то был укоренен род Макса Вебера по отцовской линии. Дом Лумана стоит на улице, названной в честь жены Макса, Марианны. На большом участке земли мог бы поместиться еще один дом - так и было задумано, но не состоялось, семейство не разрастается.
* Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977.
** Oerlinghausen, дифтонг в начале произносится как «ё» в имени Гёте.
Луман, подобно Максу Веберу, не хлопочет за своих учеников, не сколачивает школы, больше похожей на мафиозный клан, как это сплошь и рядом случается в современной науке*. Он агрессивен в теории и любезен в жизни. Его атакуют, его идеи вызывают раздражение. Ему указывают на слабости теории, на ошибки в аргументации, на то, что «редукция комплексности» - это переряженное понятие «разгрузки» философской антропологии Гелена. Луман постоянно отбивается, он вступает в жесткую полемику с Хабермасом**, задавшую стиль теоретическим дискуссиям чуть ли не на два десятилетия. Луман постоянно совершенствует, меняет, развивает теорию. Оппоненты выдыхаются. Они не поспевают за Луманом: только что он говорил об открытых системах в духе Берталанфи - и вдруг нечувствительно усваивает феноменологию позднего Гуссерля; только что его феноменологические штудии были подвергнуты критике, а он уже говорит о закрытых системах, аутопойесисе Матураны и Варелы и логике Дж. Спенсера Брауна. Но Луман не ограничивается исследованием философских оснований теории. Он, напротив, не оставляет без внимания ни одной области современной жизни. Он поражает эрудицией. Его называют «Арно Шмидт*** социологии», раздражаясь, указывают на ошибки в цитировании, на сомнительность интерпретаций... Луман кротко замечает, что у него нет памяти на тексты и филологического чутья - и продолжает писать. Оппоненты, в который раз, отступают. Вырабатывается специфический стиль Лумана: энергичный, сжатый, ироничный, предполагающий безумное количество ссылок на литературу, иногда весьма неожиданных. Луман создает своего читателя, потратившего немало сил на овладение его специфической терминологией и убедившегося на практике, что на этом языке профессионалу легко говорить. Луман гипнотизирует читателя, он заметает следы, не давая увидеть подлинные идейные истоки своих рассуждений, он пускает в ход и эрудицию, и самую изощренную логику, и - безупречный прием - намеки на то, что подлинно современный человек должен мыслить именно так, все остальное - предрассудки и отсталость. Постепенно он становится всемирно известен. Его переводят все больше и больше, не всегда, впрочем удачно. «Я говорил ему, - сетует крупный исследователь Вебера американский социолог Г. Рот, - что так писать для американцев нельзя; это перевести невозможно, и читать такие тексты они не будут». Луман не отступает - в конце концов, многие его сочинения находят своего читателя и на английском языке.
* Современные последователи Лумана, безусловно, образуют плотную и основательно организованную, в частности, в Билефельде группу. Однако тенденции к ее оформлению определились сравнительно поздно, всего за несколько лет до выхода Лумана на пенсию.
** См.: Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnolo-gie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1971.
*** Немецкий писатель, знаменитый своей филологической эрудицией.
В 1988 г. Луман получает премию имени Гегеля города Штуттгарта и... и все. Биограф умолкает, сказать больше нечего. Еще десять лет - и «билефельдский мастер» умолкает навсегда. Мировая социология не начала говорить на языке его теории, но и пройти мимо нее трудно. Ближайшие десятилетия покажут, в должной ли мере передалась его сочинениям энергетика его мысли. Во всяком случае, оставляя в стороне маловразумительный вопрос об «истинности» или «неистинности» столь обширной, сложной, претенциозной теории, мы рискнем высказаться о Лумане нарочито архаически, вопреки букве и духу его сочинений:
Он подлинно служил науке, он отдал ей всю жизнь, он пожертвовал для нее очень многим, он умер, свершив свой труд.
 Экономика: Общество - Социология
Экономика: Общество - Социология
- Экономика и общество
- Экономические исследования
- Экономика и общество в России
- Экономика социальная
- Человек и социальная экономика
- Социология
- Государство и социология
- История социологии
- Практическая социология
- Социология в России
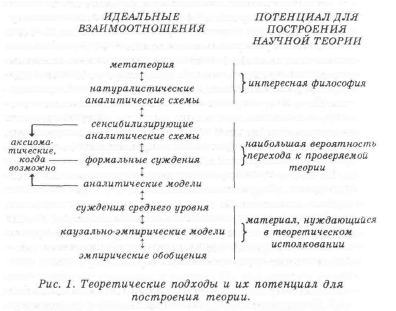
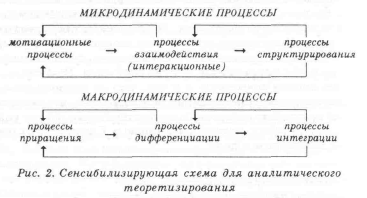
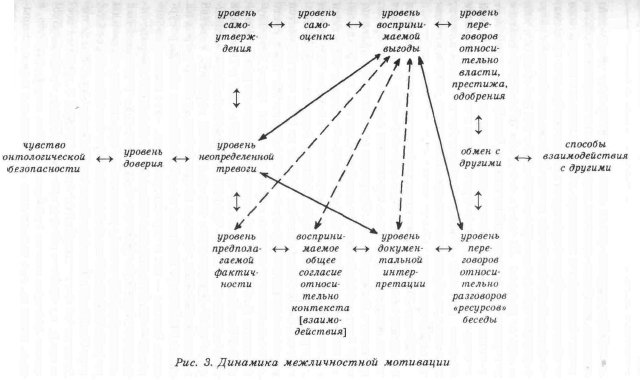
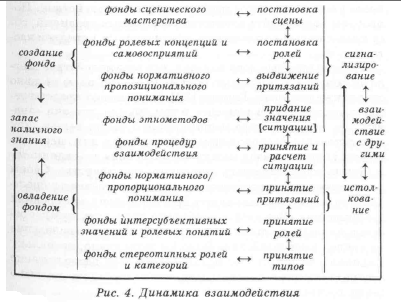

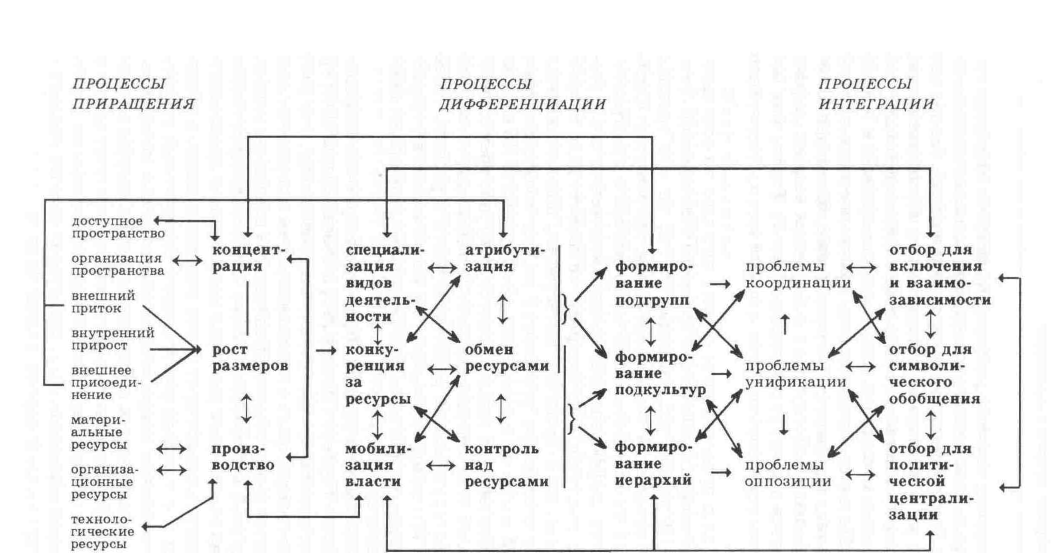
Маргарет Арчер РЕАЛИЗМ И МОРФОГЕНЕЗ
ОТ СОСТАВИТЕЛЯПубликуемая работа представляет собой одну из глав книги: Арчер М. «Реалистская социальная теория: морфогенетический подход»1. Эта книга продолжает и развивает некоторые идеи, высказанные в предыдущем теоретическом труде М. Арчер «Культура и деятельность: место культуры в социальной теории»2. Некоторые принципиальные положения автора таковы.
Социолог, полагает Арчер, должен аналитически различать с одной стороны, структуру (или культуру), а с другой - деятельность. Это два аспекта социальной жизни. Стремление представить их в неразличенном единстве она называет конфляционизмом. Слово «conflation» означает «соединение», «сплав», а также сведение двух текстов в один (в публикуемом тексте оно для удобочитаемости переводится как «сращение»). Иногда Арчер использует весьма специфический термин "elision" («элизия»). Имеется в виду особенность некоторых языков, например, французского: при следовании двух слов друг за другом отпадает конечный гласный перед начальным гласным (вместо «la opinion» - «1'opinion»), так что образуется как бы иное слово. Конфляционисты-элизионисты, говорит Арчер, утверждают, что любая деятельность структурирована, а структуры не могли бы существовать, если бы не реализовались через деятельность. Здесь есть три логических возможности. Одни авторы считают, что деятельность - это эпифеномен структуры. Другие - что структура есть эпифеномен деятельности. В первом случае сращивание происходит «сверху вниз», т. е. деятельность лишается автономии по отношению к структуре; во втором случае - «снизу вверх», т. е. структура3 лишается автономии относительно деятельности. Наконец, есть третья возможность: и структура, и деятельность лишаются автономии, сращение, элизия происходит посередине.
1 Archer Margaret S. Realist social theory : the morphogenetic approach. Cambridge; New York : Cambridge University Press, 1995.
2 Archer M. S. Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge etc.: Cambridge University Press, 1988.
3 Арчер часто использует дихотомию «parts and people»; первое можно было бы перевести как «роли», что, собственно, в известном смысле тоже структура, второе - просто «люди», действующие человеческие существа.
Именно с концепцией «сращения в центре» Арчер полемизирует особенно подробно. Тем самым становится очевидным, на что в первую очередь нацелена критика: это концепция двойственности структуры, теория структурации Э. Гид-денса. Помимо Гидденса, упоминается ряд весьма известных авторов: 3. Бауман, М. Дуглас и др.
Конфляционисты, пишет Арчер, забывают о временном измерении социальной жизни. Ведь структуры по времени предшествуют структурируемой деятельности. А если в результате деятельности возникает структура, то ею определяется уже последующая деятельность. В «Культуре и деятельности» основное внимание уделено аналитическому различению (основанному на различении «социальной интеграции» и «системной интеграции» у Д. Локвуда) «ролей и людей» в области культуры. С одной стороны, культура, мир идей как таковой требует логической последовательности. В чисто смысловом аспекте взаимосвязь идей неслучайна. С другой стороны, эти идеи, компоненты культуры так или иначе навязываются людям, благодаря чему возникает каузальное (т. е. причиненное, а не просто следующее логике смысла) согласие. Аналитическое различение этих двух моментов позволяет развить идеи Локвуда. На основе принципа противоречия, логической последовательности происходит интеграция культурной системы (КС); на основе каузального принуждения - взаимоотношений между агентами культуры - со-циокультурная интеграция (СК). Различение «КС/СК» выступает затем у Арчер как основной исследовательский принцип.
В этой же работе Арчер вводит и понятия морфогенеза и морфостазиса, т. е. становления и существования социальных форм. Она выделяет трехчленные циклы как применительно к социальной структуре, так и к культуре: структура создает условия для взаимодействия действующих; это взаимодействие происходит согласно своим внутренним особенностям; в результате возникает новая или видоизменяется старая структура.
Такого рода исследования приводят теоретика к необходимости выстроить здание своих положений на более прочном основании. Новая книга М. Арчер посвящена фундаментальным вопросам социальной онтологии, а философской базой для нее служит современный английский реализм, в первую очередь, концепция Р. Бхаскара. Важнейший ее элемент (он присутствует и в данной статье) - различение транзитивных и нетранзитивных объектов, т. е., с одной стороны, моделей и понятий, а с другой - реальных «сущностей». Отечественный читатель уже имел возможность ознакомиться с работами реалистов. В первом выпуске альманаха «Социо-Логос» были напечатаны отрывки из работ Р. Бхаскара и У. Аутвейта4. К этому же направлению относит себя и М. Арчер.
4 Аутвейт У. Реализм и социальная наука // Социо-Логос. М.: Прогресс, 1991. С. 141 -158; Аутвейт У. Действие, структура и философия реализма // Там же. С. 159-169; Бхаскар Р. Общества // Там же. С. 219-240.
Социальная теория должна быть полезной и применимой: сама по себе она не самоцель. Общество как досадный факт приходится постигать и в теории, и для практики. Нельзя отделять одну из этих задач от другой, ибо если бы практическая полезность была нашим единственным критерием, мы обрекли бы себя на инструментализм, двигаясь наощупь без какого-либо теоретического осмысления. И напротив, чисто теоретическое приручение досаждающей нам твари может лишь распалить ученого, глубоко убежденного в онтологической правильности своих суждений, но вряд ли согреет практиков социального анализа, которым нужны удобные, изготовленные в расчете на пользователя инструменты. Правда, вряд ли удастся придать им карманный формат и снабдить простым руководством, но потребитель имеет все основания выражать недовольство, получая взамен громоздкую махину без каких-либо инструкций о том, что же он сможет для себя прояснить при более или менее правильном ее применении.
Но, поскольку социальные теоретики робеют перед «эмерджентностью», у нас, действительно, не так-то много конкретных примеров того, как подходят к досадному факту общества, основываясь на его «эмерджентных» свойствах. Напротив, очень заметно отсутствие последовательных социальных теорий, которые бы безоговорочно признавали эмерджентность своим центральным принципом. Исключение составляет плодотворная, хотя и не увенчавшаяся полным успехом, попытка Д. Локвуда проторить дорогу в этом направлении [14]. Другим удавалось продвинуться еще немного дальше, но затем они теряли присутствие духа и спешили укрыться: одни - в стане индивидуализма, другие - холизма. Примером первого может служить У. Бакли, который вначале выдвинул концепцию морфогенетиче-ских/морфостатических процессов структурного развития, а затем лишил их онтологических оснований, истолковав эмерджентные свойства как эвристический инструмент. «Структура, - писал он, - это абстрактный конструкт, не что-то отличное от непрерывного процесса взаимодействия, но скорее временное удобное его отображение в какой-то один момент» [8].
Напротив, П. Блау [7] сначала кропотливо трудился над выведением свойств сложных социальных явлений из простейших форм обмена, а затем, по-видимому, увлекся рассмотрением обратного влияния этих сложных явлений на процесс обмена, в ущерб исследованиям их взаимодействия, и фактически оказался в плену холистского подхода. Трудно обнаружить полнокровную эмерджентистскую теорию: ведь никому еще не удавалось пройти между Сциллой индивидуализма и Харибдой холизма.
Именно из-за предостережений, что «редукционизм» и «реификация» - это дорожные указатели на пути в ад, вымощенном дурной концептуализацией, все больше теоретиков будут, несомненно, обнаруживать склонность к срединному сращению (конфляции) уровней структуры и деятельности. Такая позиция обещает онтологическую безопасность*, однако эта самоудовлетворенность носит слишком фарисейский характер. Они радуются, что их нельзя обвинить ни в атомизме, ни в неправедном предпочтении индивида или общества, ни в заигрывании с социальными фактами. Они гордятся своей теоретической воздержанностью, кормясь одним только аредукционизмом и малой долей синкретизма, взятого ради укрепления их позиций. Им выгодно сравнивать себя с теми из нас, кто открыто высказывает неудовлетворение нынешним бедственным положением теории (мы можем указать лишь на несколько ценных теоретических замыслов), и вместе с тем верит, что единственный выход из него - видеть ситуацию такой, какова она есть, пытаться исправить ее и надеяться, что наши усилия принесут свои плоды.
* Это явный намек на А. Гидденса, в концепции которого «ontological security» («онтологическая безопасность») занимает центральное место.
С этой точки зрения, представляют значительный интерес работы Р. Бхаскара, поскольку его онтологический реализм, эксплицитно опирающийся на эмерджентность, нацелен на разработку такой социальной теории, которая помогла бы вырулить между опасными крайностями индивидуализма и холизма. Реалистская метатеория «очевидным образом совместима с широким спектром теоретических подходов» [15, 366], а философский реализм Бхаскара выступает как общая платформа, на которой могут базироваться различные социальные теории (в число которых, однако, не входят никакие формы конфляционизма - все равно, ориентирован ли он сверху вниз или снизу вверх - поскольку их эпифеноменализм сводит к нулю слоистую природу социальной реальности). Однако бхаскарова трансформационная модель социального действия (ТМСД) может претендовать и на статус самостоятельной теории. Разумеется, она пока не завершена (философская проработка основ - еще полдела для нас, социологов), но именно эта незавершенность позволяет поставить вопрос, можно ли ее завершить или хотя бы дополнить морфогенетическим/ морфостатическим подходом (М/М).
Хотя ответ будет утвердительным, здесь требуются некоторые модификации и оговорки - в этом и состоит задача теоретика: нам приходится вскарабкиваться на плечи коллег. Более того, в некоторых решающих вопросах нужно внести полную ясность и добиться размежевания. В частности, нельзя отрицать, что многие комментаторы (а иногда, предупреждая их, и сам Бхаскар) отмечали сродство между ТМСД и теорией структурации Э. Гидденса, представляющей собой одну из версий срединного сращения. Поэтому прежде чем рассматривать совершенно правомерный вопрос о совместимости ТМСД с М/М-подходом (ибо обе эти конструкции базируются на реализме), следует показать, что модель Бхаскара содержит такие базовые допущения, которые делают невозможным отнести его к лагерю сторонников срединного сращения. В особенности это касается основополагающих для реализма и принципиально неприемлемых для срединного сращения положений о самой эмерджентно-сти. Безусловно в теоретических построениях Бхаскара был такой момент, когда призывные песни сирен, поющих о взаимном конституировании структуры и деятельности слышались весьма отчетливо. Есть даже пассажи, где Бхаскар заигрывает с сиренами конфляционизма, однако эмер-джентистские основания ТМСД всегда оказывались сильнее. Наш Одиссей ускользнул от опасностей, и он, наверное, вообще бы не медлил, если бы в тот момент его манили к себе какие-то иные социологические гавани. Кроме того, если бы не существовало некоторого сходства в позициях эмерджентистов и элизионистов, основанного на непризнании существа спора между холистами и индивидуалистами, никто бы не стал думать, что враги врагов должны быть друзьями.
Отсюда вытекает необходимость в уточнении исходных посылок всех трех упомянутых социальных теорий. (Бхаскара, Гидденса и моей), в равной мере не признающих продуктивность спора в терминах индивидуализма и холизма, чтобы установить, в чем заключаются позитивное сродство между ними.
Морфогенез, структурация и трансформационная модель социального действия
Прежде всего отметим, что по замыслу и по общим установкам ТМСД и М/М-подход действительно кажутся очень близкими. В книге «Возможность натурализма» Бхаскар дает набросок того, что можно назвать шестью пунктами Хартии, воплотившейся в его ТМСД.
(1) «Я утверждаю, что общество несводимо к индивидам и... даю общие контуры модели взаимосвязи между индивидами и обществом...
(2) ...что социальные формы составляют необходимое условие для всякого интенционального акта,
(3) ...что на пред существовании социальных форм основана их автономность как возможных объектов исследования...
(4) ...что их реальность основана на их причиняющей силе...
(5) Лредсуществование социальных форм будет рассматриваться как отправная точка для выведения трансформационной модели социального действия...
(6) ...причиняющая сила социальных форм опосредуется человеческой деятельностью». (Выделение и курсив мои - М.А)[4, 25-26].
Пункт (1), где говорится о модели, связывающей структуру и деятельность, очень созвучен с М/М-подходом, нацеленным скорее на рассмотрение взаимосвязи этих двух уровней, чем на выявление различий между ними. Тем не менее сходство это не имеет решающего характера. В конце концов, теория структурации* тоже не утверждает, что общество сводимо к индивидам.
* То есть концепция Э. Гидденса. Гидденсу же принадлежит и упоминаемое ниже понятие «дуальность (т. е. двойственность) структуры».
Она признает реальность структурных свойств, даже если их существование невозможно без непосредственного сиюминутного человеческого действия*, и именно для учета взаимосвязей между структурой и деятельностью разрабатывает концепцию «модальностей». Итак счет в поединке между аналитическим дуализмом и двойственностью структуры - 15 : 15. В пункте 2 идея структурации развивается несколько дальше, ибо структурные свойства оказываются настоящей средой социального действия. Однако М/М-теория, в свою очередь, с большой осторожностью относится к положению о том, что социальные формы составляют необходимые условия для любого интенционального акта, усматривая в нем слишком решительный разрыв с природой, и утверждает, что естественное взаимодействие может [само по себе] обеспечить необходимые и достаточные условия для целенаправ-ленности.<...> Счет в игре стал 30 : 15 в пользу структурации.
Пункт 3, говорящий о пред существовании и автономности социальных форм (и то, и другое носит принципиальный характер) склоняет чашу весов в другую сторону. Темпоральность - неотъемлемый компонент М/М-подхода, что закреплено в его первой аксиоме: «структура предшествует действию (или действиям), которое (которые) ее трансформируют». Отсюда следует, что в любом социологическом исследовании есть начальная фаза, где «постулируется, что некоторые свойства социальной структуры и культуры являются стратегически важными и длящимися во времени и что они задают те пределы, внутри которых могут иметь место конкретные социальные ситуации. Основываясь на этой посылке, деятельностный подход может помочь в изучении природы этих ситуаций, а также того, как они воздействуют на поведение. Он не объясняет социальную структуру и культуру как таковые, если только не считать изучения процесса в развитии, когда следует начинать с некоторого предшествующего момента, в который элементы структуры и культуры берутся как данность» [9, 93]. Итак, автономность имеет временной (и временный) характер. Это означает, что подразумеваемые здесь структурные свойства не являются изобретением ныне действующих деятелей, но их нельзя и онтологически свести к «материально-сущему» (необработанным ресурсам) и поставить в зависимость от совершаемых действий непосредственного человеческого осуществления (направляемого правилами) и их прямых последствий.
* Арчер использует понятие «instantiation», что должно подчеркивать моментальный характер происходящего.
Именно эти последние производят «зримый образец» - те хорошо известные, поддающиеся обнаружению регулярности человеческого взаимодействия, которые никогда не были предметом «социальной гидравлики» в М/М подходе. Это уже очень сильно отличается от утверждения Гидденса о том, «что социальные системы существуют только благодаря непрерывному их структурированию в течение времени» [11, 217]. Лредсуществование и автономность означают прерывания в процессе структурирования/реструктурирования, который можно понять только путем аналитического различения между «до» (фаза 1), «во время» (фаза 2) и «после» (фаза 3), что отнюдь не должно отрицать непрерывности человеческой деятельности, необходимой для длительного существования всего социального.
Бхаскар также бескомпромиссно высказывается в пользу необходимости изучения фазы «до», когда пишет, что «общество существует до индивида» [8, 77]. Мы ходим в церковь, в общении мы используем язык; эти верования и язык уже существовали в момент нашего рождения. Таким образом, «люди не создают общество, ибо оно всегда существовало до них... Социальная структура всегда уже готова». Бхаскар сам отмечал, что, по сравнению с Гидден-сом, «склонен придавать структурам, имеющим трансфактическую действенность*, более сильное онтологическое обоснование и акцентировать яредсуществование социальных форм» [6, 85]. Поскольку «отношения, в которые вступают люди, существуют до вступающих в отношения людей, чья деятельность воспроизводит и трансформирует отношения, то сами эти отношения суть структуры» [5, 4]. Они являются структурами в силу своих эмерджентных свойств, которые несводимы к действиям современников, а ведут свое происхождение от прошлых действий, породивших их и, таким образом, создавших контекст нынешней деятельности. Счет снова становится ничейным - 30 : 30.
* То есть не просто обнаруживающим свое воздействие на социальную жизнь в данный конкретный момент, но заставляющим признать свое более продолжительное и независимое существование.
Но если это так, то для Бхаскара отсюда следует, что теоретическая модель, которую я называю срединным сращением, «должна быть кардинально скорректирована» [5, 76], а остальные варианты конфляционизма отвергнуты. Критика всех трех моделей конфляционизма (сращение снизу вверх, сверху вниз и в центре) у Бхаскара идентична: «в первой модели есть действие, но нет условий; во второй - есть условия, но нет действия; третья модель не делает различий между ними» [5, 77]. Это различение необходимо не только из-за гаредсуществования и автономности социальных форм, но и потому, что реляционные свойства обладают причиняющей силой (см. пункт 4), хотя их причинность отличается от причинности в природе (о чем см. ниже, ибо именно здесь-то М/М-подход может кое-что добавить). Если предшествующие эмерджентные свойства действительно обусловливают последующую интеракцию, им нельзя отказывать в реальности и сводить их, как это делает Гидденс, «к следам в памяти», тем самым скатываясь к свойственной индивидуализму стратегии «персонализации» и являя собой один из примеров отчаянной попытки втиснуть неуловимое социальное в якобы более осязаемые рамки индивидуального. Как ядовито заметил Э. Геллнер [10, 262], раз выпуклость внутри Альджи, то и Альджи выпукл, и выпуклость - это Альджи*.
* По-английски - непереводимая игра слов: «The bulge is inside Algy, Algy is buldgy and the buldge is Algy».
Как неудобно получается: раз теперь оба элемента взаимно конституированы, то и речи не может идти о том, чтобы рассмотреть их взаимодействие и выявить их независимые причиняющие силы. Условия и действия нужно рассматривать порознь, чтобы можно было говорить об обусловленном действии. <...> Теперь морфогенез выходит вперед со счетом 40:30.
Делая это временное различение, Бхаскар использует образ скульптора, который извлекает форму из существующих уже материалов с помощью имеющихся в распоряжении иструментов. Подходя с точки зрения М/М, следовало бы просто добавить, что некоторые материалы менее податливы, чем другие, что для работы с ними существуют специальные инструменты, и что социологи должны учитывать эту разницу. Иными словами, приступая к изучению какого-либо социального процесса, необходимо прежде всего четко различать, чем является этот процесс по преимуществу: трансформацией или воспроизводством.
Морфогенез и морфостазис в действительности очень близки к понятиям трансформации и воспроизводства: все четыре термина обозначают процессы, во время которых нечто, что существовало «до», обретает свое «после». Поэтому о социальной структуре «больше уже нельзя говорить, что ее создают люди как агенты. Скорее мы должны сказать, что они воспроизводят или трансформируют ее. Иными словами, если общество уже сотворено, то любая конкретная человеческая практика... может только трансформировать его; вся целокупность действий людей может либо поддерживать существующее общество, либо изменять его» [4, 33-34]. Снова Бхаскара тянет в компанию к Гидденсу, ибо тот тоже не позволяет себе выходить за рамки настоящего времени. Как говорит Бхаскар, «именно потому, что (в перспективе преднамеренной человеческой деятельности) социальная структура всегда дана, я предпочитаю говорить не о структурации, как Гидденс, а о воспроизводстве и трансформации (хотя и признаю, что эти понятия очень близки). По-моему, термин «структурация» отдает волюнтаризмом. Социальная практика - это всегда, так сказать, реструктурирование» [6, 85]. В моей терминологии, морфогенез - это всегда трансформация морфоста-зиса. Таким образом пункт 5 модели Бхаскара, а именно, что «гаредсуществование социальных форм будет рассматриваться как отправная точка для выведения трансформационной модели социального действия» оказывается ключевым для всей игры. ТМСД содержит фазы: «до» (предсуще-ствование социальных форм), «во время» (сам процесс трансформации) и «после» (трансформированное, так как социальные структуры имют только относительно продолжительное существование). То же самое относится и к морфогенезу, происходит взаимозацепление, ибо и ТМСД должна рассматривать свою последнюю фазу как начало нового цикла. Как отмечает Бхаскар, «эмерджентное возникновение предполагает реконструкцию того, как исторические процессы формируются из «более простых» составляющих» [5, 80]. Логическим образом отсюда вытекает, что мы можем также теоретизировать относительно совершающегося ныне эмерджентного возникновения более сложных вещей, если, конечно, мы рассматриваем это возникновение как нечто протяженное во времени, четко различаем предшествующее и следующее в этой последовательности, но, прежде всего, сохраняем демаркационную линию между /гредсуществующими условиями и актуальными действиями.
Ядовитое жало находится здесь в хвосте, в самой последней фразе. М/М-подход настаивает на необходимости поддерживать аналитическое различение структуры и деятельности, чтобы трансформационная модель могла доказать свою работоспособность, т. е. выполнять ту работу, в которой нуждаются практики социального анализа. Все же морфогенез еще не выиграл ни гейма, ни сета; здесь скорее речь идет о долгом скучнейшем матче, так как Бхаскар не решается сделать окончательный выбор в пользу аналитического дуализма, от которого зависит, заработает ли ТМСД. Ввиду досадной уникальности социальных объектов многое в подходах к ним Гидденса оказывается исключительно соблазнительным. Заманчив путь срединного сращения, но это уже сигнализирует о начале следующего гейма.
Сирены призывают не делать разделений
Характерная особенность социального состоит в зависимости от деятельности. Без человеческой деятельности ничто в обществе не может возникнуть, постоянно существовать и изменяться. В этом мы все можем согласиться: в отличие от природной, социальная реальность несамодостаточна. В этом ее онтологическая причудливость, вот почему она представляет собой досадный факт. Задача упростится, если мы попытаемся последовательно ответить на вопрос, чья именно деятельность за что и когда ответственна? Нам кажется, что путаница в ответах на эти вопросы происходит из-за слишком резкого и совершенно ненужного логического перехода от банального положения «нет людей - нет общества» к в высшей степени сомнительному утверждению «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди». Этот переход очень хочется сделать, когда мы в самом общем виде мысленно охватываем историческую панораму «социетального»*.
* Т. е. относящегося ко всему обществу (от англ, «society» - общество»).
Ведь непонятно, как может общество переходить от одной эпохи к другой без постоянно поддерживающей его деятельности сменяющих друг друга поколений действующих, и как можно вычленить совершающееся в данную конкретную эпоху из контекста мириадов смыслов и практик, без переплетения которых нет социальной ткани? Между тем, само это желание во многом диктуется впечатляющим образом «цельнотканого полотна», бесконечного рулона, развертывающегося во времени. В этой ткани нет ни прорех, ни разрезов, в любой момент обозреть ее можно только целиком, просто потому что в ней нет отдельных кусков. Каждый кусок вплетается в единое целое своим собственным, постоянно меняющимся узором и при этом - не отделим от уже готовой материи.
Впечатляющие образы редко отступают под напором контраргументов. Рациональные доводы не лечат слепоту, поэтому нам придется прибегнуть к гомеопатии и попытаться сконструировать свой собственный образ теми же средствами. Представим общество как платье, которое передавалось по наследству внутри большой человеческой семьи и сохранило на себе следы пережитого. Все в заплатах, оно местами то застрачивалось, то распарывалось для различных надобностей, многократно перелицовывалось, так что сегодня в этом платье осталось совсем немного материи, из которой оно было первоначально сшито. Совершенно изменился и покрой. От старины осталось кое-что, вроде бабушкиных кружев на подвенечном наряде у внучки. Зачем нам этот образ платья? Затем, что в нем есть швы, а значит, и возможность изучать отдельные части, спрашивать себя, когда и какие делались изменения, кем они делались и как к ним относились наследники. Именно так я намерена трактовать социальные структуры, отношения между ними и человеческой деятельностью. Гидденс зачарован образом полотна, да и Бхаскар все-таки остается под его впечатлением. Ошибочность заключена в теоретических следствиях.
Для начала мы подтвердим очевидное: нет людей - нет общества. Более того, и Гидденс, и Бхаскар, и я, пожалуй, согласимся с тем, что «между обществом и людьми пролегает онтологическая пропасть» [4, 37], ибо свойства общества могут существенно отличаться от свойств людей, причем первые зависят от деятельности последних. Можно было бы согласиться даже с утверждением Бхаскара о том, что «люди и общество... не состоят в диалектической взаимосвязи. Они конституируют не два момента одного процесса, но, скорее, означают нечто радикально отличное друг от друга» [5, 76]. Однако именно отсюда Гидденс перескакивает к утверждению: «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди». Структурные свойства общества обретают реальность (в противоположность виртуальному материальному существованию) только тогда, когда они непосредственно осуществляются действующими. Их непосредственное осуществление, таким образом, ставится в зависимость от теперешней деятельности, которая, в свою очередь, обусловлена возможностью для действующих в данное время агентов познавать, что они делают. Бхаскар испытывает искушение сделать тот же самый скачок, что и Гидденс, и по той же самой причине, а именно по причине несамодостаточности общества как социальной реальности. Подробно рассматривая эту проблему, он формулирует тезисы об отличительных особенностях самодостаточной реальности. Будь эти положения правильными, Бхаскар оказался бы в стане конфляционистов. Первые два тезиса, которые утверждают, что социальные структуры зависят от деятельности и от того, как действующие ее понимают, очень близки к положению Гидденса о том, что общество конституируется в деятельности, осознаваемой действующими, на что уже указывал Аутвейт [11, 70]. Я хочу показать, что оба эти тезиса не верны, что это признает сам Бхаскар и что его третье положение (эффект существования социальных структур проявляется только через человеческую деятельность) фактически означает отказ делать указанный выше необоснованный переход.
Первый тезис Бхаскара заключается в том, что социальные структуры «в отличие от природных механизмов... существуют только благодаря деятельности, которой они управляют, и не могут быть охарактеризованы независимо от нее» [5, 78]. Бентон убедительно показал, что, если ключевым словом считать слово «управляют», то с этой теоремой никак нельзя согласиться [3, 17]. По собственному утверждению Бхаскара, власть, например, может существовать безотносительно к ее применению, таким образом, в отдельно взятый момент времени она может ничем не править. Однако Бентон оставляет лазейку для зависимости °т деятельности и признает ее необходимость для сохранения потенциала управления. Например, государство может не использовать свою способность к принуждению в полной мере, однако такие действия, как повышение налогов и Увеличение армии могут быть совершенно необходимы для поддержания властного потенциала. Бхаскар принимает этот довод и спешит им воспользоваться. Он пишет, что «структура власти может воспроизводиться без применения власти, а власть может применяться в отсутствие какого бы то ни было наблюдаемого конфликта... находя поддержку в человеческой практике, которая ее воспроизводит или потенциально трансформирует. Понимаемый таким образом тезис о зависимости социальной структуры от деятельности должен быть принят. Социальные структуры существуют материально, но переносятся из одного пространственно-временного местоположения в другое только благодаря человеческой практике» [4, 174]. То же самое мог бы сказать Гидденс, и надо честно признать, что это положение работает в отношении некоторых аспектов социальной структуры. Но главное состоит в том, что оно неприменимо к социальной структуре в целом. Возьмем для примера демографическую структуру. На первый взгляд может показаться, что она полностью зависит от деятельности - она все время структурируется так, какова она есть, если люди в буквальном смысле слова занимаются воспроизводством вообще, а не воспроизводством какого-то образца. Предположим, однако, что все действия будут направлены на ее преобразование: структура (неустойчивая, а тем более устойчивая) полностью не исчезнет в течение нескольких поколений. Кто будет ее поддерживать все это время? Те кто конституирует ее простым фактом своего существования? Да. Но при таком понимании все сводится к банальному «нет людей - нет демографии»; структура сохраняется в том или ином виде не благодаря их намерениям, не как непреднамеренное следствие их действий, т. е. не благодаря интециональности нынешних действующих - поскольку мы предположили, что все они стремятся ее преобразовать. Таким образом, тезис о зависимости структур от деятельности можно принять только в том случае, если иметь в виду зависимость от деятельности давно умерших. Актуальная демографическая структура ничем не обязана живущим в данный момент людям, кроме как в совершенно банальном смысле. Мы здесь имеем дело с относительно устойчивым эмерджентным свойством (чтобы демографическая структура стала неустойчивой, необходимы пропорциональные отношения между возрастными когортами), которое на протяжении определенного времени обнаруживает сопротивление всяким действиям, направленным на его изменение.
Можно ли считать наш пример каким-то исключением? Вовсе нет, ибо существуют по меньшей мере три класса структурных свойств того же рода. Во-первых, отметим, что это утверждение применимо к структурам распределения самых разных уровней и признаков (например, распределение капитала), хотя и не ко всем (например, цвет глаз). Во-вторых, и это существенно, если говорить об эмерджент-ных свойствах взаимодействия человека с природой (парниковый эффект, исчезновение целых биологических видов, истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и разрушение озонового слоя), от которых зависит будущая деятельность всего человечества, то складывается впечатление, что все большее число таких свойств уже сегодня становится необратимыми, а воспроизводство некоторых из них оказывается просто ненужным из-за того, что предыдущая деятельность людей сделала эти свойства неотъемлемыми и неискоренимыми чертами современной жизни. Не нужно быть ярым сторонником партий «зеленых» или «красных», чтобы понять, что последствия наших недружественных отношений к природе падут на головы последующих поколений. Что-то из этих следствий они попытаются не воспроизводить, но другие изменить будут просто не в состоянии. Вместо этого они будут страдать, если придется, и избегать, если смогут,- но оба рода деятельности ограничены свойствами и обстоятельствами, которые не этими поколениями сотворены.
Может показаться, что наши примеры взяты из области, которую Гидденс безоговорочно наделяет статусом «материально сущего», так что свойства, не зависимые от актуальной деятельности, следует относить к разряду физических законов, запущенных в ход деятельностью предыдущих поколений. В ответ мы можем указать на другую сферу с интересующими нас свойствами, к которой это возражение неприменимо.
Обратимся к культуре. Ясно, что появление и накопление человеческого знания было непосредственно связано с Деятельностью. Тем не менее, будучи однажды записано (вырезано рунами или покрываясь пылью в Британском музее), оно остается знанием без непосредственно знающего субъекта. Это Знание с большой буквы, поскольку оно сохраняет диспозиционный характер* быть понятым. Даже будучи никому неизвестным, оно потенциально сохраняет силу** (в противоречивости и дополнительности по отношению к другим элементам культуры), которая сохраняется, и не будучи применяема. Онтологически оно существует; и, если заключенная в нем теория истинна, если описываемый им метод применим на практике, или содержащееся в нем утверждение можно проверить, то оно остается знанием, совершенно независимо от того, знают ли о нем, используют ли его, верят ли в его истинность актуальные деятели. О реальности знания мы можем судить по возможным последствиям от его применения. Старинное снадобье, обладающее лечебными свойствами, будет лечить и через сто лет, если его рецепт заново обнаружат и опробуют. В этом случае знание активируют, а не осуществляют (это совершенно разные вещи), ибо лечебное средство не становится реальным, истинным и полезным только потому, что кто-то стал его принимать. Значимость культурной системы, которая существует (т. е. в своем существовании не зависит от знания о ней), но решающим образом каузально соотнесена с социокультурным уровнем, который зависит от деятельности, будет подробно разъяснена в следующей главе. Эмерджентные культурные свойства вводятся здесь в качестве еще одной широкой категории социального, которая онтологически не зависит от деятельности людей здесь и теперь.
* Т. е. предрасположенность.
** Потенциальная власть государства сохраняется, даже если не применяется, потенциальная сила знания сохраняется, даже если не применяется. По-английски это передается в оригинале одним и тем же выражением: «potential power(s) ...unexercised».
Итак, рассматривая эмерджентные свойства, мы показали, что проблема их зависимости от деятельности в настоящем или прошедшем времени - это проблема эмпирическая. Каждый момент осуществления в деятельности подтверждает полную необоснованнось резкого перехода К утверждению: «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди».
Второй тезис Бхаскара об особенностях социальных структур отрицает их существование, независимое от того, «как действующие понимают то, что они делают» [5, 78]. Бхаскар опять оказывается очень близок к Гидденсу, который говорит о сознательной социальной деятельности и о том, что все происходящее в обществе доступно для понимания и зависит от умелых действий людей, oh-от тезис допускает тройную интерпретацию. Во-первых, можно понять, что социальные структуры существуют только потому, что действующие имеют некоторое понятие о том, что они делают. Как верно замечает Бентон, при таком понимании тезис не содержит ничего нового, ибо «трудно себе представить, как вообще можно говорить о действующем, не прибегая к понятию осознаваемой деятельности, а поскольку действующие индивиды составляют необходимое условие существования социальной структуры (что едва ли можно оспорить), то тезис можно считать доказанным» [3, 17]. Все верно, но здесь мы вновь оказываемся перед банальным «нет людей - нет и общества». Во-вторых, можно понять, что существование социальных структур зависит от специфической трактовки действующими своих взаимоотношений. Однако наряду с немногими специфическими отношениями дружбы, верности, измены, существует множество других структурных отношений, основанных на принуждении, законе, запрете, идеологическом манипулировании и санкционированных процедурах, которые, регулируя те или иные реляционные свойства, тщательно нивелируют или маскируют различия (и конфликтную природу) их трактовок. С этим Бхаскар соглашается и делает это вынужденно, если конечно он всерьез хочет вести войну против эмпирического реализма, признающего только опыт. В-третьих, он признает, «что генерирующая роль умений и желаний акторов, их верований и смыслов должна быть признана; при этом не следует впадать в интерпретационный фундаментализм, наделяя их статусом дискурсив-ности и/или некорректируемости» [8, 98]. Само по себе это утверждение не разводит Бхаскара и Гидденса (допускающего различные степени «дискурсивного проникновения» и корректируемого знания) и мало что прибавляет к убеждению Бхаскара в том, что специфические воззрения действующих могут систематически искажаться идеологией. Поскольку понимание со стороны действующих действительно может быть ложным inter alia* из-за идеологических искажений, Бхаскар, чтобы не противоречить себе, вынужден Далее признать, что «условия феноменов (т. е. концептуализируемой в пределах опыта социальной деятельности) существуют нетранзитивно и, следовательно, могут быть независимыми от адекватности их концептуализации» [5, 51].
* Среди прочего (лат.).
Введение «нетранзитивно существующих условий» знаменует разрыв с Гидденсом, ибо происходящее совершается теперь у нас за спиной. Как пишет Бхаскар, «действующие могут осознавать, а могут и не осознавать те отношения, в которые они вовлечены» [4, 26]. Таким образом, если «какого-то рода объяснение оказывается успешным в отношении идентификации реальны*, но до сих пор непознанных условий и образцов детерминации, оно тут же увеличивает наше знание» [5, 91], а вместе с ним - и нашу свободу. Все это нарушает entente cordiale* с «весьма способным к познанию» агентом Гидденса, однако не порывает полностью с тезисом о зависимости социальных структур от концептуализации действующими своей деятельности.
* Сердечное согласие (франц.).
Но остается еще одна возможность интерпретации. Бхаскар допускает существование структур, независимое от их адекватного понимания, но он мог бы, продолжая эту мысль, сказать, что существование структур зависит от их неадекватного понимания. Последнее утверждение может характеризовать каузальные отношения между ложными концептами агентов и устойчивостью социальных структур, разумеется, предполагая, что изменения одних повлекут за собой изменения других. Подобные примеры найти нетрудно (подъем и закат торговли мехами, рост влияния идеологий и их разоблачение), однако придать этому тезису универсальный характер (уже не говоря о том, что здесь явственно слышатся отзвуки теории заговора) значило бы пустить побоку все проблемы функциональной необходимости каждого из неадекватных понятий и фундаментального априорного сопряжения между понятиями и реальностью. Поскольку у нас нет оснований принимать это за априорную истину, проблема разрешима только в эмпирическом исследовании. Мы можем привести очевидные факты, когда масштабные концептуальные сдвиги (феминизм) не сопровождаются кардинальными изменениями существующих структур. Все это, в свою очередь, свидетельствует лишь о необходимости теоретически осмыслять конкретные структуры и эмпирически исследовать, чьи концептуальные сдвиги приводят к каким структурным изменениям, когда, где и при каких условиях.
Короче говоря, ни в одном из аргументов о зависимости социальных структур от представлений действующих о них не находит оправдания вывод: «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди, и у них есть представление о своей деятельности». Напротив, многие социальные структуры демонстрируют гибкость и устойчивость перед лицом глубоких концептуальных разногласий между действующими по поводу их действий и концептуальных сдвигов в оценках этих структур. Мы снова вернулись к тому, что тезис о зависимости социальных структур от понятий и представлений можно принять только в одном-единствен-ном смысле: имея в виду концепты (идеи, убеждения, намерения, взаимные соглашения и уступки, а также непреднамеренные последствия деятельности) давно ушедших поколений. Именно эти представления продолжают играть важную роль в современных структурах, несмотря на энергичные усилия действующих изменить их (например, расизм и сексизм).
Третий тезис Бхаскара об особой онтологии общества гласит, что социальные структуры присутствуют только в своих воздействиях и посредством их, т. е. в деятельности и посредством деятельности людей. Здесь снова виден дрейф в сторону позиции Гидденса, и ТМСД рискует сесть на мель модели одновременности*, выработать которую, как правильно замечает Д. Лейдер, стремится теория структурации. Ибо как еще «могут объективные структуры извне детерминировать взаимодействие и одновременно быть порожденным внутри этого взаимодействия результатом? Именно это и пытается нам доказать модель одновременности» [13, 73]. Бентон тоже спешит указать на этот промах, ибо здесь само существование эмерджентных свойств оказывается под вопросом. Они попросту могут исчезнуть, растворившись в «других людях» типичным для индивидуалистского подхода образом. Он совершенно справедливо настаивает на том, что единственная защита против этого - разграничивать структурные условия и человеческую деятельность, т. е. строго следовать аналитическому дуализму и не соглашаться с тезисом о двойственности структуры.
* Т. е. одновременного взаимного конституирования.
Таким образом, для обеспечения существования эмерджент-ных свойств, «необходимо делать разграничение между деятельностью, которую действующие производят в силу своих внутренне присущих им способностей, и деятельностью, способность исполнять которую исходит от социальных структур и лишь реализуется посредством человеческих действий». Трудность, однако, состоит в том, что, «если некий индивид «А» является агентом деятельности «а», то «А» должен обладать способностью выполнить «а». Но если так, то в лучшем случае мы можем различать способности, которыми агенты обладают в силу своей внутренней природы, и способности, которыми они обладают в силу своих реляционных свойств». Все это, разумеется, возможно лишь в тех пределах, которые допускает теория структу-рации, и с учетом недоверия Гидденса к эмерджентности. Согласно Бентону, это означает приговор всей программе ТМСД. Бхаскар «в своей трактовке социальных структур в конечном счете, лишает их независимого статуса причиняющих сил, а следовательно, статуса реальностей sui generis. Бхаскар, похоже, привержен одному из вариантов индивидуализма в социальной теории» [3, 17]. Бентон готов допустить ошибочность своего вывода, и ему самому бы было интересно найти, в чем здесь ошибка.
Бхаскар парирует возражения, однако нам еще придется немного потрудиться, поскольку кое-чего в его ответе не хватает. Мало сказать (чтобы избежать реификации), что наличие социальных структур проявляется только в деятельности и посредством деятельности людей, ибо с этим согласятся все индивидуалисты-дескриптивисты. Тем не менее, влияние эмерджентных свойств не сводится к влиянию «других людей», и в этом тоже нет реификации. Однако Бхаскар, скорее всего, не желая впадать в «персонализа-торство» индивидуалистов, прямо заявляет, что, говоря о структурах, он переносит акцент с людей на отношения (включая отношения к позициям, природе и социальным продуктам, таким как машины и фирмы). Здесь еще рано делать окончательный вывод, ибо, например, Дж. Уоткинс выразил полную готовность включить «убеждения, ресурсы и взаимодействия индивидов» в свою «хартию Методологического Индивидуализма», для которого «конечными кон-ституентами социального мира являются индивиды» [14, 270-271]. Только под конец Бхаскару удается отразить удар. «От индивидуализма, - пишет он,- остается тривиальная истина, что ничто не происходит в обществе помимо того, что человеческие существа делают или уже сделали» [4, 174] (курсив мой - М. А).
«Или уже сделали». Это сказано без ударения, а должно зазвучать в полную силу. Если главным считать то, что «люди нечто делают», то придется согласиться с утверждением «вот оно - общество, потому что здесь и теперь - эти люди» и невозможно будет избежать редукционизма, так же как и опровергнуть вывод Бентона. Добавляя «или уже сделали», мы допускаем прошлые действия и снимаем все претензии. Здесь можно вспомнить о гениальной интуиции О. Конта: большинство действующих - это мертвые. Он прав, поскольку значима эмерджентность. Теперь можно говорить об эмерджентных свойствах и результатах (результатах результатов) прошлых действий, которые существовали до действующих в настоящем времени людей и все же обусловливают их действия, открывая возможности для одних и ограничивая другие. Открывающиеся возможности и налагаемые ограничения не зависят от совершаемой деятельности и оказывают свое влияние безотносительно к тому, как они ныне концептуализируются (т. е. верна ли она, ложна ли, или вообще не имеет места). Здесь нет угрозы реификации. Тезис о том, что влияние социальных структур может проявляться только посредством деятельности людей, утверждается в единственно приемлемой трактовке, а именно, что социальные структуры суть результаты, пережившие прошлые действия людей, которых зачастую уже давно нет в живых (именно так, убежав от времени, социальные структуры становятся sui generis). Только так сохраняется их воздействие как автономных носителей причиняющих сил на деятельность последующих действующих. И именно то, как социальным структурам удается сохранять свое воздействие, пытается теоретически осмыслить М/М-подход. Следование аналитическому дуализму структур и деятельности (разграничение предзадан-ных условий и актуальной деятельности) не просто оказывается желательным, но становится неотъемлемой частью программы ТМСД.
Если бы пение сирен конфляционизма, зовущих к срединному сращению, оставалось притягательным, вывод Бентона был бы неотразим. Но к концу опасного перехода сиренам было оказано решительное сопротивление. Открылось громадное различие между утверждением Гидденса, что «структура не может существовать независимо от осознания агентами своей повседневной деятельности» [2, 26] и положением Бхаскара, что «наделение объектов знания нетранзитивностью приводит к тому, что эти объекты начинают существовать и действовать независимо от того, знают о них или нет» [4,14], и что социальные структуры являются такими нетранзитивными объектами. Приведем еще одно высказывание Бхаскара (под которым не подписался бы ни один сторонник срединного сращения), а именно, что «общество можно понимать как ансамбль подвижно сочлененных относительно независимых и устойчивых во времени структур» [4, 78] (курсив мой - М.А.). Теперь мы можем перейти к рассмотрению взаимодействия между этими структурами и действующими индивидами. Конфля-ционисты отрицают возможность предлагаемого нами способа рассмотрения, ибо настаивают на взаимном конститу-ировании агентов и структур.
Взаимодействие между структурой и деятельностью: возможность их разделения.
В предыдущем разделе довольно легко удалось показать, что влияние конфляционистской модели (срединного сращения) наТМСД постепенно ослабевает, аТМСД, обращаясь к концепции эмерджентности, занимает последний рубеж обороны, дабы нанести решительный ответный удар. Этот результат неизбежен. Ведь если Бхаскар будет стойко держаться своего же собственного понимания онтологической роли эмерджентных свойств, то ему, в отличие от теории структурации, совершенно не нужна «двойственность структуры». Представляется логически неизбежным вывод о том, что, если унаследованные социальными структурами от прошлого «силы», «тенденции», «трансфактичность» и «порождающие механизмы» могут существовать невостребованными (или нераспознанными) в открытых системах (например, в обществе), то должно быть разделение между этими структурами и каждодневным феноменологическим опытом действующих. Это Бхаскар с особой силой подтверждает своим неприятием эмпирического реализма и его приверженности опыту. Структура и деятельность часто или обычно «не синхронны», а, следовательно, аналитический дуализм становится логически необходимым, когда Бхаскар отталкивается от общих положений реализма и развивает свою ТМСД как вклад в социальную теорию. Из-за несинхронности эмерджентных свойств структур и актуального опыта действующих (в силу самой природы общества как открытой системы) нужно всегда иметь в виду два момента. С одной стороны, выявляются свойства («силы»* и т. п.) социальной структуры per se, с другой,- концептуализируется опыт, т. е. то, что доступно действующим в любое данное время в своей незавершенности и искаженности, что изобилует слепыми пятнами неведения. Таким образом, это будут не два тождественных подхода, но два описания, сделанные с двух разных точек зрения: одно будет включать элементы, отсутствующие в другом, и наоборот.
* В оригинале здесь стоит powers, т. е., собственно, способность вызвать некоторый эффект. Ниже применительно к действующим это переводится как способности.
Итак, Бхаскар пишет, что «хочет четко разграничивать, с одной стороны, человеческое действие, берущее начало в соображениях и планах людей, и, с другой, - структуры, управляющие воспроизводством и трансформацией социальной деятельности и, таким образом, разделить сферы психологической и социальной наук» [5, 79-80]. Необходимость в таком разграничении и, как следствие из него, в двойной перспективе видения совершенно не признается конфляционизмом. К сожалению, читать Бхаскара надо осторожно: его способ выражать мысли местами очень сильно напоминает теорию структурации.
Примером может служить следующее выражение: «Общество есть постоянно наличествующее условие и непрерывно воспроизводимый результат человеческой деятельности. В этом заключается двойственность структуры. Человеческая же деятельность есть одновременно и труд (с точки зрения родовой), т. е. (нормальным образом, сознательное) производство, и (нормальным образом, неосознаваемое) воспроизводство условий производства, включая общество. В этом состоит двойственность практики» [5, 92]. Несмотря на то, что первое предложение сформулировано совершенно в духе теории структурации, в дальнейшем мы видим, что Бхаскар вкладывает в него совершенно отличный от «одновременности» смысл, ибо его «условия» следует понимать как «предварительные условия», а «результат» - как «нечто, следующее за действиями». (Это разделение полностью соответствует двум базовым теоремам М/М-подхода.) Гид-денс же говорит об одной единственной вещи: структурные свойства (чтобы быть действенными) требуют «непосредственного осуществления» наличными действующими, а «результат» - неотъемлемая часть единого одновременного процесса. В этом заключается его монизм. Бхаскар, напротив, в приведенной цитате подчеркивает необходимость двойной перспективы, одна из которых имеет дело с «двойственностью структуры» (так как учитывается временной лаг и не признается совмещение в настоящем), а другая - с «двойственностью практики» (где «производство» и «воспроизводство» опять-таки разнесены во времени и могут вовлекать в себя совершенно разных агентов). Раздельное рассмотрение «структуры» и «практики» решительно разводит ТМСД и теорию структурации. В последней эти два уровня могут быть выделены только посредством операции искусственного заключения в скобки, которая, как мы уже видели, снова возвращает структурацию к одновременности, ибо эпохе заключает нас в рамки одной и той же эпохи и не позволяет объяснять взаимодействия между структурой и деятельностью во времени*. «Двойная перспектива» приводит Бхаскара к аналитическому дуализму, к необходимости изучать взаимодействие между структурой и практикой (третья перспектива), объяснению чего путь надежно заблокирован в теории структурации.
* Арчер обыгрывает здесь несколько ходячих понятий феноменологической философии (и социологии), наложившей отпечаток и на теорию структурации. «Заключение в скобки», равно как и «эпохе» - это характеристики, связанные с методом феноменологической редукции, в частности, воздержания от высказываний о существовании.
Фактически достаточно немного поразмыслить, чтобы понять, что реализм сам основывается на аналитическом дуализме. При переходе из сферы абстрактной онтологии во владения практического социального теоретизирования это становится очевидным. На уровне структурного обусловливания необходимы обе перспективы, поскольку в любой временной точке «системная» интеграция (по Локвуду) может не совпадать с интеграцией «социальной», и для объяснения результата на уровне действия потребуется учет их взаимодействия. Допущение двух перспектив (в отличие от срединного сращения) предполагает необходимость третьей, которая сочленяла бы две первые. Именно это резко отличает аналитический дуализм от любой из трех версий сращения, общий недостаток которых в их одномерности: будь то грубый эпифеноменологический редукционизм (концепции сращения сверху вниз или снизу вверх), или редукционизм более изощренный, но все-таки «заложенный» в версии срединного сращения, - ибо только искусственное заключение в скобки может разделить эти подходы, не в реальности, но исключительно для удобства анализа, что зависит от исследовательских интересов.
Поскольку Бхаскар уже различил в своей ТМСД необходимость сохранить утверждение «нет людей - нет социальных структур» (чтобы избегнуть реификации) и необходимость отвергнуть постулат «вот они структуры, потому что здесь и теперь - эти люди», то расширение временных рамок (для включения эмерджентных и совокупных следствий прошлых действий и прошлых агентов) фактически делает аналитический дуализм методологически необходимым для его ТМСД.
Человеческая деятельность, считает Бхаскар, «состоит в трансформации предзаданных материальных (природных и социальных) причин посредством целесообразной (интен-циональной) деятельности» [5, 92]. Хотя из этого высказывания можно понять, что социальные формы должны быть используемы (по Бхаскару, дабы задать рамки интенциям), в нем заложен и другой, совершенно чуждый конфляцио-низму смысл, а именно, что предзаданные свойства навязаны актуальным агентам и не могут быть подведены под волюнтаристские понятия типа «непосредственное сиюминутное человеческое действие». Эмерджентное возникновение в прошлом реляционных свойств обусловливает ситуации, в которых оказываются актуальные действующие, независимо от их воли и согласия. Эта реляционная концепция структур, эксплицитно включающая в себя прошлое, а равно и настоящее время, «позволяет сосредоточиться на распределении структурных условий действия, и в частности ...на дифференцированном размещении (а) всех видов производственных ресурсов (включая, например, когнитивные) среди индивидов (и групп) и (б) распределении индивидов (и групп) по функциям и ролям (например, в разделении труда). Такая трактовка позволяет локализовать появление различных (в том числе антагонистических) интересов и конфликтов внутри общества, а следовательно, возможность мотивируемой исходя из этих интересов трансформации в социальной структуре» [4, 41]. Здесь мы находим ясное утверждение того, что актуальные действующие не несут ответственности за создание той структуры распределения ролей и связанных с ними интересов, в которой им приходится жить. Не менее существенно и принципиальное признание того, что именно состоявшееся в прошлом структурирование ситуаций и интересов обусловливает настоящее таким образом, что деятельность одних акторов оказывается направленной на трансформацию социальных структур, а деятельность других - на их стабильное воспроизводство. Бесконечная сложность социального не представляет непреодолимых трудностей для теорий социального изменения. Воспроизводство берет начало в унаследованных интересах, а не в простой рутинизации. Трансформация не есть неопределенный потенциал всякого момента времени, она коренится в конкретных конфликтах между определенными группами, унаследовавшими конкретные позиции с конкретными интересами. Основания аналитического дуализма теперь заложены, но для завершения ТМСД как социальной теории, необходима еще «третья перспектива» - перспектива взаимодействия между социальными структурами и людьми как агентами. Бхаскар признает это, так как указывает на необходимость ввести опосредующие концепты для объяснения того, каким образом структура реально обусловливает деятельность (чью и где) и как на это обусловливание реагируют действующие, воспроизводя структуру или трансформируя ее (в моих терминах это звучало бы так: запуская процесс морфогенеза и морфостазиса). Переходя к описанию этих посредников, следует подчеркнуть ту огромную дистанцию, которая теперь отделяет их от «свободно парящих «модальностей» Гидденса(«интерпретативной схемы», «возможности» [или «нормы»], составляющих запас знаний, способностей и условностей,- все они универсально доступны, а не диффе-ренцированно распределены и конкретно локализованы). Бхаскар подчеркивает, что «мы нуждаемся в системе опо-средующих концептов, которые бы заключали в себе обе стороны практики и обозначали бы в социальной структуре, так сказать, «прорези» (как в автоматах, срабатывающих от монеты или жетона), в которые должны проскользнуть деятельные агенты для ее воспроизводства. Иначе говоря, речь идет о системе концептов, обозначающих «место контакта» между человеческой деятельностью и социальной структурой. Такие точки соприкосновения действия и структуры должны быть и устойчивы во времени, и непосредственно заняты индивидами [4, 40] [курсив мой - М. А]. Эти типы сцеплений вполне конкретны («прорези»), локализованы («точки соприкосновения») и дифференцирование распределены (не все могут «проскользнуть» в одну и ту же «прорезь»). Взятые как система отношений, они удовлетворяют требованиям временной продолжительности, эмерджентны и нередуцируемы, поскольку предполагают «интеракции» между занимающими их индивидами, но не сводятся к ним.
Эти уточнения позволяют говорить о совпадении понятийного аппарата Бхаскара и М/М-подхода, хотя концептуальные рамки первого могут оказаться несколько тесноватыми для второго. Обратимся к следующей цитате из Бхаскара: «ясно что необходимая нам опосредующая система понятий - это система позиций (мест, функций, правил, обязанностей, прав), занимаемых (в силу освободившихся вакансий, взятой или возложенной ответственности etc.) индивидами, и их практик (действий и т. д.), в которые индивиды вовлечены в силу занимаемых позиций (и наоборот). Я буду называть ее опосредующей системой «позиция-практика» [4, 41]. «Позиция», таким образом, оказывается двусмысленным понятием. Если оно означает «пассивный аспект роли», в соответствии с принятым терминологическим употреблением*, то такое понимание оказывается слишком узким для моих целей.
* Это различие введено Р. Линтоном и используется, например, Т- Парсонсом.
Занимая или будучи назначены на свои ролевые позиции, агенты действительно вступают в очень важную, но не единственную «сферу контакта» со структурой. Если «позиция» понимается и в обыденном смысле («положение», в котором они очутились), как сложившаяся в результате выбора (или благодаря счастливому стечению обстоятельств) ситуация (или контекст), не связанная прочно с какими-то особыми нормативными ожиданиями, а следовательно, не подпадающая под определение роли (например, положение «униженных», «верующих» или «сторонников теории X»), то совмещение будет полным. Последнее значение, похоже, также приемлемо для Бхаскара, что видно из приведенной выше цитаты. Например, обсуждая мир жизненного опыта, он поясняет, что этот «мир зависим от онтологического и социального контекстов, в которых протекает значимый опыт» [5, 97]. Хотя это утверждение не относится к числу принципиальных сходств между нашими концепциями, я привожу его потому, что в М/М-подходе я не задаюсь целью свести все проблемы, с которыми сталкиваются агенты в унаследованных от прошлого структурах, к ролям (и, таким образом, не ограничиваю морфогенетическии потенциал деятельностью в рамках ролевых требований, не свожу двигающие морфогенез интересы к ролевым интересам). При рассмотрении взаимодействия между двумя уровнями М/М-подход главное внимание уделяет тому, как структуры обусловливают действующих в их деятельности.
Подчеркну, наконец, одно из важнейших совпадений ТМСД с М/М-подходом. С точки зрения последнего, структурное обусловливание деятельности (принуждением и ограничением или созданием благоприятных условий) никогда не оказывает непосредственного «гидравлического давления». Именно поэтому предпочтительнее говорить о сочленяющих их «посредниках», чем о соединяющих их «механизмах», ибо в рассматриваемых процессах нет ничего механического (и ничего, что бы отрицало человеческую субъективность). То же самое можно сказать о ТМСД, ибо, по Бхаскару, интенциональность отличает деятельность от структуры. «Интенциональное человеческое поведение причинно, ...оно всегда причиняется соображениями... и только поэтому оно определяется как интенциональное» [5, 90]. М/М-подход отражает тоже самое убеждение, а потому фактически концептуализирует обусловливание действия структурой в понятиях последней, добавляя мотивирующие соображения для объяснения по-разному совершающихся (в силу различия позиций) действий.
Картина трансформации и морфогенеза
Мы говорили о «структуре» и «взаимодействии» как двух принципах объяснения и об «опосредующих процессах» как принципе объяснения, соединяющем два первых. Теперь взаимосвязи этих процессов необходимо наглядно изобразить так, чтобы вид этих связей отличался от обычных разнонаправленных стрелок, а наш рисунок не был бы похож на диаграммы теоретиков-конфляционистов. Основное отличие состоит, конечно, в том, что конфляциони-сты, хотя и могут приписать значимость течению времени, все-таки совершенно неспособны признать внутреннюю историчность процесса. Ведь время - это среда, куда более необходимая для совершения процессов, чем необходим воздух для дышащих существ. Но допущение эпифеномена-лизма или взаимного конституирования означает, что во всякое мгновение времени процесс можно обрисовать совершенно одним и тем же образом. Однако для неконфляцио-нистов все обстоит совершенно иначе, ибо для них сам по себе процесс протяжен во времени (и каждый момент его согласуется не с одной и той же вечной диаграммой, но с особой фазой на карте исторического потока). Как аналитически, так и практически различные фазы разведены между собою не просто как аспекты единого процесса, но и как части временного следования. Более того, так как считается, что структуры имеют лишь относительную длительность и трансформация/морфогенез характеризует лишь окончательную фазу процесса, то и модель тоже указывает на последовательные циклы его прохождения.
Таким образом, признается, что каждому циклу, привлекающему наше внимание, поскольку он представляет для нас содержательный интерес, предшествуют предыдущие циклы, а за ним идут последующие, будь то воспроизводящие или трансформирующие, морфостатические или мор-фогенетические. Действие обязательно непрерывно («нет людей - нет и общества»), но ведь структуры действуют в течение какого-то времени и потому прерывны (имеют лишь относительную длительность). Изменение структур означает, что последующая деятельность будет обусловлена и оформлена совершенно иначе (нынешнее общество является продуктом ныне живущих людей ничуть не более, чем будущее общество окажется продуктом деятельности наших наследников). От конкретной проблемы зависит то, как вычленяются особые аналитические циклы: результатом являются общие диаграммы, которые наполняет содержанием исследователь. Утверждения о значительном сходстве между трансформационной моделью и М/М-подходом будут в конце концов подкреплены решающим доводом в том и только в том случае, если графические отображения процессов в них будут совершенно отличаться от того, что предлагают теоретики-конфляционисты, а диаграммы окажутся очень похожими друг на друга. Как будет показано ниже, дело обстоит именно так, но для этого нам необходимо сделать некоторые замечания и уточнения, касающиеся эволюции в графических схемах Бхаскара.
В ранней работе «Возможность натурализма» (1979) [4] он предложил, так сказать предварительную модель связи между личностью и обществом. В многих отношениях она слишком фундаментальна. Во-первых, хотя в ней есть и «до», и «после», но нет подлинной историчности; несмотря на разрыв посередине, данная модель могла бы служить эвристическим инструментом описания каждого и любого момента времени, а не какой-либо одной конкретной фазы исторического процесса. Во-вторых, в некоторых отношениях эта модель «сверхперсонализирована», кажется, что структурные влияния идут исключительно через социализацию и сказываются непосредственно на (всех) индивидах. В-третьих, «прежде» и «после» не связаны взаимодействием и не опосредованы «отношениями производства». Короче говоря, перечисленное указывает на недооценку, соответственно, историчности, эмерджентного возникновения и опосредования.

Однако через десять лет Бхаскар переработал эту фундаментальную модель, причем за счет того, что ввел в нее те свойства, которые были опущены ранее. В работе * Но вое призвание реальности» (1989) он внес следующие принципиальные изменения (они отражены на диаграмме). Во-первых, в точках 1 и 2 эксплицитно представлено вначале эмерджентное возникновение, а затем влияние (в настоящем) структурных свойств, непреднамеренные последствия прошлых действий и непризнаваемые условия нынешней деятельности.
Во-вторых, было уточнено, что понимание действующими своего социального мира ограничено воздействием этих свойств, причем в точках 3 и 4 это усугубляется ограниченностью в их понимании самих себя, что, в свою очередь, обеспечивает необходимый процесс производства (который теперь включается в диаграмму) опосредованным продуктом агентов, далеко не в полной мере способных осознать, почему они находятся в таких именно отношениях и почему они в этих ситуациях делают именно то, что делают.
Наконец, в-третьих, ключевую роль теперь играет разбиение процесса на временные фазы, диаграмма теперь является протяженной во времени последовательностью, где точка 1 - эксплицитный результат предшествующего цикла, а 1' сигнализирует о начале нового, отличающегося последующего цикла (в случае трансформации). Если результатом является воспроизводство, то в следующем цикле нам вновь придется иметь дело с той же самой структурой, но не обязательно с тем же самым действием.
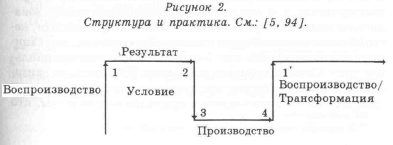
* Игра слов: «space/time is to be seen/scene as a flow».
Таким образом, оправдано эксплицитное введение в модель потока как историчности, но оправдано также и расчленение его на фазы, так как Бхаскар утверждает, что ТМСД «порождает» четкий критерий исторически значимых событий, а именно тех, которые «инициируют или конституируют размежевания, мутации или общие трансформации социальных форм» [5, 77]. Наконец, его уточненная диаграмма содержит теперь опосредую-щие процессы, т. е. она показывает отношения между локализованными на определенных позициях практиками, несводимыми к межличным взаимодействиям тех, кто занимает эти позиции для какой-то работы или как официальное лицо. Сходным образом и в рамках М/М-подхода считается, что взаимодействие исходит от тех, кто занимает позиции, находится в ситуациях и принадлежит не к тем, кто обусловливает многое из того, что можно из них сделать.
Ниже приводится основная диаграмма морфогенезиса/ морфостазиса:
Его основные теоремы, конституирующие аналитический дуализм, таковы: (i) структура с необходимостью предшествует по времени действию(ям), трансформирующе-му(им) ее (Бхаскар, как мы видели, с этим согласен и усиливает значимость аналитического вычленения, когда подчеркивает, что «игры жизненного мира всегда инициируются, обусловливаются и завершаются извне самого жизненного мира»); (п) разработка структуры с необходимостью оказывается по времени более поздней, чем действия, трансформировавшие ее (для Бхаскара структуры лишь относительно постоянны; их постоянство или трансформация - это результат установленной практики, а не произвольного взаимодействия).
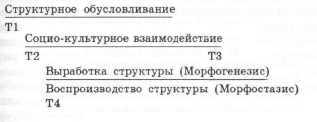
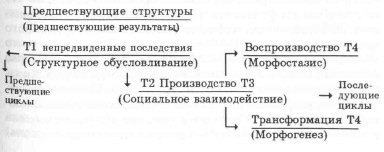
Я утверждала, что аналитический дуализм - это дело теоретической необходимости, если мы хотим четко зафиксировать процессы, способные объяснить определенные социальные изменения, т. е. если мы хотим развивать полезные социальные теории для работающих исследователей (для которых социальная онтология, утверждяющая tout court, что каждое действие в любой момент обладает потенциалом воспроизводства и трансформации, - это белый слон). По Бхаскару, ТМСД «может служить основой для подлинного понятия изменения, а следовательно, и истории» [5, 77]. На то же самое претендует и М/М-подход, а содержательно мне удалось, надеюсь, продемонстрировать это в «Социальных истоках системы образования» [2]. Я согласна с Бхаскаром, что такой подход дает нечто, на что не способны конфляционистские теории всех видов сращения. Действительно, что касается концепций срединного сращения, изменение в них остается для Бхаскара «чем-то мистическим» [5, 77]. Так оно и есть, и выше мы как раз показали, почему это должно быть так, когда придерживаются понятия «двойственности структуры». Таким образом, теория структурации перекликается здесь с разочаровывающим утверждением Гидденса о том, что «не имеет смысла искать общую теорию стабильности и изменения социальных систем, так как условия социального воспроизводства слишком резко разнятся среди различных типов общества» [11, 215]. Следовательно, его социальная онтология вручает исследователю-практику приспособление для «обострения чувствительности»; подходы ТМСД и М/М стремятся обеспечить набор инструментов, а поскольку эти инструменты предполагают, что ученые-практики будут много (и основательно) работать с ними, то они и устроены так, чтобы с ними можно было работать, чтобы они имели практическое применение.
С учетом этой цели важно отметить, что сходство, установленное между ТМСД и М/М-подходом, коренится в самом реализме. Так же, как индивидуализм и холизм представляли собой социальные онтологии, приверженность к которым соответствующим образом конституировала социальный мир, а затем и давала указания, как его изучать и объяснять (методологический индивидуализм и холизм как конфляционистские программы, действующие в противоположных направлениях), так и реалистская социальная онтология предполагает методологический реализм, воплощающий в жизнь ее приверженность глубине, стратификации и возникновению, как основным определениям социальной реальности. Таким образом, моя задача здесь заключалась в том, чтобы показать, что если иметь в виду эти основополагающие принципы реализма, то их можно только уважать и отражать в методологическом реализме, который рассматривает структуру и деятельность через «аналитический дуализм» (чтобы быть в состоянии исследовать связи между этими раздельными стратами, каждая из которых обладает своими собственными автономными, неуничтожимыми, развивающимися качествами) и который, следовательно, отвергает любую форму сращения (восходящего, нисходящего или срединного) в социальном теоретизировании.

ТМСД - это щедрый дар философа, в разработке фундаментальных вопросов вышедшего далеко за рамки нашей дисциплины; М/М-подход - произведение социолога-практика, который чувствует себя обязанным углубиться в уточнение своего инструментария, чтобы создать в высшей степени применимую социальную теорию. Таким образом, этот подход не просто дает «ясный критерий исторически значимых событий», не просто пытается идентифицировать их, но стремится идти дальше, к раскрытию их смысла. Предстоит еще много тонкой работы над концептуализацией стуктурного обусловливания, конкретизацией того, как совершается перенос структурных влияний (не гидравлическим способом, но как разумных оснований поведения) на данных агентов, занимающих определенные позиции и находящихся в определенных ситуациях («кто», «когда» и «где») и над стратегическими комбинациями, результатом которых является скорее морфогенез, чем морфостазис (с каким результатом). [...] Оказывается, что это предприятие получило благословение Бхаскара, если учесть его мнение о том, что «особый теоретический интерес социологии заключен именно в (объяснении) процессов дифференциации и стратификации, производства и воспроизводства, мутации и трансформации, непрерывного перемалывания и беспрестанных подвижек сравнительно постоянных отношений, предполагаемых данными социальными формами и структурами» [4, 41]. Так и обстоит дело, и мой главный интерес выходит за рамки создания приемлемой социальной онтологии, поскольку я стремлюсь представить действующую социальную теорию. Но последняя должна иметь в основании первую (в противном случае предрешено ее сползание в инструментализм). Именно этому и была посвящена данная глава, т. е. было показано, как эмерджентист-ская онтология с необходимостью влечет за собой аналитический дуализм, особенно если она должна произвести работающую методологию для практического анализа общества как досадного факта.
ЛИТЕРАТУРА:
1.Бхаскар Р. Общества // Социо-Логос. Вып. 1. М.: Прогресс, 1991.
2.Archer M. The Social Origins of Educational System. L.: Sage, 1979.
3.Benton T. Realism and Social Science: Some Comments on Roy Bhaskar’s The Possibility of Naturalism // Radical Philosophy, 27, Spring, 1981.
4.Bhaskar R. The possibility of naturalism. N.Y.; L.: Harvester Wheat-sheaf, 1979.
5.Bhaskar R. Reclaiming Reality. L.: Verso, 1989.
6.Bhaskar R. Beef, Structure and Place: Notes from a Critical Naturalist Perspective // Journal for the Study of Social Behavior, 13, 1985.
7.Blati P. Exchange and power in social life. N.Y.: Wiley, 1964.
8.Bucklev W. Sociology and modern systems theory. N.Y.: Prentice Hall, 1967.
9.Cohen P. S. Modern Social Theory. L.: Heinemann, 1968.
10.Gellner E. Explanations in History // Modes of Individualism and Collectivism / Ed. by J. O’Neill. L.: Heinemann, 1973.
11.Giddens A. Central problems in Social Theory: Structure and Contradiction in Social Analysis. L.: Macmillan, 1979.
12.Giddens A. The Constitution of Society: Outline of the Theory of Struc-turation. Cambridge: Polity Press, 1984.
13.Layder D. Structure, Interaction and Social Theory. L.: Routledge and Kegan Paul, 1981.
14.Lockwood D. Social integration and system integration // Exploration in social change / Ed. by Zollschau Z. and Hirsch W. L.: Routledge and Kegan Paul, 1964.
15.Outhwaite W. Realism, naturalism and social behavior // J. for the Theory of Social Behaviour. Vol. 20. № 4, 1990.
16.Outhwaite W. Agency and Structure // Anthony Giddens: Consensus and Controversy / Ed. by Clarke J. et al. Palmer: Basingstoke, 1990.
17.Saver A. Method in Social Sciences: A Realist Approach. L.: Rout-ledge, 1992.
18.WatkinsJ. W. N. Methodological Individualism and Social Tendencies “ Readings in the Philosophy of the Social Sciences / Ed. by Brodbeck M. N-Y.: Macmillan, 1971. 7*
Никлас Луман ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВА
(вариант San Foca '89)
Глава 1 Общество как социальная система
I. Теория общества в социологии
Исследования, предлагаемые вниманию читателя, посвящены социальной системе современного общества. Прежде всего надо в полной мере уяснить себе, что таким образом актуализируется циркулярное отношение к предмету*. Ведь заранее отнюдь не известно, о каком предмете идет речь. Со словом «общество» не связаны никакие однозначные представления. И даже то, что обычно называют «социальным», вовсе не обозначает только какой-то один объект. Но попытка описать общество не может состояться и вне общества. Дело в том, что при описании используется коммуникация, активируются социальные отношения. Попытка описывать общество оказывается наблюдаемой. Как ни определять предмет, но сама дефиниция уже есть операция предмета. [Само] описываемое и совершает описание. Таким образом, в ходе описания описание должно описывать также и самое себя. Оно должно постигать свой предмет как сам себя описывающий предмет. В терминах логического анализа языка можно было бы также сказать, что всякая теория общества должна продемонстрировать свой «ауто-логический» компонент1.
* Т. е. включение себя самого в предмет рассмотрения. См. ниже.
1 Ларе Лёфгрен в сходном смысле говорит об «аутолингвистическом» как форме, которая должна быть логически развернута посредством различения уровней. См.: [29].
Тому, кто полагает, что это должно быть запрещено в силу эпистемологических оснований, придется отказаться от теории общества, от лингвистики и многих других тем.
Социология пока что не определилась в отношении этой проблемы с надлежащей жесткостью и последовательностью. В конце XIX в. самым естественным казалось воспринимать всякое включение описания общества в предмет описания как «идеологию» и потому отказываться от такого включения, на основе которого было бы невозможно возвести социологию в ранг строгих академических дисциплин. Кое-кто даже считал, что по этой причине следовало бы отказаться и от понятия общества, ограничив себя строго формальным анализом социальных отношений2.
2 Так думают даже сейчас! См.: [44].
Другие, прежде всего Дюркгейм, считали строго позитивную науку о «социальных фактах» и об обществе как условии их возможности вполне осуществимой. Но были еще и такие, кто удовлетворялся различением наук о природе и наук о духе и исторической релятивизацией всех описаний общества. Каковы бы ни были отдельные рассуждения, в целом, по теоретико-познавательным основаниям, неизбежным считалось различение субъекта и объекта. А отсюда можно уже было выбирать только между сциентистски наивной позицией и позицией, отрефлектированной в духе трансцендентальной теории.
Многие отличительные черты социологии, ставшей ныне классической, следует отнести на счет ограниченности этой избирательной схемы и попыток все же как-то выйти из положения. Сказанное имеет силу и для того своеобразного сочетания трансцендентализма и социальной психологии, которое мы обнаруживаем у Г. Зиммеля, и для понятия действия М. Вебера, который заимствует у неокантианцев теорию ценностей. Все это, конечно, еще представляет сегодня интерес для экзегезы классиков. Однако классическая социология, несмотря на эту безусловную привязку к схеме «субъект/объект» и неразрывно связанную с ней проблему предмета, во всяком случае, предложила весьма примечательное и поныне уникальное описание общества. Быть может, именно этим лучше всего объясняется то, почему классики все еще продолжают восхищать и очаровывать нас, почему их тексты смогли стать в строгом смысле слова как бы неподвластными времени. Почти все теоретические усилия направлены сегодня в ретроспективу, на реконструкцию. Поэтому стоит задать вопрос, как стал возможным такой успех.
Без признания циркулярного отношения к предмету! Уж это точно. Решение проблемы одновременно скрывало ее для классиков. Оно состояло в том, чтобы определить свое историческое местоположение, т. е. разорвать круг посредством исторического различия, в котором теория могла зафиксировать себя исторически (и только исторически). Становящаяся социология реагирует на проблемы, которые стали видимыми в XIX в., и она знает, что сама является реакцией на эти проблемы. Даже если ее понятия сформулированы абстрактно, то благодаря исторической ситуации они становятся правдоподобными. Приходится признать конец веры в прогресс, и предпосылка о позитивном (несмотря на все издержки) развитии заменяется структурным анализом, прежде всего, анализом социальной дифференциации, организационных зависимостей, ролевых структур. Таким образом, появляется возможность отказаться от сосредоточенного на хозяйстве («политэкономи-ческого») понятия общества, которое было в ходу с конца XVIII в. Начало этому было положено спором между сторонниками идей о преимущественно материальной (экономической) и преимущественно духовной (культурной) детерминации общества. Одновременно положение индивида в современном обществе становится центральной, в известном смысле, ключевой проблемой, обращение к которой позволяет в целом судить об обществе скептически и уже не оценивать его безоговорочно как прогрессивное. Такие понятия, как «социализация» и «роль», указывают на потребность в теоретическом опосредовании «индивида» и «общества». Различение «индивида» и «общества» оказывается, наряду с историческим различием, основанием для [построения] теорий. Однако и здесь, как и в случае с историческим различием, вопрос о единстве различения не может быть поставлен. На вопрос, что же такое история, налагается методический запрет [45], а проблема единства различия индивида и общества даже не распознается именно как проблема, ибо и теперь традиционно исходят из того, что общество состоит из индивидов. Наконец, у Вебера скепсис, ставший возможным благодаря такой теоретической установке, выливается в критику современного западного рационализма. Можно, пожалуй, напомнить и о том, что одновременно возникает литература, показывающая, что современный индивид ни в обществе, ни вне общества не способен найти прочную основу для самонаблюдения, самоосуществления или - модное впоследствии слово - для идентичности. Назовем хотя бы только для примера Флобера, Малларме, Антонена Арто (см. [17]).
Со времени классиков прошло уже 70-80 лет, а социология ощутимым образом так и не продвинулась в сфере теории общества. Она много сделала в других областях, как в методическом отношении, так и в теоретическом, однако более всего преуспела в том, что касается накопления эмпирического знания; но она как бы воздерживалась от описания всего общества. Возможно, это связано с тем, что она продолжает воспринимать как обязательное для себя различение «субъект-объект». Правда, есть специальные исследования по «социологии социологии», а недавно появилась еще «рефлексивная» социология науки3.
3 См. самые характерные примеры: [37; 38].
В этой связи на поверхность выходят проблемы самореференции, но они как бы изолируются в качестве особых феноменов и рассматриваются как курьезы или методические трудности. То же самое можно сказать и о «self-fulfillingprophesy»*.
* Самоисполняющемся пророчестве (англ.)
В настоящее время имеется лишь одна систематическая социологическая теория - общая теория системы действия Т. Парсонса. Она заявляет о себе как кодификация классического знания и как разработка категориального понимания действия с помощью методологии крестообразных таблиц. Но именно эта теория оставляет открытым поставленный здесь вопрос о когнитивной самоимпликации, ибо не делает никаких высказываний о степени совпадения аналитических понятий с реальным образованием систем. Она только постулирует «аналитический реализм» и тем самым приводит проблему самоимпликации к парадоксальной формуле. Она не учитывает, что познание социальных систем уже как познание зависит от социальных условий, причем не только из-за своего предмета, но и потому, что познание (или выработка дефиниций, или анализ) действий само Уже является действованием. Соответственно, сам Парсонс еще не раз появляется во многих сегментах своей теории. Вот почему теория не может систематически различать социальную систему и общество, но предлагает высказывания о современном обществе лишь импрессионистского, более или менее фельетонного плана4.
4 Подробнее об этом см.: [7].
Как можно объяснить, что социология оказывается несостоятельной перед лицом одной из имманентных ее предмету проблем, в решении задачи, возможно, очень важной для ее общественного престижа? Ответ напрашивается сам собой: достаточно указать на огромную сложность общества и на отсутствие подходящей методологии для обращения с высокосложными и дифференцированными системами (так называемая организованная комплексность). Этот аргумент станет еще более весомым, если принять во внимание, что описание системы есть часть системы и что может быть множество таких описаний. И уж конечно, для «гиперсложных» систем такого рода конвенциональная методология, которая исходит либо из весьма простых связей, либо из условий применения статистического анализа, совершенно непригодна. Отсюда могла бы следовать рекомендация отказаться от теории общества и, прежде всего, заняться методологией обращения с высокосложными и даже гиперсложными системами. Однако ведь именно так и поступают уже сорок лет (см.: [8]), со времени открытия этой проблемы метода, - но пока без особого успеха.
Рассуждая иначе, можно было бы использовать понятие «obstacles epistemologiques»* Г. Башляра5. Здесь имеется в виду бремя традиции, которая препятствует адекватному научному анализу и порождает ожидания, которые не могут быть исполнены, но, несмотря на эти явные недостатки, не могут и быть заменены другими ожиданиями.
В современном понимании общества мы обнаруживаем три взаимосвязанных и поддерживающих друг друга предпосылки, которые блокируют познание:
1) что общество состоит из конкретных людей и отношений между людьми6;
Эпистемологические препятствия (фр-) - Прим. перев.
5 См: [13, 13 ff.; 2, 199-200]. Ср. рассуждения Э. Уайлдена о контрадаптивных результатах адаптивных изменений: [47, 205 Г.].
6 Даже новейшие теории систем, которые вводят понятие самореференции, иногда еще продолжают работать с положением о том, что социальные системы состоят из людей. Приведем в пример одного физика, одного биолога и одного социолога: [16; 34, 21]. Но такая путаница не позволяет точно указать, какая операция осуществляет аутопойесис в случае органических, нейрофизиологических, психических и социальных систем. Обычно соглашаются на том, что человек является частью социальных систем не целиком, но лишь постольку, поскольку он находится во взаимодействии, т. е. актуализирует с другими людьми тождественные по смыслу (параллельные) переживания. См.: [22, 128]. Правда, тем самым дело не Улучшается, но ухудшается, потому что тогда нельзя указать, какая операция осуществляет это различение «постольку/поскольку» - ведь это явно делает не химия клетки, не мозг, не сознание, не общественная коммуникация, но, во всяком случае, соответствующим образом производящие Различение наблюдатели.
2) что общества суть региональные, территориально ограниченные единства, так что Бразилия - это иное общество, чем Таиланд, США - иное, чем Советский Союз, а тогда уж, пожалуй, и Уругвай - другое общество, чем Парагвай;
3) наконец, что общества, как группы людей или как территории, могут быть поэтому наблюдаемы извне.
Первые две предпосылки препятствуют точному определению общества в понятиях. Явно не все, что можно наблюдать в человеке, принадлежит обществу (если ему вообще принадлежит здесь хоть что-то). Общество отнюдь не весит ровно столько же, сколько все люди вместе взятые, и не меняет своего облика с каждым рождением и каждой смертью. И воспроизводство его состоит отнюдь не в том, что, скажем, в отдельных клетках людей заменяются макромолекулы или в организмах отдельных людей заменяются клетки. Итак, оно не живет. И недоступные даже сознанию нейрофизиологические процессы мозга тоже никто не станет всерьез рассматривать как общественные процессы; то же самое относится и ко всем тем восприятиям и последовательностям мыслей, которые протекают в области актуального внимания отдельного сознания.
И если вопреки всему столь очевидному все-таки продолжают настаивать на «гуманистическом», сопряженном с человеком понятии общества, то это обусловлено, видимо, опасением, что иначе придется отказаться от всяких масштабов оценки общества и от всякого права требовать, чтобы общество было устроено «по-человечески». Даже если бы это было именно так, то следовало бы, однако, независимо от таких критериев, прежде всего иметь возможность устанавливать, что именно общество делает из людей и каким образом это происходит.
Столь же очевидны возражения и против территориального понятия общества. Больше, чем когда бы то ни было, территориальные взаимозависимости мирового масштаба вторгаются ныне во все детали социального. Тот, кто захотел бы это игнорировать, должен был бы вернуться к культур-ностальгическому понятию общества, резервируя все важные для последующего развития условия за другим понятием, например, говоря о «глобальной системе» (см.: [16]). Но тем самым это понятие оказалось бы подлинным преемником того, что традиционно называлось «обществом» (societas civilis, гражданским обществом). Понятие общества пришлось бы поставить в зависимость от произвольно проведенных государственных границ и, несмотря на все связанные с этим неясности, ориентироваться на единство региональной «культуры», язык и т. д.
В том случае, когда понятие общества сопрягается с человеком, в него включается слишком много; в случае территориального понятия общества - слишком мало. В обоих случаях за непригодные понятия такого рода держатся, видимо, потому, что об обществе хотели бы думать как о чем-то, что возможно наблюдать извне. Если бы удалось отказаться от таких предпосылок, то тем самым познание было бы разблокировано, господствующие эпистемологические препятствия остались бы без своей скрытой поддержки. Гуманистическая и регионалистская традиции рухнули бы из-за своей собственной непригодности.
Итак, мы дерзаем перейти к такому радикально антигуманистическому и радикально антирегионалистскому понятию общества. Отнюдь не отрицая, что люди существуют, не игнорируя самые резкие противоположности в условиях жизни на Земном шаре, мы только отказываемся выводить из этих фактов критерий для дефиниции понятия общества и для определения границ соответствующего предмета. И именно благодаря этому отказу появляется возможность познавать нормативные и оценочные стандарты обращения с людьми; например: познавать права человека или нормы коммуникации, ориентированной на достижение согласия, в смысле Хабермаса, или, наконец, установки на различие в развитии отдельных регионов как нечто, произведенное самим обществом, а не предполагать их как регулятивные идеи или компоненты понятия коммуникации.
II. Различение системы и окружающего мира
Чтобы революционизировать парадигму теории общества, мы отказываемся от традиций социологической дисциплины и обращаемся к теоретическим ресурсам, которые привносим в социологию извне. При этом мы ориентируемся на новейшие тенденции в теории систем, а также в теориях, функционирующих под иными названиями: например, кибернетике, cognitive sciences*, теории коммуникации, теории эволюции. В каждом случае речь идет о состоянии междисциплинарных дискуссий, которые за последние два-три десятка лет претерпели радикальные изменения и не имеют почти ничего общего с понятиями 50-х - начала 60-х гг. Это совершенно новые, завораживающие интеллектуальные тенденции, которые впервые позволяют избежать старого противопоставления наук о природе наукам о культуре или противопоставления предметных областей, данных либо в форме закона либо в форме текста (герменевтически).
Самая глубокая, совершенно неизбежная для понимания всего остального перестройка состоит в том, что речь теперь идет не об объектах, но о различениях. Прояснить это можно с помощью понятия формы, на котором Джордж Спенсер Браун основывает свои «Законы формы»[43]. В соответствии с ним формы следует рассматривать уже не как образы (более или менее красивые), но как линии границ, метки различия, которые вынуждают четко определить, какую сторону ты обозначаешь, т. е. на какой стороне формы находишься и где, соответственно, должны начинаться все последующие операции. Другая сторона линии границы («формы») дается одновременно. Каждая сторона формы есть другая сторона другой стороны. Ни одна из сторон не есть нечто совершенно самостоятельное. Сторона актуализо-вана только в силу того, что обозначают ее, а не другую сторону**.
* Когнитивных науках (англ.).
** Ниже Луман приводит дословно лишь две аксиомы Спенсера Брауна. Мы процитируем начальные положения «Законов формы» более подробно:
«1. ФОРМА
Мы принимаем как данную идею различения и идею обозначения, а также, что мы не можем совершить обозначение, не проводя различения. Мы принимаем, следовательно, форму различения за форму.
Дефиниция
Различение есть совершенное примыкание
То есть различение проводится <путем> установления границы с раз-Дельными сторонами, так что точка на одной стороне не может достичь Другой стороны, не пересекая границу. Например, на плоском пространстве круг проводит границу.
Если различение проведено, то пространства, состояния или содержания на каждой стороне границы, будучи различены, могут быть обозначены. Не может быть различения без мотива, и не может быть мотива, если не усматривается, что содержания отличаются по значению <value>. Если содержание имеет значение, то может быть принято имя, чтобы обозначить это значение.
Итак, называние <calling> имени может быть отождествлено со значением содержания.
Аксиома 1. Закон называния
Значение называния <са!1>, совершенного вновь, есть значение называния.
То есть если имя названо, а затем названо снова, то значение, указанное двумя называниями, взятыми вместе, есть значение, указанное одним из них.
То есть для любого имени назвать вновь значит назвать.
Равным образом, если содержание имеет значение, то может быть принят мотив или намерение, или наставление <instruction>, чтобы указать это значение.
Итак, пересечение границы может быть отождествлено со значением содержания.
Аксиома 2 Закон пересечения
Значение пересечения, совершенного вновь, не есть значение пересечения.
То есть если намереваются пересечь границу, а затем намереваются пересечь ее вновь, то значение, указанное этими двумя намерениями, есть значение, не указанное ни одним из них.
То есть для всякой границы, повторное пересечение есть непересечение». [43, 1-2].
В этом смысле форма есть развернутая (именно во времени развернутая) самореференция. Ибо идти приходится всякий раз от той стороны, которая обозначена в данный момент, а для следующей операции требуется время, чтобы пересечь границу, конституирующую форму*. Пересечение креативно. В то время как повторение обозначения лишь подтверждает его тождество (позже мы будем говорить, что оно тестирует смысл в различных ситуациях и тем самым его конденсирует), пересечение в обе стороны - это не повторение, и потому оно не может быть стянуто в одно единственное тождество7. Иными словами, различение, когда оно используется, не может самое себя идентифицировать. Именно на этом, как мы покажем на примере бинарного кодирования, основывается плодотворность пересечения.
Правда, это понятие формы сходно с гегелевским понятием понятия, поскольку и то, и другое конституируется включением в него различения. Однако Гегель все-таки встроил в понятие понятия слишком много далеко идущих притязаний, которым мы не можем сочувствовать и в которых не нуждаемся. Иначе, чем форма (в указанном нами смысле), понятие берет на себя решение проблемы своего собственного единства. При этом оно устраняет самостоятельность различенного (например, в понятии «человек» устраняется самостоятельность противоположных моментов: чувственности и разума), причем делает это с помощью специфического различения всеобщего и особенного. Снимая его, понятие конституируется как отдельное. Об этом здесь можно напомнить только для того, чтобы зафиксировать нечто прямо противоположное: форма есть именно само различение, поскольку она вынуждает обозначать (а тем самым - наблюдать) одну или другую сторону и как раз поэтому (совершенно иначе, чем понятие) сама не может реализовать свое собственное единство. Единство формы не есть ее «высший», духовный смысл. Напротив, она есть исключенное третье, которое не может быть наблюдаемо, пока наблюдают при помощи формы. И в понятии формы предполагается, что каждая из сторон определена в себе через отсылку к другой; но это здесь считается не предпосылкой «примирения» их противоположности, а предпосылкой различимости различения.
Всякое определение, всякое обозначение, всякое познание, всякое действование - как операция - учреждает такую форму; оно, как грехопадение, рассекает мир, вследствие чего возникает различие, возникает одновременность и потребность во времени, а предшествующая неопределенность становится недоступной.
Тем самым понятие формы уже отличается не только от понятия содержания, но также и не только от понятия контекста8. Формой может быть отличие чего-либо от всего остального, а равным образом и отличие чего-либо от своего контекста (как, скажем, постройка отличается от городского или ландшафтного окружения), но также и отличие некой ценности от противоположной ей ценности, при исключении третьих возможностей.
* «Развертывание самореференции», а также появляющееся ниже «развертывание (размыкание) парадокса» следует понимать, примерно, следующим образом. Самореференция - это отсылка на самое себя. Каждая операция данной системы отсылает к другой операции той же системы и потому можно говорить, что система ссылается только на себя. Круг замыкается - так же, как он замыкается в тавтологическом или парадоксальном высказывании. Он может быть разомкнут, т. е. развернут, когда можно сослаться на что-то иное, кроме себя. Например, фиксируя историческое место какой-то теории, мы отличаем ее от предшествующих, т. е. иных, и через эту отсылку к иному делается попытка разорвать круг самообоснования (об этом говорит Луман в предыдущем параграфе).
7 Спенсер Браун различает соответственно две (единственных!) аксиомы: (1) «Значение называния, совершенного вновь, есть значение называния»; и (2) «Значение пересечения, совершенного вновь, не есть значение пересечения». См.: [43, 1 ff.].
8 Такую замену понятий предлагает произвести К. Александер. См.: [6].
Всегда, когда понятие помечает одну сторону различения, причем предполагается, что есть и определяемая благодаря этому другая сторона, тогда есть еще и некая суперформа, а именно, форма отличения формы от чего-то иного9.
С помощью этих понятий, выработанных для исчисления форм, для совершения различений, можно интерпретировать и различение системы и окружающего мира10.
9 Мы вернемся к этому в гл. 2, когда будем говорить о различении среды и формы.
10 См. об этом подробно: [42, 47 ff.].
С точки зрения общего исчисления форм, - это особый случай, случай приложения исчисления. Поэтому, с точки зрения методической, речь идет не о том лишь, чтобы заменить объяснение общества на основе некоего принципа (будь то «дух» или «материя») объяснением на основе различения. Правда, различению системы и окружающего мира, а тем самым и форме «система», мы придаем центральное значение, но только в том смысле, что, исходя из этого, мы организуем последовательность теории, т. е. взаимосвязь множества различений. Процесс оказывается тогда не дедуктивным, но индуктивным, т. е. представляет собой выяснение путем проб, что означают при этом генерализации одной формы для других. А последовательность при этом означает не что иное, как производство достаточной избыточности, т. е. экономное обращение с информацией.
Самой теории систем это понятие формы показывает, что она имеет дело не с особыми объектами (или даже техническими артефактами или аналитическими конструктами), но что ее тема есть особый вид формы, так сказать, особая форма форм, которая эксплицирует всеобщие свойства всякой формы-с-двумя-сторонами применительно к ситуации «система и окружающий мир». Все свойства формы значимы также и здесь: так обстоит дело с одновременностью системы и окружающего мира и потребностью во времени для любых операций. Но прежде всего, такой способ изложения должен ясно показать, что система и окружающий мир, правда, разделены, но не могут существовать - как две стороны друг без друга. Единство формы все еще предполагается как различие; но само различие не есть носитель операций. Оно не есть ни субстанция, ни субъект, однако в истории теории оно заступает место этих классических фигур. Операции возможны только как операции некоторой системы. Но система может также оперировать и как наблюдатель формы; она может наблюдать единство различия, наблюдать форму-с-двумя-сторонами как форму - но только в том случае, если она способна, со своей стороны, образовать для этого более широкую форму, т. е. различать также и различение. Итак, если системы достаточно сложны, они тоже смогут обратить на себя самое различение системы и окружающего мира - но только в том случае, если они производят для этого свою собственную операцию, которая и совершает это различение. Иными словами, они могут сами отличать себя от своего окружающего мира, но это может быть только операцией самой системы. Форма, которую они производят как бы вслепую, совершая рекурсивные операции и тем самым вычленяя себя, вновь находится в их распоряжении, если они наблюдают себя самих как систему в окружающем мире. И только таким образом, исключительно при этих условиях и теория систем оказывается основой для определенной практики различения и обозначения. Теория систем использует различение системы и окружающего мира как форму своих наблюдений и описаний; но чтобы иметь возможность делать это, она должна уметь отличать это различение от других различений, например, различений теории действия; и чтобы вообще иметь возможность совершать операции таким образом, она должна образовать систему, т. е. - в данном случае - быть наукой. Следовательно, в применении к теории систем, это понятие выполняет искомое требование, заключающееся в положении о самоимпликации теории. Отношение теории к предмету вынуждает ее делать заключения о себе самой.
Если принять эту теорию различения за исходный пункт, то все развитие новейшей теории систем окажется вариациями на тему «система и окружающий мир». Первоначально дело заключалось в том, чтобы при помощи представлений об обмене веществ или input/output объяснить, что некоторые системы не подчиняются закону энтропии, но в состоянии создать негэнтропию и благодаря этому, именно в силу открытости и зависимости от окружающего мира, усилить отличие системы от окружающего мира. Отсюда можно было сделать вывод, что независимость и зависимость от окружающего мира не суть взаимоисключающие признаки системы, но при определенных условиях они могут взаимно усиливаться. Вопрос тогда ставился так: при каких условиях? Ответ на него можно было искать при помощи теории эволюции.
Следующий шаг состоял во включении в рассмотрение самореферентных, т. е. циркулярных отношений. Прежде всего имелось в виду построение структур системы собственными системными процессами. Это позволяло вести речь о самоорганизации. Здесь окружающий мир понимался как источник неспецифического (бессмысленного) «шума», из которого система, однако, благодаря взаимосвязи своих собственных операций, могла якобы извлекать смысл. Так пытались объяснить то, что система (хотя она и зависит от окружающего мира и не обходится без него, но детерминирована отнюдь не им) может сама себя организовать и выстроить свой собственный порядок: order from noises11. Окружающий мир, с точки зрения системы, случайным образом воздействует на нее12, но именно эта случайность необходима для эмерджентного возникновения порядка, причем тем более необходима, чем сложнее становится порядок.
Новый момент в эту дискуссию внес своим понятием аутопойесиса Хумберто Матурана13.
11 См.: [11; 18]. [Order from noises - порядок из шума (англ.).]
12 А. Атлан даже утверждает, что изменения организации системы могут быть поэтому объяснены, лишь исходя из внешних воздействий. См.: [12, 115 ff.]. См. также: [10].
13 См. обобщающее изложение: [32].
Аутопойетические системы - это такие системы, которые производят не только свои структуры, но и свои элементы в сети именно этих элементов. Элементы (а во временном аспекте элементами являются операции), из которых состоят аутопойетические системы, не имеют никакого независимого существования. Они не просто сочетаются. Они не просто бывают соединены. Нет, они производятся только в системе, причем именно благодаря тому, что используются как различия (на каком бы то ни было энергетическом и материальном базисе). Элементы - это информации, это различия, которые составляют отличие в системе*. И потому они суть единицы применения для производства других единиц применения, которым ничто не соответствует в окружающем мире системы**.
* Чтобы лучше понять этот пассаж Лумана, тем, кто владеет английским, стоит вспомнить выражение «to make a difference», которому дословно соответствует немецкое «Unterschiedmachen». Остальным же рискну напомнить пресловутое «почувствуйте разницу». Иными словами, речь идет о различиях, которые и составляют эту самую «разницу», т. е. значимы для системы.
** Концепцию аутопойесиса X. Матураны мы решили представить более подробно при помощи нескольких обширных цитат из его работ: «Основной познавательной операцией, которую мы выполняем как наблюдатели, является операция различения. Посредством этой операции мы специфицируем единство как сущность, отличную от фона, характеризуем и единство, и фон через те свойства, какими операция наделяет их, и специфицируем их раздельность. Специфицированное таким образом единство - это простое единство, которое определяет своими свойствами пространство, в котором оно существует, и феноменальный домен, который оно может породить, взаимодействуя с другими единствами. Рекурсивно обратив операцию различения на единство, так, чтобы различить компоненты в нем, мы респецифицируем его как составное единство, которое существует в пространстве, определяемом его компонентами, потому что именно благодаря специфицированным свойствам его компонентов мы - наблюдатели - его различаем.» [31, xix]. «Следовательно, составное единство операционально различено как простое единство в метадомене относительно того домена, в котором различены его компоненты, потому что оно есть следствие операции составления. В результате компоненты составного единства и соотнесенное с ним простое единство находятся в конститутивном отношении взаимной спецификации. Таким образом, свойства компонентов составного единства, различенного как простое, предполагают свойства компонентов, конституирующих его как таковое, и наоборот, свойства компонентов составного единства и способ, каким они составляются, определяют те свойства, которые характеризуют его как простое единство, если оно различено как таковое. Соответственно, не бывает различения компонента, независимо от единства, которое его интегрирует, а простое единство, различенное как составное, не может быть разъято на произвольный набор компонентов, расположенных в произвольной композиции. Конечно же, нет никаких свободных компонентов, перемещающихся независимо от составного единства, которое их интегрирует [35, 58-59]. «Иными словами, наблюдатель характеризует единство, устанавливая те условия, в которых оно существует как могущая быть различенной сущность, но он познает его лишь настолько, насколько он определяет мета-домен, в котором он может оперировать с той сущностью, которую он охарактеризовал. Таким образом, аутопойесис в физическом пространстве характеризует живые системы, потому что он детерминирует различения, которые мы можем выполнить в наших взаимодействиях, если мы специфицируем их [эти системы], но мы знаем их лишь до тех пор, пока можем и оперировать с их внутренней динамикой состояний как составных единств, и взаимодействовать с ними как простыми единствами в окружающей среде, в которой мы их усматриваем. <...> Аутопойетическая машина - это машина, организованная (определенная как единство) как сеть процессов производства (трансформации и разрушения) компонентов, которые производят компоненты, каковые (i) своими взаимодействиями и трансформациями постоянно регенерируют и реализуют сеть процессов (отношений), которые их производят; (И) конституируют ее (машину) как конкретное единство в пространстве, в каковом они (компоненты) существуют, специфицируя топологический домен его реализации как такой сети [31, xxii, 78-79].
Конечно, и здесь не обходится без окружающего мира (ведь иначе, как мы знаем, другая сторона формы не была бы системой). Но теперь следует гораздо точнее указать (и от этого может выиграть наша теория общества), как ауто-пойетические системы, которые сами производят все элементы, необходимые им для продолжения их аутопойесиса, выстраивают свои отношения с окружающим миром. Все внешние связи такой системы даны, конечно, неспецифически (хотя это, разумеется, не исключает, что наблюдатель может специфицировать, что он сам хочет и может видеть). Всякая спецификация, в том числе и спецификация связей с окружающим миром, предполагает самодеятельность системы и историческое состояние системы как условие ее самодеятельности. Ибо спецификация сама есть некая форма, т. е. различение; она состоит в том, что делается выбор из самостоятельно сконструированной области выбора (информация), а эта форма может быть образована только в самой системе. Нет никакого input'& и outpuf& элементов, т. е. нет входа в нее и выхода из нее. Система автономна не только на уровне структур, но и на уровне операций. Об этом говорит понятие аутопойесиса. Система может конституировать свои собственные операции, только соединяя их со своими же операциями и предвидя другие операции той же системы. Но тем самым мы отнюдь еще не указали все условия ее существования, и вопрос следует поставить вновь: как же можно различить эту рекурсивную зависимость совершения операций от себя самой и зависимости от окружающего мира, которые, безусловно, остаются и впредь? Ответить на этот вопрос можно, только анализируя специфику аутопойетических операций (иначе говоря, рецепция самого понятия аутопойесиса, зачастую поверхностная, сама по себе еще не дает ответа). Эти рассуждения приведут нас к тому, чтобы признать за понятием коммуникации ключевое значение для теории общества.
Прежде всего, фиксируя понятия указанным образом, мы делаем более ясным и столь часто употребляемое ныне понятие оперативной (или самореферентной) замкнутости системы. Конечно, тем самым не предполагается ничего, что могло бы быть понято как каузальная изоляция, отсутствие контактов или закрытость системы. Уже теория открытых систем позволила увидеть, что усиление независимости и зависимости происходит одновременно, причем одно усиливает другое. Понимание этого в полной мере сохраняется и сейчас. Только теперь это формулируют иначе и говорят, что любая открытость системы основывается на ее замкнутости. Говоря более подробно, речь идет о том, что только оперативно замкнутые системы могут выстраивать высокую собственную сложность, которая затем может служить спецификации того, в каких именно аспектах система реагирует на условия своего окружающего мира, тогда как во всех остальных аспектах, благодаря своему ауто-пойесису, она может обеспечить безразличие <к окружающему миру>14.
До сих пор не оспорена и концепция Гёделя, который понял, что ни одна система не может замкнуться в логически непротиворечивый порядок15. В конечном счете, здесь говорится то же самое, что и у нас: понятие системы отсылает к понятию окружающего мира и поэтому его невозможно изолировать ни логически, ни аналитически. Но одновременно следует подчеркнуть, что это касается только наблюдателя, который наблюдает при помощи различения «система/окружающий мир» и еще ни к чему не привязывает нас в вопросе о том, как же реализуется единство системы.
14 Образцовый пример этого - мозг. См. сжатое введение в проблематику: [39].
15 Ныне это общепризнано, однако при этом часто упускают из виду специфику гёделевских доказательств. Ср. поэтому в дополнение системно-теоретическую аргументацию у Эшби: [5; 8].
В конце концов, понимание того, что эти системы построены циркулярным, самореферентным и - постольку - логически симметричным способом, привело к следующему вопросу: как же прерывается этот круг, как создаются асимметрии? И кто тогда скажет, что здесь - причина, а что - следствие; сформулируем еще радикальнее: что происходит прежде, а что - после, что - внутри, а что вовне? Инстанцию, которая это определяет, сегодня часто называют «наблюдателем». Под «наблюдателем» не следует понимать только процессы сознания, т. е. только психические системы. Это понятие используется в высшей степени абстрактно и независимо от материального субстрата, инфраструктуры или специфического способа оперирования, который делает возможным проведение наблюдений. «Наблюдение» означает (и мы в дальнейшем будем использовать это понятие только в данном значении) просто различение и обозначение. Оно говорит о том, что «различение» и «обозначение» суть единая операция; ибо нельзя обозначить ничего, что одновременно не различают, а различение тоже отвечает своему смыслу лишь постольку, поскольку служит обозначению одной или другой стороны (но не обеих сторон сразу!). Если сформулировать это в терминах традиционной логики, то можно сказать, что различение относительно сторон, которые оно различает, есть исключенное третье. И если, наконец, принять во внимание, что наблюдение - всегда оперирование, которое должно совершаться некоторой аутопойетической системой, и если такую систему в этой ее функции обозначить как наблюдателя, то это приведет к следующему высказыванию: наблюдатель есть исключенное третье своего наблюдения. Сам себя при наблюдении он видеть не может. «Наблюдатель есть ненаблюдаемое», - кратко и сжато формулирует М. Серр [30, 365]. Различение, которое наблюдатель использует всякий раз, чтобы обозначить одну или другую сторону, служит невидимым условием видения, его слепым пятном. И это относится ко всякому наблюдению, все равно, является ли операция психической или социальной, совершается ли она как актуальный процесс сознания или же как коммуникация.
III. Общество как объемлющая социальная система
В соответствии с разрабатываемой здесь концепцией, теория общества должна рассматриваться как теория объемлющей социальной системы, заключающей в себе все остальные социальные системы. Эта дефиниция - почти цитата. Она соотносится с вводными положениями «Политики» Аристотеля (1252а 5-6), где городское сообщество (koinoniapolitike) определяется как наипрекраснейшее (наиглавнейшее, kyriotate) сообщество, которое заключает в себе все остальные (pasas periechousa tas alias)*.
* У Лумана здесь сложная и непередаваемая по-русски игра однокорен-ных слов: herrlichste(herrscherlichste <...>) Gemeinschaft <...>. «Herrlich» означает, собственно, прекрасный, великолепный. Слово «herrscherlich» вообще не особенно употребительно и означает «господский» (оба прилагательных даны в превосходной степени). В русском переводе «Политики» читаем: «...больше других и к высшему из всех благ стремится то общение, которое является наиболее важным и обнимает собой все остальные общения. Это общение и называется государством или общением политическим.» [1, 376]. Иными словами, Луман подчеркивает, что наипрекраснейшее общение («завершение», «наивысшее существование», говорит далее Аристотель [1, 378]) является и господствующим, и наиболее полно выражающим господство. Переводя «herrlichste» как «наиглавнейшее» мы имели в виду прежде всего цитированный перевод Аристотеля.
Таким образом, поскольку речь идет о понятии общества, мы присоединяемся к древнеевропейской традиции*. Правда, все компоненты этой дефиниции мы понимаем нетрадиционно (включая и понятие включенности, т. е. periechon, которое мы, в русле теории систем, подвергнем декомпозиции при помощи концепции дифференциации), ибо речь у нас идет о теории современного общества для современного общества.
* Это замечание Лумана очень важно. Обычно в своих сочинениях он подчеркивает именно свое размежевание с тем, что он называет «древнеевропейской» (alteuropaische) традицией. Хотя сам термин «древнеевропей-ский» не принадлежит Луману (его ввел известный историк философии и. Риттер), но именно Луман использует его очень часто, что стало привычной мишенью нападок для многих критиков.
Итак, общество прежде всего понимается как система, а форма системы, (об этом было сказано выше) есть не что иное, как различение системы и окружающего мира. Это не значит, что достаточно общей теории систем - и путем логических выводов можно будет заключить, что в данном случае есть общество. Напротив, следует дополнительно определить, в чем состоит особенность социальных систем, а в рамках теории социальных систем - определить еще и то, что составляет особенность системы общества, что имплицирует наша характеристика общества как объемлющей социальной системы.
Следовательно, мы должны различать три разных уровня анализа общества:
1) общую теорию систем, а в ней - общую теорию ауто-пойетических систем;
2) теорию социальных систем;
3) теорию системы общества как особого случая социальных систем. На уровне общей теории аутопойетических, самореферентных, оперативно замкнутых систем теория общества пополняется принципиальными понятиями и результатами эмпирических исследований, имеющими силу и для других систем того же типа (например, мозга). Здесь возможен широкий междисциплинарный обмен опытом иинициативами. Как показано в предыдущем параграфе, мы основываем теорию общества на инновативных тенденциях в этой сфере.
На уровне теории социальных систем речь идет об особенностях тех аутопойетических систем, которые могут быть поняты как социальные. На этом уровне следует определить специфическую операцию, аутопойетический процесс которой ведет к образованию социальных систем в соответствующем им окружающем мире. Теория социальных систем, следовательно, обобщает все высказывания (и лишь такие высказывания), которые имеют силу для всех социальных систем, даже для систем интеракции с их малой длительностью и ничтожным значением16.
16 См. об этом мои предварительные разработки: [26].
На этом уровне общество оказывается (как и классическое societas civili.s) одной из многих социальных систем, и его можно сравнивать с другими типами социальных систем - системами организации и системами интеракции присутствующих*.
Лишь на третьем уровне сказывается специфика систем общества. Здесь необходимо артикулировать значение того самого признака, который восходит к начальным положениям «Политики» Аристотеля. В основании явно лежит парадокс. Он состоит в том, что одна социальная система среди других (koinonia) одновременно включает в себя другие системы. Аристотель разрешал этот парадокс эмфазой, а в конечном счете - этическим пониманием политики. Тем самым для традиционного понимания общества парадокс был сделан невидимым. Мы же размыкаем парадокс путем предложенного здесь различения уровней анализа общества. Это допускает возможность при удобном случае напоминать о парадоксальном фундировании всей теории. (Ведь различение «уровней» - это, в наших понятиях, «форма», которая имеет две стороны; понятие уровня предполагает, что есть другие уровни.)
Хотя мы различаем эти уровни, но предметом наших исследований (их «референтной системой»**) является система общества.
* Луман различает три типа, или три уровня образования социальных систем. Системы интеракции образованы коммуникациями между теми, кто непосредственно присутствует. Системы организации основываются на формальных правилах членства. Общество объемлет все эти системы. Но они не являются его частями или подсистемами. Общество - это другой тип, другой уровень образования системы.
** Такой вариант перевода мы предлагаем для столь частого у Лумана понятия « Systemreferenz ». Оно, таким образом, выбивается в нашем переводе из ряда аналогично образованных у Лумана понятий, которые мы попытались передать одним словом: «Selbstreferenz» - «самореференция» и «Fremdreferenz» «инореференция» (т. е. референция, отсылка к другому, к чужому).
Иными словами, мы различаем в нашем предмете исследования (обществе) уровни анализа, и в данном контексте больше уже не занимаемся системами, которые могли бы быть тематизированы также и на других уровнях. Методологически различение уровней ведет к требованию исчерпать возможности абстракции, распространить сравнение систем на сколь возможно более разнородные системы и при оценке уровней большей общности опираться по возможности на результаты познания, полученные при анализе общества. При всем том, речь не идет о заключениях по аналогии, чего все время опасаются социологи; речь также не идет и о «только метафорическом» использовании богатства биологических идей. Различение не имеет никакого отношения к высказываниям о бытии или о сущности вещей в смысле «analogia entis»*. Оно представляет собой не что иное, как форму размыкания парадокса - единства, заключающего себя в самом себе. Специфическая функция этого различения состоит в том, чтобы способствовать междисциплинарному обмену идеями и повышать потенциал взаимного инициирования. Итак, это не высказывание о бытии, но специфическая научная конструкция.
* Аналогия бытия (лат.). Имеется в виду схоластическое учение о соответствии, сходстве преходящих вещей и Творца в том отношении, что Все они суть, хотя несходство их в том, что Бог еще и над всем бытием.
На всех уровнях анализа системы общества для спецификации необходимых теоретических решений мы будем пользоваться средствами теории систем. Общая теория ауто-пойетических систем требует, чтобы точно была указана та операция, которая совершает аутопойесис системы и тем самым отграничивает систему от ее окружающего мира. В случае социальных систем это происходит через коммуникацию.
У коммуникации есть все необходимые свойства: она является изначально социальной (причем единственной изначально социальной) операцией. Она изначально социальна, поскольку, хотя и предполагает множество совместно действующих систем сознания, но (именно поэтому) не может быть - как единство - вменена ни одному отдельному сознанию. Она социальна также и постольку, поскольку «общее» (коллективное) сознание ни коим образом и ни в каком смысле произведено быть не может, т. е. и согласие [Konsens] как полное согласование в строгом смысле слова недостижимо, а вместо этого функционирует коммуникация17.
17 На это указывает А. Хаан. Взаимопонимание, говорит он, может включать в себя фиксацию согласия, но может использовать и другие средства, чтобы коммуникация продолжалась даже при расхождении психических состояний. См.: [20].
Коммуникация, если иначе сформулировать тот же самый аргумент, аутопойетична постольку, поскольку может быть произведена лишь в рекурсивной связи с другими коммуникациями, т. е. в сети коммуникаций, в воспроизводстве которой каждая отдельная коммуникация участвует самостоятельно.
К тому же - и это отличает коммуникацию от биологических процессов любого рода - речь идет об операции, которая наделена способностью к самонаблюдению. Каждая коммуникация должна одновременно и сообщать, что она есть коммуникация, и помечать, кто что сообщил, чтобы могла быть определена подсоединяющаяся к ней коммуникация, т. е. чтобы мог быть продолжен аутопойесис. Следовательно, она не просто производит как совершаемая операция некое различие (и это тоже!), но, чтобы наблюдать совершение операции, она еще использует специфическое различение, а именно, различение сообщения и информации.
Понимание этого влечет за собой очень серьезные следствия. Дело не только в том, что идентификация сообщения как «действия» есть конструкт, созданный наблюдателем, т. е. конструкт наблюдающей самое себя системы коммуникации. Дело также и в том, что социальные системы (включая общество) могут осуществиться только как наблюдающие самое себя системы. Эти рассуждения заставляют нас, в противоположность Парсонсу и всему тому, что имеет ныне хождение на рынке идей под названием «теория действия» , отказаться от (неизбежно индивидуалистического) обоснования социологии как науки о действии. Одновременно у нас появляется проблема, первоначально, правда, - не более, чем проблема системы, вынужденной постоянно наблюдать самое себя, причем наблюдение, как сказано выше, есть зависящая от различения операция, которая в момент самого своего совершения функционирует как исключенное третье. Всякое самонаблюдение тоже обусловлено слепым пятном. Оно возможно только потому, что не может видеть свое видение. Таким образом, сама коммуникация оперативно функционирует как единство различия информации, сообщения и понимания; но для самонаблюдения она использует различение информации, сообщения и понимания, чтобы иметь возможность устанавливать, должна ли последующая коммуникация реагировать на сомнение в информации, на предполагаемые намерения [отправителя] сообщения (например, намерение ввести в заблуждение) или на трудности понимания. Следовательно, ни одно самонаблюдение не в состоянии полностью постичь действительность той системы, которая его совершает. Оно может лишь сделать что-то вместо этого, только выбрать эрзац-решения; а это происходит путем выбора различений, посредством которых система совершает самонаблюдения. Если система достаточно сложна, то она может от наблюдения своих операций перейти к наблюдению своего наблюдения и, в конечном счете, к наблюдению самой системы. В этом случае она должна положить в основу различение системы и окружающего мира, т. е. суметь различать самореференцию и инореференцию. Но и это происходит посредством операций системы в системе - иначе это не было бы самонаблюдение. Различение самореференции и инореференции - это различение, которое практикуется в системе и рефлектирует себя как таковое. Мы можем также сказать, что оно является конструкцией системы.
Из-за невозможности узреть полноту бытия и сделать систему прозрачной для себя самой, возникает сложный комплекс различений, руководящих системным процессом наблюдения, направляющих его внутрь или вовне, в зависимости от того, какая сторона различения обозначается как «внутреннее» или «внешнее». Тогда система, например, если она располагает соответствующими накопительными Устройствами, например, письмом, может собирать опыт, конденсировать, благодаря повторению, ситуативные впечатления и выстраивать оперативную память, не подвергаясь при этом опасности постоянной путаницы, т. е. не смешивая себя самое окружающим миром. Все это связано с основным различением: «самореференция/инореференция», а также подходящими для определенных случаев Другими различениями.
Понятие самонаблюдения не предполагает, что в системе всякий раз есть только одна такая возможность. Много коммуникаций может одновременно практиковаться и одновременно самонаблюдаться. То же самое относится и к наблюдению единства системы в отличие от окружающего мира. Социальная система и в особенности, конечно же, общество может наблюдать себя одновременно или последовательно совершенно различным - мы будем говорить «по-ликонтекстуральным»* - образом. Итак, применительно к объекту, ничто не вынуждает интегрировать наблюдения. Система делает то, что делает.
* Это понятие восходит к известному немецкому философу и логику Г. Гюнтеру, на что в других случаях указывает сам Луман. См.: [19].
Это относится к социальным системам самого разного рода, например, и к организациям, и, как знают семейные терапевты, к семьям. И если мы теперь начинаем говорить о третьем уровне, на котором должна рассматриваться специфика системы общества, то здесь проблемы многообразия возможных самонаблюдений оказываются особенно очевидными, а их масштаб - особенно заметным. Ведь общество как объемлющая социальная система не знает никаких социальных систем вне своих границ. То есть оно вообще не может наблюдаться извне18.
18 П. Ливе говорит в этом случае об «эпистемологической замкнутости»; однако одновременно он констатирует, что тем самым еще отнюдь не гарантируется единство единственно-верного самоописания. См.: [23]
Правда, психические системы могут наблюдать общество извне, но это остается без социальных последствий, если не коммуницируется, т. е. если наблюдение не практикуется в социальной системе. Общество, иными словами, - это предельный случай поли-контекстурального самонаблюдения, предельный случай системы, которая вынуждена наблюдать себя самое, не становясь при этом объектом, о котором возможно лишь одно единственное правильное мнение, всякое отклонение от которого следовало бы рассматривать как заблуждение. Даже если общество рутинным образом отличает себя от окружающего мира, заранее отнюдь не ясно, что именно отличается тем самым от его окружающего мира. И даже если изготовляются тексты, т. е. описания, которые управляют наблюдениями и координируют их, это не означает, что всякий раз есть только одно истинное описание. Нельзя просто гак, без оговорок и уточнений, утверждать, будто южнокитайские рыбаки, подобно бюрократам и мандаринам, усматривали основы империи в конфуцианской этике. Индийская кастовая система как отображение единства через различие тоже принимала регионально весьма различные формы, несовместимые с единством иерархического порядка. И кто еще, помимо клира, дворянства и юридически образованных судей и управленческих чиновников, знал учение о трех сословиях позднего Средневековья и верил в него? Все это остается вопросом эмпирическим. С точки зрения крестьян, такое общество было скорее обществом с одним классом, не считая данного конкретного землевладельца и его семью.
В случае с обществом именно нет такого внешнего наблюдения, которое позволило бы скорректировать наше собственное - как бы ни старались писатели и социологи найти такую позицию. Традиция экстернализировала заинтересованность в безошибочном описании и называла соответствующую позицию Богом. Бог_мог все,_только не ошибаться. Но тогда приходилось еще принимать во внимание, что суждение священников о суждении Бога может быть ошибочным и правильное описание, истинный регистр грехов станет, дескать, известным только в конце времен на Страшном суде, а именно, в форме некоторой неожиданности.
Основываясь на этом тезисе об избытке возможностей самонаблюдения и самоописания мы попытаемся в завершающей главе показать, что самоописания вместе с тем совершаются не случайно. Имеются структурные условия приемлемости изложений; имеются исторические тенденции в эволюции семантик, которые сильно ограничивают пространство вариаций. Тогда социологическая теория может познавать связи типа корреляций между структурами общества и семантиками*; но одновременно она может знать и то, что такие теории суть ее собственные конструкты и что их нельзя путать с ходячими в данное время представлениями системы общества.
* См. многотомный труд самого Лумана «Структура общества и семантика. Исследования по социологии знания современного общества» [24].
Когда мы говорим, что только коммуникации и все коммуникации вносят свой вклад в аутопойесис общества, то и в этом тезисе кроется решительный разрыв с традицией. Здесь уже речь не идет ни о целях, ни о чистых помыслах, ни о кооперации, ни о споре, ни о согласии, ни о разногласии, ни о приятии, ни об отклонении востребованного смысла. Сам аутопойесис (и это сильно уменьшает объяснительную силу понятия) транспортируется всеми эти этими коммуникациями. Сюда же, конечно, относятся все коммуникации, которые следует причислить к частным системам общества. Поэтому такие различения, как «хозяйство и общество», «право и общество», «школа и общество» вносят путаницу, и наша теория их не допускает. Они создают впечатление, будто бы компоненты различения исключают друг друга, в то время как на самом деле хозяйство, право, школа и т. д. должны мыслиться не как нечто вне общества, но как то, что совершается обществом. Иначе здесь будет бессмыслица того же рода, что и при попытке различать женщин и людей, - только намного более распространенная.
«Все коммуникации» означает, что коммуникации действуют аутопойетически, поскольку их отличие не составляет отличия*. Следовательно, само то, что совершаются коммуникации, в обществе отнюдь не является неожиданностью, а значит, - и информацией. (Иначе обстоит дело, конечно, с психическими системами, к которым вдруг [кто-то] обращается**.)
* Т. е. само по себе многоразличие коммуникаций не информативно для системы, потому что, согласно понятию аутопойетической системы, каждая операция делает различение (macht Unterscheidung), т. е. составляет отличие (macht Unterschied), отлична от другой.
** Общество есть система коммуникаций, и для него фактичность коммуникации как коммуникации не неожиданна и не информативна. Психическая система может участвовать и не участвовать в коммуникации. Сам факт обращения к ней (попытка вступить в коммуникацию) есть уже отличие.
С другой стороны, коммуникация - это именно актуализация информации. Следовательно, общество состоит из взаимосвязи тех операций, которые не составляют отличия, поскольку составляют отличие. Это отводит на второстепенные теоретические позиции все предпосылки относительно взаимопонимания, прогресса, рациональности или иных, охотно усматриваемых целей. Поэтому затем столь важна окажется теория символически генерализованных средств коммуникации.
«Все коммуникации» включают в себя даже парадоксальные коммуникации, т. е. такие, которые отрицают, что они говорят о том, о чем говорят. Можно коммунициро-вать парадоксально, но при этом отнюдь не «бессмысленно» (в том смысле, что непонятно, т. е. без аутопойетического эффекта)19. Парадоксальная коммуникация функционирует как операция, даже если она - и это ее намерение хорошо понятно - вводит в заблуждение наблюдателя. Как классическая риторика, так и современная литература, как философская традиция Ницше-Хайдеггера, так и семейные психотерапевты открыто используют парадоксы; более того, стало уже обычным при наблюдении наблюдения других обращать внимание на скрытые парадоксы. Функция парадоксальной коммуникации не вполне прояснена, быть может, сама эта функция парадоксальна, поскольку является попыткой соединить в одном акте деструкцию и творение. Мы еще не раз вернемся к этому. Пока что достаточно будет зафиксировать, что тем самым в затруднении оказывается не аутопойетическая операция, а только ее наблюдение 20
19 Ср. примеры этого в кн.: [28].
20 И. Баре ль, видимо, имеет в виду нечто сходное, различая логические и экзистенциальные парадоксы. Последние неизбежны в системе, располагающей возможностями самореферентных операций. См.: [38, 19 ff.].
IV. Оперативная замкнутость и структурные стыковки.
Если описывать общество как систему, то из общей теории аутопойетических систем будет следовать, что речь должна идти об оперативно замкнутой системе. На уровне собственных операций [у него] нет контакта с окружающим миром. Это имеет силу даже в тех случаях - мы должны специально указать, сколь трудна эта идея, противоречащая всей традиции теории познания, - когда речь идет об этих операциях как наблюдениях или же об операциях, аутопойесис которых требует самонаблюдения. На уровне собственных операций [у системы] нет контакта с окружающим миром. Это имеет силу даже в тех случаях - приходится специально указать, сколь трудна эта идея, противоречащая всей традиции теории познания, - когда речь идет об этих операциях как наблюдениях или же об операциях, аутопойесис которых требует самонаблюдения. На уровне совершения операций контакта с окружающим миром нет и для наблюдающих систем. Всякое наблюдение окружающего мира должно быть проведено в самой системе как ее внутренняя активность с помощью ее собственных различений (которым ничего не соответствует в окружающем мире). Всякое наблюдение окружающего мира предполагает различение самореференции и инореференции, которое может быть сделано только в самой системе (где же еще?). А это вместе с тем позволяет понять, почему всякое наблюдение окружающего мира стимулирует самонаблюдение, а всякое дистанцирование от окружающего мира заставляет поставить вопрос о самости, о собственной идентичности. Ведь поскольку наблюдать можно только посредством различений, то одна сторона различения, так сказать, заставляет любопытствовать относительно другой стороны, стимулирует пересечение (Спенсер Браун сказал бы «crossing») пограничной линии, помечаемой формой «система и окружающий мир».
Следствием оперативной замкнутости является то, что система не может обойтись без самоорганизации. Ее собственные структуры могут быть выстроены и изменены лишь при помощи ее собственных операций - например, язык может строиться и меняться лишь при помощи коммуникации, а не непосредственно благодаря огню, землянике, космическим лучам или восприятиям отдельного сознания. Закрытость и открытость вместе делают систему (и в этом состоит эволюционное преимущество) в высокой степени совместимой с беспорядком в окружающем мире, точнее: с окружающими мирами, упорядоченными лишь фрагментарно, отрывочно, в отдельных системах, но не как единство. Эволюция в этом отношении почти с необходимостью приводит к замыканию систем, благодаря чему, в свою очередь, возникает совокупный беспорядок, в противоположность которому и утверждаются оперативная замкнутость и самоорганизация. В том же самом смысле и оперативная замкнутость общества как системы коммуникаций соответствует факту возникновения подвижных организмов с нервной системой, а в конечном счете - и сознанием. Общество только усиливает (потому что выносит) некоординированное многообразие перспектив эндогенно неспокойных отдельных систем.
В русле собственной традиции теории систем тезис о закрытости систем должен казаться экстравагантным. Ведь сама эта теория конституировалась с учетом закона энтропии, именно как теория открытых (и потому - кегэнтропических) систем. Отказываться от этой позиции, (в отношении закона энтропии) конечно, не следует. Закрытость систем следует понимать не как термодинамическую изолированность, но только как оперативную закрытость, т. е. рекурсивное создание возможностей для собственных операций посредством результатов своих собственных операций.
Ведь исходить следует из того, что реальные операции возможны только в мире, который существует одновременно. Прежде всего, это исключает, что одна операция влияет на другую. И если это все-таки должно быть возможно, то лишь так, что одна операция непосредственно подсоединяется к другой. Но такие рекурсивные отношения, в которых совершение одной операции есть условие возможности другой операции, ведут к дифференциации систем, в которых это часто реализуется структурно очень сложным образом, и существующего одновременно окружающего мира этих систем. Результат этого мы и называем оперативной замкнутостью.
Всю эту тему можно рассматривать и применительно к системам сознания, показывая, почему и как современная взаимная дистанцированность индивида и общества побуждает индивида к рефлексии, к вопросу о Я [его] Я, к поискам собственной идентичности. Все, что только было увидено, все, чем только был мир - все это «вовне». А что тогда «внутри»? Неопределимая пустота? А если применить теорию аутопойетических систем к обществу, то придешь к такому же результату, только в отношении другого способа оперирования, а именно коммуникации.
Общество есть коммуникативно закрытая система. Оно производит коммуникацию посредством коммуникации. Коммуницировать может только оно само - но не с самим собой и не со своим окружающим миром. Оно производит свое единство посредством оперативного совершения коммуникаций, рекурсивно обращенных к предыдущим и предвосхищающих последующие коммуникации. Затем, если оно основывается на схеме наблюдения «система и окружающий мир», коммуницировать в себе самом, о себе самом или о своем окружающем мире, но только не с самим собой и не со своим окружающим миром. Потому что ни оно само, ни его окружающий мир не могут еще раз появиться в обществе словно бы как партнеры, как адресаты коммуникации. Такая попытка увела бы в никуда, не привела бы в действие аутопойесис и потому не состоялась бы. Ибо общество возможно только как аутопойетическая система.
Эти констатации - сами по себе очевидные и не требующие дальнейших доказательств - влекут за собой очень серьезные теоретические последствия и поэтому нуждаются в дополнительном объяснении. Реальная возможность коммуникации основана, конечно, на множестве фактических предпосылок, которые сама система не может ни произвести, ни гарантировать. Закрытость всегда есть включенность* в нечто, что, если смотреть изнутри, находится вне. Иначе говоря, всякое возведение и сохранение границ системы (т. е., разумеется, и живых существ) предполагает материальный континуум, который не знает и не принимает в расчет эти границы. (Поэтому Пригожий уже применительно к физическим и химическим фактам может говорить о «диссипативных структурах»**). Тогда встает вопрос: как система (в нашем случае - общественная система) формирует свои отношения к окружающему миру, если она не может поддерживать контакт с ним. Вся теория общества зависит от ответа на этот вопрос - и мы теперь видим также, что (и каким образом) гуманистическое и регионалистское понятие общества избегало даже самой постановки этого вопроса.
* Игра слов: Geschlossenheit... Eingeschlossenheit.
** См., напр.: [3, 18, 56-58, 197-198].
На трудный вопрос отвечает трудное понятие. Вслед за Хумберто Матураной мы намерены говорить о «структурной стыковке»21. Это предполагает, что каждая аутопойетическая система совершает операции как структурно детерминированная система, т. е. может детерминировать свои операции только посредством собственных структур. Структурная стыковка, таким образом, исключает, что данности окружающего мира смогут специфицировать совершающееся в системе. Матурана сказал бы, что структурная стыковка расположена ортогонально к самодетерминации системы22.
21 См.: [32, 143 if., 150 ff., 243 f., 251 if.]. На трудность отграничения собственных операций системы от каузальных связей, которые через структурные привязки воздействуют на нее, указывают постоянно. См., напр.[15, 204]. Мы попытаемся разрешить эту проблему посредством как можно более точного определения понятия коммуникации.
22 См., напр.: [30, 64].
Структурная стыковка не определяет, что именно происходит в системе, но ее следует предполагать, потому что иначе аутопойесис был бы парализован и система перестала бы существовать. Поэтому система либо приспособлена к своему окружающему миру, либо она не существует, но в пределах, задаваемых ее приспособленностью, она имеет все возможности вести себя неприспособленно - а результат в особенности хорошо виден в экологических проблемах современного общества.
В этом смысле любая коммуникация привязана к сознанию. Без сознания коммуникация невозможна. Но сознание не есть ни «субъект» коммуникации, ни - в каком-либо ином смысле - «носитель» коммуникации. Поэтому нам придется отказаться и от классической метафоры, говорящей о коммуникации как «перенесении» семантических содержаний от одной психической системы, которая уже располагает ими, на другую23. Не человек, но только коммуникация может коммуницировать. Коммуникация образует эмерджентную реальность sui generis. Системы сознания, равно как и системы коммуникации (а равным образом - с другой стороны - и мозг, клетки и т. д.) суть оперативно закрытые системы, которые не могут поддерживать контакта между собой. Нет никаких коммуникаций от сознания к сознанию и нет коммуникации между индивидом и обществом. Всякое достаточно точное понимание коммуникации исключает такие возможности (а также и другую возможность: мыслить общество как коллективный дух). Только сознание может мыслить (но отнюдь не переносить свою мысль в иное сознание*), и только общество может коммуницировать. И в обоих случаях речь идет о собственных операциях оперативно закрытой, структурно детерминированной системы.
* В оригинале - непереводимое словообразование: «ineinanderesBewuB-tseinhinuberdenken», т. е. «думать за пределы себя в иное сознание».
23 Многие предпосылки, на которых основывается это понятие, ныне оспариваются даже когнитивной психологией, в частности, например, предположения, что коммуникация выражает в словах уже имеющиеся мысли, что слова функционируют в процессе переноса как носители определенного семантического содержания, что понимание - это обратный процесс перевода слов в мысли и что семантика, со всем тем, означает процесс репрезентации, как в психической системе, так и в коммуникации. См. об этом: [41]. Отсюда следует, что семантика должна пониматься, исходя из прагматики (т. е. аутопойесиса коммуникации), а не наоборот, как это общепринято.
Для понимания тем не менее существующей, совершенно регулярной, необходимой связи между сознанием и коммуникацией мы используем понятие структурной стыковки. Структурная стыковка функционирует всегда и незаметно, она существует даже тогда и именно тогда, когда о ней не думают и не говорят - так, как на прогулке могут сделать следующий шаг, не думая о физически необходимом для этого собственном весе. И подобно тому, как вес лишь в пределах очень малой части [всех] возможностей позволяет совершать прогулку (иными словами: подобно тому, как сила притяжения земли не могла бы стать ни чуть больше, ни чуть меньше), так и системы сознания и системы коммуникации заранее настроены друг на друга, что позволяет им затем функционировать, незаметно координируясь. Что дело обстоит именно так и что тем самым реализуется весьма малая часть множества возможностей, поддается (как и возможность совершать прогулку) эволюционно-теоретическому объяснению.
Это незаметное, бесшумное функционирование структурной стыковки коммуникации и сознания отнюдь не исключает того, что участников коммуникации идентифицируют и даже обращаются к ним в коммуникации. В этом аспекте мы присоединимся к старой традиции и будем называть их «лицами» [Personen], утверждая тем самым, что коммуникация в состоянии «персонифицировать» внешние референции. Каждая коммуникация должна быть способна различать информацию и сообщение (иначе она сама была бы неразличима). Но это значит, что образуются соответствующие предметные и личные референции. В понятиях Спенсера Брауна [17, 10] можно было бы сказать также, что повторное употребление таких референций конденсирует лица (или вещи), т. е. фиксирует их как идентичные, и одновременно подтверждает их, т. е. обогащает новыми смысловыми аспектами из других сообщений. Если это происходит, то развивается и соответствующая семантика. У лиц есть имена. Что именуется личным и как с этим следует обходиться, может быть в сложных формах описано более подробно. Но все это ничего не меняет в обособленности и оперативной закрытости структурно состыкованных систем. А современная семантика жизни, субъективности, индивидуальности особенно производит такое впечатление, как будто она была придумана, чтобы уравновесить эту неотменимую изолированность24.
24 См. об этом подробнее: [25].
Через структурную стыковку система может быть подсоединена к очень сложным системам окружающего мира, причем ей нет необходимости вырабатывать у себя или реконструировать их сложность. Сложность этих систем окружающего мира остается непрозрачной для системы, эта сложность не переносится в ее собственный способ совершения операций, потому что для этого нет, говоря словами Эшби, «необходимой изменчивости»25. По большей части, она реконструируется в ее собственных операциях лишь в форме предпосылки и помехи или нормальности и возбуждения. В системах коммуникации и такие совокупные обозначения, как имена, или такие понятия, как «человек», «лицо», «сознание», также служат для процессуальной референции к сложности окружающего мира. Речь все время идет о том, чтобы использовать упорядоченную (структурированную, но отнюдь не поддающуюся калькуляции) комплексность по мерке собственных возможностей совершения операций; применительно к обществу это означает: речевым образом. В том случае, если такие отношения развиваются через обоюдную коэволюцию и ни одна из систем, структурно стыкованных подобным образом, не могла бы существовать без них, можно говорить также о взаимопроникновении26. Хорошим примером этого является отношение нервных клеток и мозга; другой пример (близкий первому также и в чисто количественном отношении) - отношение систем сознания и общества.
Легко увидеть, что регулярная структурная стыковка систем сознания и систем коммуникации становится возможной благодаря языку. С точки зрения эволюции, язык представляет собой чрезвычайно невероятный род шума, который именно в силу этой невероятности обладает высокой ценностью для привлечения внимания и очень сложными возможностями спецификации. Если говорится*, то присутствующее при этом сознание легко может отличить такой шум от других шумов и едва ли способно избежать захватывающего очарования текущей коммуникации (что бы оно при этом ни думало в собственной неслышной системе).
25 См.: [9, 206 ff.; 7; 4].
26 См. об этом подробнее: [26, 286 ff.].
* Луман использует здесь безличный пассивный оборот: «gesprochen wind» - т.е. отличается, воспринимается как информация сам факт разговора, до идентификации его участников.
Одновременно специфицирующие возможности языка позволяют выстраивать очень сложные структуры коммуникации, т. в., с одной стороны, делают возможным усложнение и новую шлифовку речевых правил, а с другой, - построение социальных семантик для ситуативного реактиви-рования важных возможностей коммуникации. То же самое mutatis mutandis относится и к языку, перенесенному из акустической в оптическую среду, т. е. к письму. О крайне значительных, все еще недооцененных результатах такой «оптизации» языка мы еще скажем более подробно в следующей главе.
В контексте теории системы общества не целесообразно разрабатывать теорию языка, основанную на этой функции структурной стыковки (для этого пришлось бы сделать что-то несоразмерно обширного экскурса). Укажем только, что мы тем самым вступаем в противоречие с основными предпосылками соссюровой лингвистики: язык не совершает операции своим собственным способом, он сам должен совершаться либо как мышление, либо как коммуникация; а следовательно, язык не образует и своей собственной системы. Он всегда зависит от того, что, с одной стороны, системы сознания и, с другой, - система коммуникации общества продолжают свой аутопойесис посредством совершенно закрытых собственных операций. Если бы это не происходило, каждая система сразу бы прекратила свое существование, а вскоре вслед за тем не могла бы уже быть помыслена в языке.
Структурная стыковка через язык систем коммуникации с системами сознания, а также систем сознания с системами коммуникации, имеет весьма серьезные последствия для структурного построения соответствующих систем, т. е. для их морфогенеза, для их эволюции. Иначе, чем системы сознания, которые способны к чувственному восприятию, коммуникация может быть аффицирована только сознанием. Все, что влияет на общество извне, не будучи коммуникацией, должно поэтому пройти двойной фильтр: сознания и возможности коммуникации. Необходимо в полной мере уяснить себе, что здесь идет огромный и, с точки зрения эволюции, весьма невероятный процесс отбора, одновременно обусловливающий значительную степень свободы общественного развития. Физические, химические, биологические процессы непосредственно не достигают коммуникации - разве что в смысле ее деструкции. Грохот или лишение воздуха, или пространственная дистанция могут исключить возможность устной коммуникации. Книги могут сгорать или даже быть сожжены. Но огонь никогда не напишет книги и даже не сможет раздражить пишущего книгу настолько, чтобы он, пока книга горит, писал бы ее иначе, чем если бы огня не было. Таким образом, сознание занимает привилегированное положение среди всех внешних условий аутопойесиса. Оно известным образом контролирует доступ внешнего мира к коммуникации - но не потому, что является «субъектом» коммуникации, не как «лежащая в основании»* ее некая сущность, но благодаря своей способности к восприятию (в свою очередь, сильно отфильтрованному, самопроизведенному), которое, со своей стороны, в условиях структурной стыковки зависит от нейрофизиологических процессов мозга и, через них, - от других процессов аутопойесиса жизни.
* Имеется в виду греческое thypokeimenon*, т. е. «лежащее в основании», «подлежащее», что буквально и означает латинское tsubjectumt.
Прямая состыкованность систем коммуникации только с системами сознания, от избирательности которых они, таким образом, выигрывают, не будучи ими специфицированы, действует как панцирь, препятствующий, в основном, влиянию совокупной реальности мира на коммуникацию. Ни одна система не смогла бы быть достаточно сложной, чтобы выдержать это и тем не менее сохранить свой аутопойесис. Лишь благодаря такой защите смогла развиться система, реальность которой состоит в процессуальном оперировании с одними только «знаками». Здесь следует также принять во внимание, что число систем сознания очень велико; теперь их - около пяти миллиардов одновременно действующих единиц. Даже если учесть, что на другой стороне земного шара они в настоящий момент спят, а Другие не принимают участия ни в каких коммуникациях по иным причинам, то число одновременно совершающих операции систем все равно будет таким большим, что возможность эффективной координации между ними (а тем самым - и образование согласия в эмпирически ощутимом смысле) совершенно исключается. Поэтому система коммуникации необходимо основана лишь на себе самой и лишь сама собой может руководить. Она способна на это, поскольку ей удается активизировать в своем окружающем мире необходимый для этого материал сознания.
Наконец, понятием структурной стыковки объясняется и то, что хотя системы детерминированы только самими собою, но в общем и целом, они развиваются в определенном направлении, терпимом для окружающего мира. Внутреннюю, системную сторону структурной стыковки можно обозначить понятием раздражения (помехи, возмущения). В этом аспекте системы (и системы сознания, и система коммуникации общества) совершенно автономны. Раздражения являются результатом внутреннего сравнения событий (сначала неспецифированных) с собственными возможностями, прежде всего, со структурами, созданными в системе, с ожиданиями. Таким образом, в окружающем мире системы нет раздражений, нет и переноса раздражений из окружающего мира в систему. Речь всегда идет о собственном конструкте системы, о самораздражении, поводом к которому служат, конечно, воздействия окружающего мира. У системы есть возможность либо находить причину раздражения в себе самой и затем учиться на этом, либо же приписывать раздражение окружающему миру и рассматривать его затем как «случай», либо, наконец, искать источник раздражения в окружающем мире и элиминировать его. Эти различные возможности тоже заложены в совершаемом самой системой различении самореференции и инореференции; и если уж кто-то располагает возможностью для их различения, то можно также сменить перспективы и [по-другому] скомбинировать реакции. Так, например, можно идентифицировать причины [раздражения] в окружающем мире, но в то же время учиться.
Длительные раздражения определенного типа, например, постоянное раздражение маленького ребенка особенностями языка или раздражение основанного на сельском хозяйстве общества восприятием климатических условий, направляют структурное развитие в определенном направлении, ибо эти системы подвержены раздражениям, исходящим от весьма специфических источников, и они поэтому постоянно заняты сходными проблемами. Конечно, мы отнюдь не собираемся вернуться к теориям климата и культуры» XVIII в.; из наших рассуждений не следует также, что мы были бы готовы принять социологическую теорию социализации. Во всех этих случаях надо учитывать множество системных референций и работать с теоретическими моделями соответствующей сложности. Во всяком случае, окружающий мир лишь в условиях структурной стыковки и лишь в рамках канализированных и умноженных тем самым возможностей самораздражения способен влиять на структурное развитие систем.
Все это относится и к современному обществу. Но здесь еще добавляется то обстоятельство, что окружающий мир, со своей стороны, сильнее, чем когда-либо прежде, меняется под воздействием общества. Это касается физических, химических и биологических условий жизни, т. е. того комплекса, который обычно обозначают как «экологию». И то же самое - уж это точно! - касается деформации психических систем в современных условиях жизни, например, всего того, что пытаются выразить в понятии современного индивидуализма или при помощи теории растущих притязаний. Как в экологическом гиперцикле, сегодня структурные стыковки между системой общества и окружающим миром испытывают давление изменчивости, причем темп перемен столь высок, что невольно возникает вопрос: может ли (и если да, то как именно) раздражаемое таким образом общество, вынужденное вменять все эти перемены самому себе, учиться на этом достаточно быстро.
Оперативная закрытость дает нам, наконец, ключ к теории дифференциации систем, о которой более подробно будет сказано в гл. 4. Как бы ни выделяло в себе общество социальные системы через дифференциацию, поводом для этого всегда является бифуркация его собственных операций. Речь никогда не идет об отображении различений, которые уже имеются в окружающем мире. Только очень примитивные общества экспериментировали с опорой на такие антропологические данности, как пол и возраст, однако это оказалось эволюционным тупиком. Уже образование семей и сегментарная дифференциация [общества] ведут дальше. И если затем структурным различениям приписывается дискриминирующее значение (например: «крестьянин/кочевник», «горожанин/селянин»; в наше время таковы иногда расовые различия), то речь идет однозначно о социальных аспектах, обретающих весомость лишь в той мере, в какой они могут быть связаны с формами дифференциации системы. С точки зрения генезиса, речь идет лишь о собственных результатах системы коммуникации: отклонение [в ходе операций] бывает возбуждено, оно наблюдается, тестируется, отбрасывается или же усиливается и используется для подсоединения все большего числа [операций]. При этом воздействие оказывают также самореферентные и инореферентные компоненты. Поэтому дифференциация системы всегда приводит также к выдифферен-циации системы в смысле прерывания мельчайших совпадений компонентов системы и компонентов ее окружающего мира. И именно это прерывание делает для системы неизбежными попытки справиться с неким интерпретированным окружающим миром.
ЛИТЕРАТУРА
1.Аристотель. Политика/ Пер. С. А. Жебелева // Аристотель. Сочинения: В 4-ч т. Т. 4. М.: Мысль, 1984.
2.Башляр Г. Новый рационализм. М.: Прогресс, 1987.
3.Пригожий И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. М., 1986.
4.Эшби У. Р. Введение в кибернетику. М., 1959.
5.Эшби У. Р. Принципы самоорганизации // Принципы самоорганизации. М., 1966.
6.Alexander Ch. Notes on the Synthesis of Form. Cambridge Mass., 1964.
7.Ashby W. Ross. Requisite Variety and Its Implications for the Control of Complex Systems // Cybernetica. 1958. Vol. 1. P. 83-99.
8.Ashby W. R. Principles of the Self-Organizing System // Principles of Self-Organization / Foerster H.v., Zopf G. W. (Eds.) N.Y., 1962. P. 255-278.
9.Ashby W. Ross. An Introduction to Cybernetics. London, 1956.
10.Allan H. Disorder, Complexity and Meaning // Disorder and Order: Proceedings of the Stanford International Symposium / Livingstone P. (Ed.). Saratoga Cal., 1984. P. 109-128.
11.Allan H. Entre le cristal et la fume. Paris, 1979.
12.Allan H. L’emergence du nouveau et du sense // L’autoorganisation: De la physique au Politique / Dumouchel P., Dupuy J.-P. (Eds). Paris, 1983.
11.Bachelard G. La formation de 1’esprit scientifique: Contribution a une Psychoanalyse de la connaissance objective. Paris, 1947.
13.Barel Y. Le paradoxe et le systeme: Essai sur le fantastique social. 2-nde ed. Grenoble, 1989.
14.Braten S. Simulation and Self-Organization of Mind // Contemporary Philosophy. 1982. Vol. 2. P. 189-218
15.Bunge M. A Systems Concept of Society: Beyond Individualism and Holism // Theory and Decision. 1979. Vol. 10. P. 13-30;
16.Burger P. Prosa der Moderne. Frankfurt a.M., 1988.
17.Foerster H. V. On Self-organizing Systems and Their Enviroments // Self-organizing Systems: Proceedings on an Interdisciplinary Conference. / Ed. by Yovits M. C., Cameron S. Oxford, 1960. P. 31-50.
18.Giinther G. Life as poly-contexturality// Gunther G. Beitrage zur Grundlegung einer operationsfahigen Dialektik. Bd. 2. Hamburg, 1979. S. 283-306.
19.Hahn A. Verstandigung als Strategic II Kultur und Gesellschaft: Sozio-logentag Zurich 1988 / Haller M., Hoffmann-Nowotny H.-J., Zapf W. (Hrsg.) Frankfurt a.M, 1989. S. 346-359.
20.Hejl P. M. Sozialwissenschaft als Theorie selbstreferentieller Systeme. Frankfurt a.M., 1982.
21.Hejl P. M. Zum Begriff des Individuums - Bemerkungen zum unge-klarten Verhaltnis von Psychologic und Soziologie /’ Systeme erkennen Systeme / Hrsgg. v. Schiepek G. Munchen. 1987. S. 115-154.
22.Livet P. La fascination de 1’auto-organisation // L’auto-organisation: De la physique au politique / Paul Dumouchel. Jean-Pierre Dupuy (eds.) Paris, 1983’. P. 165-171.
23.Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissens-soziologie der modernen Gesellschaft. Bde. 1-4. Franfurt a.M.: Suhrkamp, 1980-81-89-95.).
24.Luhmann N. Individuum, Individualitat, Individualismus //’ Luhmann N. Gesellschafsstruktur und Semantik. Bd. 3. Frankfurt a.M., 1989. S. 149-258.
25.Luhmann N. Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M., 1984.
26.Luhmann N. Warum AGIL? /’ Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 1988. Jg. 40. Hft. 1. S. 127-139.
27.Luhmann N., Fuchs P. Reden und Schweigen. Frankfurt a.M., 1989.
28.Lоfgren L. Life as an Autolinguistic Phenomenon // Autopoiesis: A Theory of Living Organization / Ed. by M. Zeleny. N.Y, 1981. S. 236-249.
29.Maturana H. R. Reflexionen: Lernen oder ontogenetische Drift /V Delfm. 1983. VolII. S. 60-72.
30.Maturana H. R. and Varela F.J. Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living. Dordrecht etc. 1980.
31.Maturana H. R. Erkennen: Die Organisation und Verkorperung von Wirklichkeit. Braunschweig, 1982.
32.Maturana H. R. Erkennen: Die Organisation und Verkorperung von Wirklichkeit. Braunschweig, 1982.
33.Maturana H. R. Man and Society // Autopoiesis, Communication and Society / Ed. by. Benseler F., Hejl P.M.’. Kock. W.K. Frankfurt a.M., 1980 P. 11-13.
34.Maturana H. R. The Biological Foundations of Self Consciousness and the Physical Domain of Existence // Luhmann N. et al. Beobachter. Konvergenz der Erkenntnistheorien? Munchen, 1990.
35.Moore W. E. Global Sociology: The World as a Singular System ‘/ American Journal of Sociology. 1966. Vol. 71. P. 475^82.
36.MulkayM. The Word and the World: Explorations in the Form of Sociological Analysis. London, 1985.
37.Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge? / Ed. by J. Law. London, 1986.
38.Schwarz J. R. Die neuronalen Grundlagen der Wahrnehmung // Systeme erkennen Systeme / Hrsgg. v. Schiepek G. Munchen, 1987. S. 75-93.
39.Serres M. Der Parasit. Dt. Ubers. Frankfurt a.M., 1981.
40.Shannon B. Metaphors for Language and Communication // Revue in-ternationale de systemique. 1989. Vol. 3. P. 43-59.
41.Simon F. B. Unterschiede, die Unterschiede machen: Klinische Episte-mologie: Grundlage einer systemischen Psychiatrie und Psychosomatik. Berlin, 1988.
42.Spencer Brown G. Laws of Form. N.Y. 1979.
43.Tenbruck F. H. Emile Durkheim oder die Geburt der Gesellschaft aus dem Geist der Soziologie // Zeitschrift fur Soziologie. 1981. Jg. 10. Hft.3. S. 333-350.
44.Tenbrtick F. H. Geschichte und Gesellschaft. Berlin, 1986.
45.Weaver W. Science and Complexity // American Scientist. 1948. Vol. 36. S. 536-544.
46.Wilden A. System and Structure: Essays in Communication and Exchange. 2nd ed. London, 1980.
Герхард Вагнер. СОЦИОЛОГИЯ: К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ ДИСЦИПЛИНЫ
I
Утверждения о кризисе социологии входят в обычный репертуар фельетонистов. Не удивительно: ведь такой диагноз неоднократно ставили сами социологи. Наиболее известна в этом отношении, наверное, книга А. Гоулднера «Приближение кризиса западной социологии» [20]. Конечно, в большинстве случаев о кризисе высказываются риторически. Тем не менее, в самой социологии все заметнее становится отсутствие иллюзий по этому поводу. Если еще в середине восьмидесятых годов можно было говорить о штиле (см.: [5]), то уже в конце того же десятилетия обнаружилась необходимость поставить проблему намного радикальнее. Превратится ли социология когда-нибудь в нормальную науку? - ставит вопрос Р. Будон [3]. Р. Коллинз размышляет над тем, можно ли вообще требовать статуса научности для этой дисциплины [6; 6а]. Из-за подобной неуверенности в себе многие социологи были «в исключительной степени подвержены резиньяции и фрустрации» [75, 128]. Понятно, что в 90-е гг. ситуация вновь обострилась. П. Бергер поставил вопрос весьма решительно: «Имеет ли еще смысл социология?» [1]. Это означало, что теперь кризис социологии не просто воспринимается как присущий ей по природе и потому целительный для нее, но что она уже как бы подошла к концу всех своих кризисов. И если в такой форме вопрос все еще мог звучать конструктивно, то Р. Сеннет (что примечательно: в газетной статье) ответил на него весьма категорично, оплакав всего-навсего «конец социологии» [66].
Не обязательно объявлять наш век «веком социологии» [4, 242], чтобы противодействовать этому апокалиптическому настроению. Куда более плодотворно выяснение причин столь удручающего состояния дисциплины, стоит поискать также адекватные средства для борьбы со злом. При этом, вне всякого сомнения, нельзя объяснять кризис монокаузально, т. е. указывая лишь на одну его причину. Поскольку в узких рамках настоящей статьи все причины учесть нельзя, нам приходится ограничиться только некоторыми. На одну из них предлагает обратить внимание Н. Луман. Как известно, во Введении к своей книге «Социальные системы. Очерк общей теории» Луман выносит следующий вердикт: Социология находится в состоянии «теоретического кризиса» (см.: [42, 7]). Правда, продолжает он, в целом, ее действительно успешные эмпирические исследования умножили наши знания, однако до сих пор в рамках социологии не удалось сформулировать «единую для всей специальности теорию» [42, 7]. Итак, одна из причин продолжающегося кризиса - отсутствие единой теории. Ведь без этого социология «не может обосновать своего собственного единства как научной дисциплины. И резиньяция заходит настолько далеко, что никто уже и не пытается ничего предпринять» [42, 7]. Объяснения Лумана вполне очевидны - достаточно бросить взгляд на современный теоретический дискурс в социологии, чтобы обнаружить его, мягко говоря, необозримость. Множество существующих точек зрения в теоретической социологии стало уже почти безграничным. Кроме того, они еще и весьма различаются по уровню абстрактности и сложности понятийного аппарата, так что уже почти не укладываются в привычные рамки. Ввиду такого теоретического разнообразия, попытка обосновать единство дисциплины представляется в данный момент бесперспективной. В глазах Лумана, эту ситуацию усугубляет еще и то, что плюралистическое понимание науки позволяет каждому «согласовывать свои понятия лишь со своими теоретическими интенциями, признавая за другими только свободу делать то же самое, но по-своему» [52, 390]. Помимо этого, в таких условиях постмодерна сюда добавляется еще инфляция истины как значимого для науки средства коммуникации, так как каждая теория, ориентированная на «anythinggoes»*, может формулировать свои собственные критерии истины [52, 181 ff., 238 ff.].
* Все сойдет (англ.).
Однако, если «построить каждому проповеднику по кафедре» [52, 390], то для социологии это будет иметь катастрофические последствия: ее «множественные парадигматазы»* [40, 50] обязательно приведут к разложению [34].
* Иронический неологизм, возможно, требующий пояснения: парадигмы множатся как метастазы опухоли.
Если принять поставленный Лумелом диагноз и согласиться с тем, что отсутствие единой теории является одной из причин кризиса социологии, то внимание далее как бы само собой обращается на его собственную позицию. Действительно, не считая концепции X. Эссера, который намеревается основать социологию в методологическом измерении как объяснительную науку [7], в настоящее время Луман является единственным социологом, который не просто критически высказывается об отсутствии единой теории, но и систематически работает над созданием таковой. Его труды по социологии, основанной на теории систем, особенно публикации последних двух десятилетий, представляют собой попытку «на которую со времени Парсонса более никто не решался» [42, 10]: посредством единой теории содействовать обоснованию единства социологии как научной дисциплины. Вот почему оправдано то внимание, которое уделяется работам Лумана на международном уровне. В Германии же, как формулирует П. Вайнгарт, социология «должна быть всецело либо «за», либо «против» Лумана» [74, 254]. Как бы там ни было, несмотря на всю его популярность, при изучении Лумана рекомендуется осторожность. Существуют серьезные основания предполагать, что его единая социологическая теория, служащая обоснованием единства социологии, мало что может дать этой дисциплине.
Согласно Луману, если следовать критериям теоретического плюрализма, то, в принципе, любая позиция может претендовать на статус единой теории, которая может обосновать единство нашей дисциплины. Чтобы противостоять разложению социологии, с необходимостью следующему из такой позиции, Луман делает ставку на разработку «супертеории», с которой могут быть связаны «притязания на универсальность» [38, 17]. Однако, вырабатывая «универсальную теорию» [42,10] Луман впадает в другую крайность. С первого захода он пытается осуществить жесткую «программу элиминирования» [38, 16], сводя все существующие позиции к одной единственной - установке своей супертеории. Правда, с течение времени Лумансам обнаруживает, что такая «стратегия тотализации» [38, 18] ведет к фатальному тоталитаризму: «Плюрализм, - пишет он, - делает болтливым. Но тоталитаризм делает немым» [52, 390]. Нацеливаясь на создание супертеории, Луман предпринимает второй заход, однако его последствия оказываются не менее фатальными. Во второй половине 80-х гг. он все более интенсивно усваивает теоремы внесоциологиче-ского происхождения, но в силу этого его позиция всего-навсего утрачивает научность. То, что в настоящее время Луман выставляет в качестве супертеории, очень близко «антисоциологии», которую в 70-е годы X. Шельски противопоставлял социологической дисциплине. Это отнюдь не служит ей добрую службу. Я же в рамках предлагаемой статьи намерен подвергнуть критике супертеоретические амбиции Лумана, а также предложить некоторые альтернативы того, как можно мыслить единство дисциплины.
II
Согласно Луману, для обоснования единства социологии необходима единая теория, имеющая характер супертеории. Только супертеория способна противостоять инфляционной тенденции «anythinggoes», предлагая приемлемую для всей дисциплины альтернативу. Представление о том, что «господствует плюрализм, в смысле множества конкурирующих несопоставимых теоретических ориентации» [38, 17f.], в конечном счете, производит столько же конкурирующих, несопоставимых обоснований единства, сколько существует теоретических ориентации. В то же время супертеория открывает возможность обоснования единства с учетом всех теорий, представленных в дискурсе. Итак, это обоснование единства не должно повлечь за собой догмати-зацию социологии. Луман подчеркивает, что при разработке супертеории речь отнюдь не идет о «консолидации всей специальности внутри одной «парадигмы» [38, 98]. Требование, чтобы социология как научная дисциплина представляла собой «когерентное целое, в котором бы в силу причин теоретического и эмпирического характера каждое исследование и каждая публикация вели к накоплению знания» [38, 17], - это требование, по мнению Лумана, ошибочно. Напротив, супертеория обещает обосновать единство таким образом, что при этом будет учитываться многообразие теоретического дискурса. Поскольку супертеория акцентирует существующие между теориями различия, она пытается «реализовать и то, и другое: единство и различие» [38, 18].
Ввиду огромности такой задачи нельзя не задать вопрос: как может быть разработана супертеория? Ее явно невозможно сконструировать exnovo* - вот почему Луман стоит за то, чтобы вычленить такую теорию из состава одной из тех нормальных теорий, которые представлены в дискурсе.
* Заново (лат.).
Хотя, в принципе, Луман готов признать что каждая нормальная теория имеет шанс выступить в качестве супертеории, сам он без колебаний решает дело в пользу своей системно-теоретической социологии. Последняя кажется ему наиболее пригодной для реализации в равной мере единства и различия: «Это может получиться, если в рамках собственной теории удастся найти подобающее место для противника» [38,18]. Согласно Луману, такая конструкция осуществляется благодаря «стратегиям тотализации»; по этой причине он рассматривает свою системно-теоретическую социологию и как «тотализирующую теорию» [38, 18]. Стратегии тотализации могут быть историзирующими либо же проблемно ориентированными. Историзирующая тота-лизация предполагает, что противник «принадлежит к более ранней эпохе в социокультурном развитии, и, таким образом, уже устарел». Проблемно ориентированное тотали-зирование переформулирует «осознание проблемы противником, заново проблематизирует его теорию и подсовывает ему при этом в качестве основной ту проблему, которую, как затем оказывается, лучше может решить собственная теория тотализирующего критика» [38, 19 Г.].
То, что «в аспекте конкурирующих предложений [на рынке] теорий» [38, 17] принимаемые в расчет историзиру-ющие и проблемно ориентированные тотализации не обязательно исключают друг друга [38, 21], Луман вновь и вновь ясно показывает на примере трудов Ю. Хабермаса. Теория Хабермаса, утверждает Луман, столь сильно зависит от староевропейского проекта модерна, что в ней выяснение проблемы коммуникации перекрывается вопросами об основаниях разумного согласия, вместо того чтобы вести к столь же современной, сколь и убедительной теории аутопойесиса [41]. Обращение Лумана к анализу теории коммуникативного действия иллюстрирует понимание им стратегий тота-лизации. Но его аргументы столь же недвусмысленно демонстрируют, что стратегии именно такого рода неспособны отвести другим теориям подобающее место в рамках тотализирующей теории, делая возможной реализацию и единства, и различия обеих позиций. Как формулирует сам Луман, его тотализирующая теория скорее ориантиро-вана на «включение в свой состав [концепции] противника, чтобы вместе с ним принимать решение против него»* [38, 23]. С этой точки зрения (на что, впрочем, указывает уже само использование понятия «противник») представляется вполне последовательным понимание Луманом отношения между его собственной тотализирующей теорией и теорией, которую он включает в свою, как «противоречия» [38,18]. Однако, поскольку Луман все-таки рассматривает включаемую теорию как «отрицание» [38,18] своей тотализирующей теории, которая, в свою очередь, посредством отрицания этой оппонирующей теории должна преобразоваться в супертеорию, он тем самым выступает за такое понимание единства, которое венчается полной элиминацией различия.
* Почти непереводимая игра слов: «Einbeziehung des Gegners, urn sich an «hm gegen ihn zu entscheiden».
Правда, сам Луман утверждает, что он не следует «принципу диалектического отрицания» [38, 23], а предпочитает (ссылаясь на Витгенштейна) говорить о пустых отрицаниях, а также вводит понятие «ограниченности» [Limitationalitat] [38, 14 ff.]. Но, как показывает один из исследователей, рассуждения Лумана на этот счет «достаточно темны» [73, 270]. Можно говорить, что в них имеется какой-то вполне понятный смысл, только если интерпретировать их на фоне гегелевской философии. Как бы ни пытался Луман отмежеваться в этом контексте от Гегеля, влияние последнего неоспоримо (см.: [73, 268]). А если принять это во внимание, то станет ясно, что Луман, включая другую теорию в рамки своей тотализирующей теории, способствует производству той связи, которую Гегель называл «рефлексией в себе» [32, 60 ]. В другом месте я показал, что эта внутренняя рефлексия, в отличие от внешней, или субъективной, указывает на объективный, совершающийся независимо от субъекта процесс (см.: [71, 281 f.]). «Уже сам термин «внутренняя рефлексия» указывает на имманентность движения, поскольку «рефлексия» предполагает отгибание, отклонение назад, отражение, а «в себе» означает тот факт, что отражение направлено на самое себя и, таким образом, пребывает внутри объекта» [19, 137]. Фактически эта взаимосвязь позволяет определить одну из двух «противоположных величин [как] ...лежащее в основании сущее в себе единство* [32, 60 ]. Между тем, издержки для обоснования единства дисциплины, которые возникают из этой гегелевской «рефлексии» [38, 10] весьма велики. Поскольку тота-лизирующая теория включает в свой состав другую теорию, чтобы вместе с нею принимать решение против нее, она, конечно, способна «рефлектировать» лежащее в основании обеих теорий единство [38, 10]. Но эта рефлексия исчерпывается тем, что «формулирует тождество в нетождественности собственной и противной позиций» [38, 20].
Такого рода элиминация различия несет на себе тоталитарные черты, что идет отнюдь не на пользу включаемой теории. Это явствует из того, что тотализирующая теория берется как гарант тождества. Луман понимает отношение обеих теорий строго асимметрично. Включаемая теория в ее инаковости сперва вообще не принимается во внимание. По существу, ей вообще не дают слова. Реконструируя другую теорию «при помощи собственных понятий» [38, 18], тотализирующая теория полагает ее с самого начала как иное самой себя. Легко увидеть, что такого рода реконструкция имплицирует «деструкцию уже имеющегося понимания понятий» [21, 253]. Тем самым поощряется постоянное включение противоположных теорий в одну - тотализирующую, а этот процесс находит свое завершение в той догматизации дисциплины, которой Луман изначально хотел избежать. Системно-теоретическая социология была однажды выведена на этот курс и теперь, ориентируясь в своем понимании единства на логику тождества Гегеля, она жаждет консолидировать в рамках своей парадигмы всю социологию. От Лумана, конечно, не укрылось, что тем самым дьявол плюрализма теорий изгоняется Вельзевулом империализма теории. Луману ясны и последствия его тотализаций: «Нельзя оспорить, таким образом, что и империализм теории и, в особенности, притязания «тотализирующих» теорий на исключительную значимость представляют собой опасность - в противоположность инфляции, опасность дефляции истины как средства коммуникации» [52, 390]. И Луман вполне последователен, когда меняет стратегию, чтобы сделать новый заход и превратить свою системно-теоретическую социологию в супертеорию, которая реализовала бы в равной мере и единство, и различие.
Если присмотреться к публикациям Н. Лумана конца 80-х - 90-х годов, то окажется, что это изменение отнюдь не радикально. Ибо Луман и теперь, как и прежде, остается многим обязан философии Гегеля. Если, предпринимая свой первый заход, он воспользовался гегелевским понятием внутренней рефлексии, то теперь он опирается на его понятие внешней рефлексии. Отграничивая свою системно-теоретическую социологию от других социологических теорий, он пытается не только предотвратить уничтожающую различия тотализацию, но и обрести такую позицию, с которой единство дисциплины могло бы быть обосновано как бы извне. Чтобы с самого начала не дать упрекнуть себя в «староевропеизме», Луман и здесь избегает прямых ссылок на Гегеля. Вместо этого он указывает на работы философа Г. Гюнтера, который долгие годы был сотрудником руководимой X. фон Ферстером Biological Computer Laboratory*, т. е. (можно считать) находился на переднем крае науки. Лума-ну, конечно, известно, что в публикациях Гюнтера (его «главного свидетеля»), выступающего как кибернетик, речь все-таки идет о переформулировании философии Гегеля [44, 37]. В одном автобиографическом тексте сам Гюнтер как раз и подчеркивает, что для него после более чем сорокалетних занятий философией Гегеля «стало почти невозможно разделить, что в его теории принадлежит Гегелю, а что - ему самому» [27, 10]. Как бы там ни было, но то, что Луман перенимает у Гегеля понятие внешней рефлексии в том виде, какой придал ему Гюнтер, имеет катастрофические последствия для замысла супертеории.
* Биологической компьютерной лаборатории.
Концепция Гюнтера - это обширный проект, попытка ответить на «вопрос о сущности субъективности» [25, 17]. В такой постановке вопроса Гюнтер усматривает проблематику, над которой уже две тысячи лет безуспешно бьется западное мышление. Классическая логика показывает, что в онтологической картине мира, сформированной преимущественно Аристотелем, у субъекта нет достойной упоминания функции. «Философская предпосылка классической логики заключается в том, что онтологические основы мира могут быть изображены как чисто объективные структуры. Сам субъект есть нечто потустороннее, пребывающее вне всякого логического анализа» [25, 68]. В этой ситуации, продолжающейся со времен античности, ничего не смогло изменить даже современное мышление «в его развитии от Декарта до Лейбница и Канта» [25, 17]. Правда, вопрос о сущности субъективности ставился со всей решительностью, однако ответ на него оказывался совершенно неплодотворным, поскольку субъект обосновывался «трансценден-тально-метафизически», что послужило еще более отчетливому его пониманию как «потустороннего». Крах попыток трансцендентальной философии найти для субъекта в классической логике «могущее быть обозначенным место», продолжает Гюнтер, с полной очевидностью показывает несовместимость представления об «экстрамунданной интросценденции»* с онтологической картиной мира [25, 18 f.].
* Это можно интерпретировать примерно, как «вхождение-в-себя вне мира».
Имея в виду обрисованную ситуацию, Гюнтер выступает за ревизию онтологической картины мира. Чтобы постигнуть сущность субъективности, говорит он, требуется освободиться от оков классической логики вообще. Речь идет о том, чтобы выработать так называемую трансклассическую логику, которая должна иметь неаристотелевский характер, поскольку будет не двузначной, но как минимум трехзначной [23]. Для Гюнтера несомненно, «что весь мир, пока в нем абстрагируются от всякой субъективности и воспринимают его как чисто объективную связь, является строго двузначным. Для всех целей описания объекта, совершенно оторванного от субъекта, вполне достаточно двузначной логики» [25, 85 f.]. Но если хотят принимать в расчет субъективность, тогда, по его мнению, требуется расширение классической логики минимум на одно значение. Первые попытки «перехода от классической к неклансклассической логике» можно, считает Гюнтер, обнаружить в диалектике Гегеля [24, 92].
Для нас здесь не так важно то, что философы и логики испытывают большие сомнения в связи с такой интерпретацией Гегеля Гюнтером (см.: [65; 36]). Во всяком случае, рассуждения Гюнтера приемлемы постольку, поскольку гегелевское понятие внутренней рефлексии можно приписать онтологической картине мира, а за гегелевским понятием внешней рефлексии можно предположить такую форму субъективности, которая не обязательно должна быть сразу же интерпретирована как нечто «потустороннее». В отличие от трансцендентальной философии Гюнтер действительно заинтересован в том, чтобы понять субъективность как факт «эмпирического мира» [25, 69].
Гюнтер убежден, что субъективность может проявляться только как «поведение» [26, 102]. И если, желая подробнее охарактеризовать это поведение, Гюнтер ссылается на слова «Царство Мое не от мира сего» (Ин, 18, 36), то заинтересован он отнюдь не в христианском благовествовании, но в том отвержении [мира], которое в них выражается [26, 102]. Ибо Гюнтер вообще не может «понимать под субъективностью ничего иного кроме функции, в которой тотальная двузначность объективного вокруг нас, а тем самым и весь мир отвегаются как бытие мира» [25, 86]. Вследствие этого в трансклассической логике отвержение тоже должно «выступать как функтор, который описывает поведение субъективности и которому еще нет места в классической логике» [26, 102]. Тогда как в классической логике даже там, «где вообще возможен выбор», должно быть «принято одно значение из предлагаемых вариантов», трансклассическая логика отличается возможностью «отвергать некоторую альтернативу значений в целом» [26, 102]. Такое «отвержение или отклонение» [26, 103] требует, правда, введения третьего значения, «не включенного в данную двузначную систему» [25, 85]. В отличие от классической логики, которая располагает лишь двумя «значениями приятия», трансклассическая нуждается в дополнительном значении отклонения: «значение отклонения - это индекс субъективности в трансклассическом исчислении» [26, 102 f].
Гюнтер считает, что отвержение - это и есть сущность субъективности, причем он, конечно, оговаривает, что эта Дефиниция в высшей степени скудна [25, 86]. Тем не менее, она все-таки способна дать основу для внешней рефлексии.
В одной из новейших публикаций, посвященных философии и логике Гюнтера, отмечается, что гюнтеровский принцип «отрыва» от альтернативы значений вполне достаточен для того, чтобы рассматривать «два противоположных значения как единство» [35, 51]. Кроме того, следует предположить, что именно эта скудость дефиниции позволяет философии Гюнтера подсоединиться к современным кибернетическим дискуссиям. Ведь Гюнтер не ограничивает субъективность антропоморфными представлениями: «Если формулировать это не вместе с Гегелем, но кибернетически, тогда следует сказать, что в нашем эмпирическом универсуме в определенных местах формируются структурные образования совершенно исключительной сложности, способные создавать для себя отображение своего окружения и рефлективровать это окружение весьма специфическим образом» [25, 69]. Это позволяет понять притягательность философии Гюнтера для лумановского проекта супертеории. Хотя Луман относится к работам Гюнтера не без скепсиса [44, 38], однако он все-таки ориентируется на трансклассическую логику последнего, чтобы открыть позицию внешней рефлексии для своей супертеории.
IV
О постоянном интересе Лумана к гюнтеровскому понятию отклонения неопровержимо свидетельствуют его работы последних лет (см.: [45, 86 ff.; 52, 94, 301 f, 579, 663, 666]). Луман применяет это понятие не только в предметном измерении своей системно-теоретической социологии, но и в ее социальном измерении, т. е. в отношении к другим теориям. В этом последнем измерении Луман тоже «вместе с Г. Гюнтером» исходит из «различения позитивного и негативного значения», дабы подвергнуть эту «форму» «отклонению» [51, 17]. Так он последовательно редуцирует все многообразие теоретического дискурса в социологии к двум противоположным традициям. Чтобы придать форму дисциплине, он проводит различие между «позитивной социологией» и «критической социологией» [53, 257]. Первая задается вопросом: «Что происходит?», а вторая - вопросом: "Что за этим кроется?" [53, 257]. На примере «выдающихся теорий» К. Маркса и Э. Дюркгейма, по мнению Лумана, можно показать, что с самого начала упрочения позиции социологии в университетах она «подходила к своему предмету с двумя установками: позитивистской и критической» [53, 245]. Однако именно из-за того, что в социологии «делается попытка давать ответ на два совершенно различных вопроса», не прекращаются, считает Лу-ман, и проблемы, связанные «с сохранением единства специальности. Иногда, например, в 60-е гг., из этого различия вытекают такие споры, которые грозят вообще взорвать всю дисциплину» [53, 245].
Проблему нельзя разрешить и ситуацию нельзя исправить ни «конструктивистской деконструкцией позитивистской методики», ни «критикой критической социологии» [53, 257] - это для Лумана дело решенное. Когда нет строгости в понятиях, теории, принадлежащие к обеим традициям (и без того слабо разработанные), вряд ли могут считаться перспективными кандидатами на обоснование единства дисциплины [46, 298]. О том, что «принятие» предлагаемой обеими социологиями теоретической альтернативы даже не рассматривается Луманом [48,17], свидетельствует его обильная, демонстративная риторика «насмешливого превосходства» [2, 237]. Так как возможности «классической социологии», по его мнению, исчерпаны, Луман последовательно делает ставку на ее отвержение [49, 277]. Вместо того чтобы ввязываться в «совершенно бессмысленные споры», заполонившие дисциплину, Луман предпочитает противопоставить обеим социологиям третью [46, 292]. Таким образом, социология, основанная на теории систем, противопоставляется позитивной и критической социологии. Ее функция, а следовательно, и логическое значение состоит в отклонении. Для преобразования своей концепции в супертеорию Луман берется «показать те открытия и новые понятия», которые возникли в «обширнейшей сфере теории систем» и «перенести их на область социологии» [46, 292]. При этом более всего он интересуется так называемой кибернетикой второго порядка, потому что она кажется ему принципиально совместимой с понятием отклонения: «Лишь благодаря наблюдению наблюдения «субъект» дистанцируется от мира и обретает способность рефлексии» [50, 150]. Как бы там ни было, но именно при помощи этих внесоциологических теорем Луман надеется открыть Дисциплине одну из тех «горячих клеток рефлексии, которые, правда, не суть целое, однако рефлектируют целое как различие» [53, 251].
Результат этих усилий Лумана, несомненно, впечатляет своей сложностью. Однако велика и цена, которую ему приходится платить за свою попытку обосновать единство дисциплины как отклонение господствующи теоретической альтернативы. Ни для кого не секрет, что сама по себе рецепция понятий теории систем возбуждает много проблем. Результаты исследований Biological Computer Laboratory небезосновательно «весьма сдержанно ...воспринимаются серьезными естественниками» [7, 534]. Трудности, которые влечет за собой, например, перенос [на социальные явления] понятия аутопойесиса, конечно, еще не так велики по сравнению с теми, которые вытекают из ориентации Лумана на трансклассическую логику Гюнтера. Правда, супертеория Лумана, благодаря отклонению позитивной и критической социологии, оказывается в состоянии занять "позицию, противоположную anything goes" и позволяющую обосновать единство дисциплины [53, 258]. Однако и это новое обоснование влечет за собой тоталитаризм. Как подчеркивается в уже упомянутом выше исследовании, именно отвержение должно пониматься «как новая форма отрицания» [35, 52] (ср. также: [18, 727]). Опираясь на трансклассическую логику Гюнтера, Луман в известной мере усиливает ориентированное на отрицание мышление Гегеля. Если угодно, гегелевский антитезис первого порядка заменяется антитезисом второго порядка, благодаря чему, правда, меняется форма противоположности, посредством которой системно-теоретическая социология Лумана противопоставляет себя другим теориям, однако фундаментальный логический тоталитаризм остается неизменным.
Это не значит, конечно, что нет разницы между тоталитаризмом первой и второй фаз. Тогда как первый только приводит к дефляции истины как средства коммуникации, второй понуждает к коммуникации такого рода, которая вообще избегает истины как средства. Фактически в конце 80-х - начале 90-х гг. [использование] фигуры отклонения лишает супертеорию Лумана научности. Какие бы формулировки для обоснования единства дисциплины ни предлагались в качестве третьей социологии, супертеория не может сопрягать с ними претензию на истинность. Ибо «истинность в конечном счете имплицирует двузначность» [24, 93]. Если в классической логике исходят из того, «что дело идет лишь о высказываниях, которые либо истинны, либо ложны» [36, 125], то в область трансклассической логики удается проникнуть лишь «абстрагируясь от значений «истинное» и «ложное»» [35, 57]. Для социального измерения социологических теорий (именно Луман оформил его как таковое) это означает, что лишь теории позитивной и критической социологии могут быть поняты как носители значений «истинное» и «ложное». Когда речь идет о двух социологиях, то имеются в виду противоположные позиции, а потому высказывания одной из них всегда должны быть истинны, если высказывания другой ложны. Конечно, третья социология, которая отграничивает себя от этих двух, могла бы во всяком случае занять позицию безразличия. Однако Луман вообще отвергает предлагаемую двумя социологиями альтернативу значений «истинное/ ложное». Не принимая их высказываний, он готов принять «разрыв с традицией - имея при этом в виду ограничения, налагаемые (двузначной) логикой истинности» [53, 257]. Тем не менее, основанная на теории систем социология Лумана также и впредь претендует на истинность. Социология, говорит Луман, лишь «как наука» имеет «фундамент для работы». «Трагическая ситуация Хельмута Шельски» показывает, что «в качестве антисоциолога он не сумел найти подходящей формы для своих публикаций» [53, 252]; вот почему Шельски «сознательно» занялся «политической полемикой, выходя за пределы ограничений, характерных именно для науки» [43, 2]. Эта оценка, безусловно, верна. Но столь же верно и то, что Шельски инсценировал свою антисоциологию как отвержение. Шельски - в течение долгих лет близкий друг и покровитель Гюнтера - (см. хотя бы: [28; 29; 60; 61, 73 ff; 44, 90, 101, 274 f, 292 f, 429 f, 446 f, 468 ff; 35, 8 ff; 50, 151]) в своей книге «Локализация немецкой социологии» противопоставлял эмпирическую науку о функциях социально-философской истолковывающей науке. Он рассчитывал при этом обрести такую позицию, с которой «можно будет критически дистанцироваться от «всей социологии»» [64, 87]. Правда, эту позицию, которую он называл «рефлектирующей субъективностью» [61, 105], Шельски намеревался специфицировать при помощи научных средств. Однако, не считая принципиально важных исследований по социологии права, так называемая «трансцендентальная теория общества» так и осталась у Шельски на уровне программных положений (см.: [72, 8 ff]). В результате, как заметил Дарендорф, вместо заявленной теории получилось «полемическое развитие [идеи о] своем собственном месте внутри немецкой социологии как о третьей возможности понимать социологию» [8, 129]. Это развитие завершилось в 70-е гг. бранью по адресу интеллектуалов, которая была представлена как «антисоциология» - не умея определить своих собственных научных основ, «антисоциология» именно поэтому аттестовала социологию как ненаучную [63, 255].
V
Шельски, однако, отнюдь не воспринимал свою ситуацию как трагическую - об этом ясно свидетельствует его оценка последней фазы своего творчества, которую он вполне последовательно квалифицировал как политическую беллетристику [64, 100]. Трагичен как раз случай Лумана. Резко различая позитивную социологию и критическую, он не просто имитирует сделанное Шельски противопоставление Кельнской школы Р. Кёнига, ориентированной на Дюркгейма, и Франкфуртской школы Т. В. Адорно, ориентированной на К. Маркса (см.: [59, 26 ff]). Мало того. Отвергая обе позиции, Луман также повторяет исход Шельски из «научного дискурса» [43, 2]. Фактически он время от времени использует форму публикаций, напоминающую о XVIII в., когда была разработана парадоксальная техника: «формулировать предложение так, чтобы не дать ему исполнить свою цель - означать что-либо для других предложений» [39, 145]. Правда, Луман все-таки не хочет, как в свое время Шельски, «выйти из игры» - в область политики [51, 173]. Он претендует на научность своей автопоэзии. Но, конечно, с вопросом об «истинности» или «ложности» это больше никак не связано. Может быть, на этом фоне станут объяснимыми те трудности в понимании, с которыми сталкиваются в научной среде лумановские публикации последних лет. Не случайно, во всяком случае, уже обнаружилась возможность рассматривать теорию Лумана с эстетической точки зрения [67; 33]. Как бы там ни было, но и к моменту завершения системно-теоретической социологии перед нашей дисциплиной по-прежнему остро стоит вопрос: как должна выглядеть единая теория, с помощью которой, не впадая в произвольность anything goes, можно было бы нетоталитарным образом обосновать ее единство.
Я полагаю, что ответ на этот вопрос возможно отыскать только на пути преодоления Гегеля. Если Луман сначала обращается к Гегелю, а затем еще пытается перекрыть его Гюнтером, то я предлагаю вообще покинуть сферу антитетического мышления. В философии известно несколько попыток критики Гегеля конструктивным (с точки зрения наших целей) способом. Совсем не обязательно при этом обращаться к текстам постмодернистов, скажем, Жака Дер-рида. Я предлагаю то, что лежит совсем рядом. Давайте бросим взгляд на работы неокантианца Г. Риккерта. Конечно, Риккерт достаточно известен социологам как философский поручитель М. Вебера. Но у нас речь не пойдет о его философии ценностей - потому хотя бы, что она постоянно подпитывает теологическое мышление (см.: [69, 108 ff, 122 ff; 70, 200 ff]). Куда более интересны те работы Риккерта, в которых он, в противоположность Гегелю, развивает так называемый гетеротетический принцип: «Гегель брал преднаходимую в самом мышлении двойственность как антитетику; антитезис при этом находится в явной противоположности к тезису, то есть является отрицанием последнего. Место гегелевской антитетики у Риккерта занимает гетеротетический принцип мышления, когда, полагая единое, одновременно полагают и иное. Отношение между двумя этими моментами не есть отношение взаимного исключения, но отношение дополняющей сопряженности в целом синтеза» [16, 13].
Фактически для Риккерта дело состоит в том, чтобы указать на приоритет инаковости перед отрицанием. Он утверждает: «Инаковостъ логически предшествует отрицанию* [57, 20]. Правда, он соглашается с Гегелем в том, что в основе всякого мышления лежит двойственность единого и иного. Однако, в противоположность Гегелю, он подчеркивает, что иное отнюдь не может пониматься просто как отрицание единого. Было бы заблуждением считать, «будто достаточно простого отрицания «не» или подлинно уничтожающего «нет», чтобы иное возникло или было выведено из единого. Такой чудодейственной силы у отрицания как простого «нет» (или уничтожения) никогда не было... Если мы будем мыслить иное единого как не-единое и, тем не менее, некоторым образом позитивно как некое иное, то мы будем постоянно добавлять к отрицанию, которое снимает единое, еще нечто, что происходит не из отрицания. Отрицание делает из нечто только не-нечто или ничто. Оно заставляет предмет вообще, так сказать, исчезнуть» [57, 20]. По Риккерту, «отрицание в качестве только отрицания еще не означает ничего, что хотя бы на малейший шаг продвигало бы нас дальше в том, как мы мыслим мир. Только если мы окажемся в состоянии поставить на место подвергнутого отрицанию позитивное иное, мы продвинемся вперед» [58, 46]. А поскольку, как Риккерт показывает на примере формы и содержания мышления, «уже с первого же своего шага» мышление должно удерживать в наличии « «сразу же» и единое, и иное» [57, 22], то нельзя обойтись без замены гегелевского противопоставления тезиса и антитезиса различением тезиса и гетеротезиса.
Риккерт при этом подчеркивает, что его гетерологию не следует понимать в духе субъективного конструктивизма: «Логически мы мыслим только тогда, когда обнаруживаем нечто такое, что имеется как предмет независимо от нашего мышления. Постепенное развитие нашей идеи предмета не означает развития предмета, но имеет только смысл постепенного уяснения в понятиях того предметного, что уже существовало до начала» (см.: [57, 10], ср.: [16, 14 f]. Придав риккертовской критике Гегеля объективистский оборот, можно будет сформулировать это так: «...иное в точности настолько же «позитивно», насколько «позитивно» и единое; избегая, если угодно, этого выражения, скажем: иное первичным, или изначальным образом находится подле единого» [57, 20]. Итак, поскольку «отрицание... не играет действительно существенной роли», отношение, существующее между единым и иным, не следует, в отличие от Гегеля, понимать как противоположность; по мнению Риккерта, единое и иное не исключают одно другое, но «позитивно дополняют друг друга» [57, 22]. Риккерт даже говорит о «своеобразной взаимозависимости» единого и иного: «Говоря объективно, первое существует как единое только в отношении или в связи со вторым. Говоря субъективно, вместе с единым всегда «полагается» и иное. Мы не можем мыслить безотносительно. Даже чисто логический предмет можно постигнуть в его целостности лишь как соотнесение соотнесенного, как единое и иное, как форму и содержание» [57, 18].
Если рассуждать указанным образом, то и единство, обнимающее собой единое и иное, уже не должно пониматься в смысле гегелевской логики тождества. Рикерт показывает, что единство не обязательно рассматривать как «тождество, как отсутствие различия или простоту», но можно трактовать как «единство многообразия» [57, 24]. Единство многообразия представляет собой «объемлющую связь единого и иного»; она - «как единство синтеза единого... и иного никогда не может означать единства в смысле отсутствия различия, но требует различия или инаковости - подобно тому, как «единство» тождества отторгает различие или инаковость. Необходимо постоянно задаваться вопросом, что имеется в виду, когда говорят о «единстве»: тождественное «единство» как отсутствие различия или как синтетическое «единство» того, что отлично друг от друга и соотносится между собой» [57, 24]. Действительно, предлагаемая Риккертом трактовка единства многообразного уже не фиксирует наше внимание на (говоря словами Лумана) «общем в различном» [53, 254]. Скорее это понятие освобождает зрение, позволяя увидеть различное, причем Риккерт заинтересован не различиями как таковыми, но удостаивает их вниманием лишь постольку, поскольку они взаимно дополняют друг друга, образуя синтез. В противоположность антитетическому «либо - либо» Гегеля, и тем более - в противоположность вдвойне антитетическому «ни - ни» Гюнтера, у Риккерта в его гетеротетическом принципе дополняющей связанности находит выражение «как - так и», что открывает возможности и для обоснования единства социологии как дисциплины. Что дозволено было Веберу, использовавшему философию Риккерта, то должно быть разрешено и нам, сегодняшним.
VI
С полным на то основанием Луману ставили в упрек, что «отрицание не может рассматриваться как наукотворче-ская операция». Как замечает О. Вайнбергер, «одно только отрицание (критика) не позволяет прийти к новым теориям, это возможно только при конструировании новых способов понимания, которые не определяются, однако, одним только отрицанием» [73, 269]. Я бы, со своей стороны, тоже хотел избежать возможного упрека в том, что не предлагаю ничего, кроме критики. Поэтому ниже я намерен показать, как гетерологию Риккерта можно подсоединить к нынешнему состоянию дискурса в социологии. Насколько мне известно, в наше время позиция Риккерта рассматривается как повод для конструктивных рассуждений только в философии, например, в работах В. Флаха [16; 17] и К. Глой [19]. Однако и в других, нефилософских контекстах можно встретиться с его аргументами. Например, в структурной семантике А. Ж. Греймаса отрицание совершенно сознательно дополняется второй операцией; соответственно, из понимания того, что неопределенность простого отрицания должна быть переведена в определенность контрарно противоположного исходному элемента, - из этого здесь делаются очень серьезные выводы (см.: [22, 14 ff; 68, 115]). Рассуждения, аналогичные идеям Риккерта, можно найти также и в постструктурализме Деррида, например, в связи с его понятием supplement»а, которое означает не только «замену», но и «восполнение» (см.: [10, 244 ff; 55, 32]. На мой взгляд, безусловно стоило бы изучить такого рода исследования по логике различия с учетом риккертововского понятия единства многообразия.
Но вернемся к социологии. Прежде всего, здесь это понятие проясняет предметное измерение в образовании социологических теорий. Гетеротетический принцип может способствовать анализу той до сих пор еще недостаточно выясненной связи, которую Дюркгейм, развивая теорию Г. Спенсера, обозначил как органическую солидарность. Как известно, Дюркгейм настаивал на том, что разделение труда прежде всего становится возможным благодаря гетерогенности. При этом, как показал Дюркгейм, проиллюстрировав это примерами дружбы и семьи, под гетерогенностью не следует понимать противоположность: «Лишь различия определенного рода чувствуют... взаимное притяжение, а именно, различия, которые дополняют друг друга, а не противоречат одно другому и не исключают друг друга» [11, 102]. Именно «объединяющее несходство натур» может основать социальную связь, называемую солидарностью: «Как раз потому, что мужчина и женщина отличаются друг от друга, они страстно ищут друг друга. Вместе с тем ...не чистая и не простая противоположность вызывает взаимное тяготение, но только различия, которые взаимно предполагаются и дополняются, могут иметь такое свойство» [11, 103]. Луман сам подчеркивал, что для Дюркгейма дело состояло не в отношении отрицания, но в инаковости иного» [47, 22]. Однако Луман не заполнил это «пустое место» в исследованиях [37, 111] и не сделал отсюда выводов при построении своей собственной теории. Но и здесь есть работы, которые можно было бы использовать в дальнейшем [56; 70, 346 ff].
Что касается социального измерения социологических теорий, то на основе риккертовского единства многообразия можно было бы по-другому выстроить необходимую для обоснования единства дисциплины теорию, чем так, как предлагает Луман. На самом деле, уже существует социологический pendant* к риккертовской гетерологии. Т. Фарра-ро выступает представителем «spirit of unification»**, который обнаруживается в рекурсивных процессах синтеза и основу которого составляет не что иное, как тот самый принцип дополняющей связности, выражающейся, согласно Риккерту, в синтетическом единстве единого и иного.
* Соответствие (фр.).
** Дух унификации (англ.).
«Под унификацией, - говорит Фарраро, - я понимаю не конструкцию отдельной теории отдельным лицом или даже отдельной исследовательской группой, так что под эту теорию подводится все остальное. Скорее, я имею в виду процесс, совершающийся через интегративные эпизоды. Результат любого такого эпизода может войти в другой эпизод позже. Таким образом, этот процесс рекурсивен и конституирует то, что мы можем назвать динамикой унификации» [12, 175]. Фарраро проясняет этот процесс, рассматривая вместе различные теоретические установки [15; 13; 14]. Он отчетливо формулирует, что для него при этом важно не только конструирование эффективных теорий, но и обоснование единства дисциплины: «...дух унификации... может перекинуть мосты между различными теоретическими предприятиями, помогая сломать барьеры обособления внутри социологической теории» [12, 175]. Возможно, тем самым найдена позиция, противоположная плюралистической вседозволенности теорий, к тому же не предполагающая тоталитаризма и не избегающая истины как средства Коммуникации науки.
Чтобы предотвратить недоразумения, подчеркнем: для Фарраро дело отнюдь не в том, чтобы предпринять новое издание «теорий среднего уровня» - концепции предложенной Р. Мертоном в полемике с Т. Парсонсом. Вопросы абстракции и агрегации не играют у Фарраро заметной роли. И если бы для его единой теории, ориентированной на spirit of unification, пожелали найти название, то можно было бы предложить такое - дифференциальная социология. Само это понятие сформулировал Ж. Гурвич [31], для которого также было важно «снять оппозицию определенных односторонних тезисов и соединить их между собой» [30, 113]. Свой труд Гурвич рассматривает как процедуру «резюмирования предшествующей социологии. Следует находить как можно более гибкий понятийный аппарат, чтобы описать и объяснить конкретную социальную действительность. При этом речь не должна идти о системе; напротив, социология всегда может быть только незавершенным воссозданием социальной жизненной связи в действии, в движении, таким воссозданием, которое должно быть предпринято заново всякий раз - в любых [новых] рамках, в любой ситуации, в связи с каждой [новой] конъюнктурой, каждым поворотным пунктом. Понятийный аппарат должен постоянно создаваться заново и может служить лишь точкой опоры, прагматическая значимость которой обнаруживается при последующих вновь и вновь предпринимаемых попытках» [30, 112]. Может ли этот прагматизм содействовать преодолению кризиса дисциплины - это вопрос эмпирический, т. е. открытый. Но, во всяком случае, от попыток такого рода можно было бы ожидать применительно к каждому конкретному случаю обоснования значимого от случая к случаю «более-или-менее-единства» [9, 2].
ЛИТЕРАТУРА
1.Berger P. L. Does Sociology Still Make Sense? // Schweizer Zeitschrift fur Soziologie. 1994. Bd. 20. S. 3-12.
2.Beyme K. V. Theorie der Politik im XX. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoderne. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991.
3.Boudon R. Will Sociology Ever Be a Normal Science? // Theory and Societe. 1988. Vol. 17. P. 747-771.
4.Bvde H. 1968 und die Soziologie // Soziale Welt. 1994. Bd. 45. P. 242- 253.
5.Collins R. Is 1980s Sociology in the Doldrums? // American Journal of Sociology. 1986. Vol. 91. P. 1336-1355.
6.Collins R. Sociology: Prescience or Antiscience? // American Sociological Review. 1989. Vol. 54. P. 124-139.
6a. Коллинз Р. Социология: Наука или антинаука? // Наст, издание. С. 37-68.
7.Esser И. Soziologie. Allgemeine Grundlagen. Frankfurt a. M.: Capus, 1993.
8.Dahrendorf R. Die drei Soziologien. Zu Helmut Schleskys «Ortsbe-stimmung der deutshen Soziologie» // Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 196,0. Bd. 12. S. 120-133.
9.Dahrendorf R. Einfiihrung in die Soziologie // Soziale Welt. 1989. Bd. 40. S. 2-10.
10.Derrida J. Grammatologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.
11.Durkheim E. Uber Soziale Arbeitsteilung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988.
12.Fararo T. J. The Spirit of Unification in Sociological Theory // Sociological Theory. 1989. Vol. 7. P. 175-190.
13.Fararo T. J. The Meaning of General Theoretical Sociology. Tradition and Formalization. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
14.Fararo T. J. General Sociological Equilibrum: Toward Theoretical Synthesis // Sociological Theory. 1993. Vol. 11. P. 291-313.
15.Fararo T. J., Skvoretz J. Unification Research Programs: Integrating Two Structural Theories // American Journal of Sociology. 1987. Vol. 92. P. 1183-1209.
16.Flach W. Kroner und der Weg bis Hegel. Die systematischen Voraus-setzungen der Kronerschen Kantkritik // Zeitschrift fur philosophische For-schung. 1958. Bd. 12. S. 554-579.
17.Flach W. Negation und Andersheit. Ein Beitrag zur Problematik der Letztimplikation. Miinchen: Reinhardt, 1959.
18.Frank U. Rezension von G. Gunther, Idee und GrundriC einer nicht-Aristotelischen Logik // Zeitschrift fur philosophische Forschung. 1963. Bd. 17. S. 725-727.
19.Gloy K. Einheit und Mannigfaltigkeit. Eine Strukturanalyse des «und». Systematische Untersuchungen zum Einheits- und Mannigfaltigkeitsbegriff bei Platon, Fichte, Hegel sowie in der Moderne. Berlin: De Gruyter, 1981.
20.Gouldner A. W. The Coming Cisis of Western Sociology. New York: Basic Books, 1970.
21.Grathoff R. Uber die Einheit der Systeme in der Vielfalt der Lebens-welt. Eine Antwort auf Niklas Luhmann // Archiv fur Rechts- und Sozialphilo-sophie. 1987. Bd. 73. S. 251-263.
22.Greimas A. J. Strukturale Semantik. Braunschweig: Vieweg, 1971.
23.Gunther G. Idee und GrundriB einer nicht-Aristotelischen Logik. Bd. 1: Die Idee und ihre philosophischen Voraussetzungen. Hamburg: Meiner, 1959.
24.Gunther G. Das Problem einer Formalisierung der transzendental-dialektischen Logik. Unter besonderer Berucksichtigung der Logik Hegels // Hegel-Studien. 1962. Beiheft 1. S. 85-123.
25.Gunther G. Logik, Zeit, Emanation und Evolution. Opladen: Wets-deutscher Verlag, 1967.
26.Gunther G. Das Janusgesicht der Dialektik // Hegel-Jahrbuch. 1974. S. 89-117.
27.Gunther G. Selbstdarstellung im Spiegel Amerikas // Philosophic in Selbstdarstellungen / Hrsgg. v. L. J. Pongratz. Bd. 2. Hamburg: Meiner, 1975.
28.Gunther G., Schelsky H. Christliche Metaphysik und das Schicksal des modernen Bewufitseins. Leipzig: Hirzel, 1937.
29.Gunther G., Schelsky H. Die ontologischen Grundlagen der Mehr-wertigkeit. Naturliche Zahlen in einem transklassischen System // Jahres-bericht des Zentrums fur interdisziplinare Forschung der Universitat Bielefeld. Bielefeld, 1970. S. 27-28.
30.Gugel J. Die neuere franzosische Soziologie. Ansatze zueiner Stan-dortbestimmung der Soziologie. Neuwied: Luchterhand, 1961.
31.Gurvitch G. La vocation actuelle de la sociologie. T. 1. Vers la sociolo-gie differentielle. P.: PUF, 1968.
32.Hegel G. W. F. Wissenschaft der Logik П. Werke in 20 Banden. Bd. 8 / Hrsgg. v. E. Moldenhauer und K. Michel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.
33.Helmstetter R. Die weiBen Mause des Sinns. Luhmanns Humorisierung der Wisstnschaft der Gesellschaft // Merkur. 1993. Bd. 47. S. 601-619.
34.Horowitz I. L. The Decomposition of Sociology. N. Y.: Oxford University Press, 1993.
35.Klagenfurt K. Technologische Zivilisation und transklassische Logik. Eine Einfuhrung in die Technikphilosophie Gotthard Gimthers. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995.
36.Lorenzen P. Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik. Korreferat zu einem Vortrag von G. Gunther // Hegel-Studien. 1962. Beiheft 1. S. 125-130.
37.Luhmann N. Reflexive Mechanismen // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1974. S. 92-114.
38.Luhmann N. Soziologie der Moral // Theorietechnik und Moral. / Hrsgg. v. N. Luhmann, S. H. Pfurtner. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978 S. 8-116.
39.Luhmann N. Interaktion in Oberschichten: Zur Transformation ihrer Semantik im 17. und 18. Jahrhundert // Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellscaft. Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1980.
40.Luhmann N. Handlungstheorie und Systemtheorie // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Bd. 3. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981. S. 50-66.
41.Luhmann N. Autopoiesis, Handlung und kommunikative Verstandigung // Zeitschrift fur Soziologie. 1982. Bd. 11. S. 366-379.
42.Luhmann N. Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984.
43.Luhmann N. Helmut Schelsky zum Gedeken // Zeitschrift fur Rechtsso-ziologie. 1984. Bd. 6. S. 1-3.
44.Luhmann N. Die Richtigkeit soziologischer Theorie // Merkur. 1987. Bd. 41. S. 36-49.
45.Luhmann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988.
46.Luhmann N. Neuere Entwicklungen in der Systemtheorie // Merkur. 1988. Bd. 42. S. 291-300.
47.Luhmann N. Arbeitstelung und Moral. Durkheims Theorie // Durk-heim E. Uber soziale Arbeitstelung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. S. 19- 38.
48.Luhmann N. Identitat - was oder wie? // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Bd. 5. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990. S. 14-30.
49.Luhmann N. Uber systemtheoretischen Grundlagen der Gesellschafts-theorie // Deutsche Zeitschrift fur Philosophic. 1990. Bd. 38. S. 277-284.
50.Luhmann N. Am Ende der kritischen Soziologie // Zeitschrift fur Soziologie. 1990. Bd. 20. S. 147-152.
51.LuhmannN. Die Form «Person» //Soziale Welt. 1991. Bd.42.S. 166- 175.
52.Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellscaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992.
53.Luhmann N. «Was ist der Fall» und «Was steckt dahinter?» Die zwei Soziologien und die Gesellschaftstheorie // Zeitschrift fur Soziologie. 1993. Bd. 22. S. 245-260.
54.Merlon R. The Position of Sociological Theory: Discussion // American Soziological Review. 1948. Vol. 13. P. 164-168.
55.Naumann-Beyer W. Annaherung an Derrida - oder: Wer spat kommt, den belohnt das Lesen // Deutsche Zeitschrift fur Philosophic. 1994. Bd. 42. S. 15-33.
56.Plum-wood V. The Politics of Reason: Towards a Feminist Logic // Australasian Journal of Philosophy. 1993. Vol. 71. P. 436-462.
57.Rickert H. Das Eine, die Einheit und die Eins. Bemerkungen zur Rolle des Zahlbegriff. Tubingen: Mohr, 1924.
58.Rickert H. Grundprobleme der Philosophic. Methodologie, Ontologie, Anthropologie. Tubingen: Mohr, 1934.
59.Sahner H. Theorie und Forschung. Zur paradigmatischen Struktur der deutschen Soziologie und zu ihrem EinfluB auf die Forschung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1982.
60.Schelsky H. Zum Begriffder tierischen Subjektivitat // Studium Gene-rale. 1952. Vol. 3. S. 102-116.
61.Schelsky H. Ortbestimmung der deutschen Soziologie. Diisseldorf: Diederichs, 1959.
62.Schelsky H. Auf der Suche nach Wirklichkeit. Dusseldorf: Diederichs, 1965.
63.Schelsky H. Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priester-herrschaft der Intellektuellen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975.
64.Schelsky H. Soziologie - wie ich sie verstand und verstehe // H. Schelsky. Ruckblice eines «Anti-Soziologen». Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981.
65.Schmitz H. Rezension von G. Gimther, Idee und GrundriB einer nicht-Aristotelischen Logik // Philosophische Rundschau. 1961. Bd. 9. S. 283- 304.
66.Sennet R. Das Ende der Soziologie // Die Zeit. 1994. Nr. 40 vom 30. September. S. 61-62.
67.Soentgen J. Der Bau. Betrachtungen zu einer Metapher der Luhmann-schen Systemtheorie // Zeitschrift fur Soziologie. 1992. Bd. 21. S. 456-466.
68.Stierle K. Semiotik als Kulturwissenschaft // Zeitschrift fur frazosische Sprache und Literatur. 1973. Bd. 83. S. 99-128.
69.Wagner G. Geltung und normativer Zwang. Eine Untersuchung zu den neukantianischen Grundlagen der Wissenschaftslehre Max Webers. Freiburg: Alter, 1987.
70.Wagner G. Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwinding der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
71.Wagner G. Am Ende der systemtheoretischen Soziologie. Niklas Luh-mann und die Dialektik // Zeitschrift fur Soziologie. 1994. Bd. 23. S. 275- 291.
72.Wagner G. Zur Rekonstruktion und Kritik einer transzendentalen Soziologie der Gesellscaft: Helmut Schelsky und Wolfgang Schluchter // Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. 1995. Bd. 81. S. 1-25.
73.Weinberger O. Moral als Dual-Code? Kritische Anmerkungen zu Niklas Luhmanns Theorie der Moral // Rechtstheorie. 1993. Bdf. 24. S. 261-280.
74.Weingart P. Provinz ist liberal. Der WeltkongreB fur Soziologie in Bielefeld // Soziologische Revue. 1994. Bd. 17. S. 252-254.
75.WeiflJ. Die Normalitat als Krise. Soziale Welt. 1989. Bd. 40. S. 124- 132.
Фил Макнотен и Джон Урри СОЦИОЛОГИЯ ПРИРОДЫ*
Социология и исследование изменений окружающей среды
* Рукопись предоставлена авторами специально для настоящего издания.
В этой статье мы намерены рассмотреть парадокс: казалось бы социология должна играть центральную роль в исследовании изменений среды обитания, но пока что ее вклад в эти исследования очень скромен. Она не сделала того, что могла бы сделать. Поэтому наше положение весьма щекотливо: мы собираемся показать, что социологии действительно должна принадлежать центральная роль, но почти не имеем эмпирических данных в поддержку этого притязания. Однако пусть достижения социологии в названной области и не впечатляют (особенно по сравнению с некоторыми другими науками, вроде социальной географии или планирования), но ее постановки проблем потенциально могут стать центральными. Чтобы объяснить, почему вклад социологии в понимание изменений окружающей среды недостаточен, мы сперва обратимся к социальному и историческому контексту, в котором социология начинала укореняться, а затем рассмотрим, как это повлияло на характер трактовки «социального» всеми, кто исследует природу окружающей среды и ее изменения.
Логика развития социологии была продуктом конкретного исторического момента, порождением промышленного капитализма в Западной Европе и Северной Америке. Ключевым понятием этой социологии было понятие общества.
Она имела склонность принимать определенные априорные допущения об отношениях следствия между природой и обществом. Принимая как бесспорную данность эффектные успехи современных обществ такого типа в покорении природы, социология сосредоточилась и специализировалась на том, в чем она чувствовала себя сильной, а именно, на описании и объяснении самого характера современных обществ. В таком качестве социология, в общем, приняла соответствущее разделение труда в академической сфере; оно отчасти возникло благодаря желанию выделить (вслед за Э. Дюркгеймом) отдельную область или сферу социального, которую можно было бы изучать и объяснять автономно. В известном смысле социология применяла стратегию самоопределения по образцу биологии, утверждая существование особой и автономной области фактов, в данном случае относящихся к социальному, или обществу. Предполагалось, что такая область отделена от природы и противопоставлена ей.
До совсем недавнего времени это академическое разделение между миром социальных фактов и миром природных фактов в основном не оспаривалось. Между прочим оно было отражено в формулировках понятия времени, допускавших, что время природы и время общества - очень разные сущности (см.: [1; 24, Ch. 9]). Более того, это разделение имело смысл в перспективе профессионализации социологии, поскольку обеспечивало ясную и строго ограниченную область исследования: область параллельную, но не спорящую и не сталкивающуюся с теми естественными науками, которые несомненно имели дело с кажущимся очевидным миром природных явлений.
Именно такая модель социологии и вообще социальных наук наиболее заметна в текущих исследованиях так называемых «глобальных изменений среды». Грубо говоря, роль обществоведа усматривается в том, чтобы заниматься социальным влиянием и последствиями тех проблем окружающей среды, которые первоначально и точно были описаны естественником - род модели «биология сначала» (см.: [19]). Это можно ясно увидеть в ведущих международных исследовательских программах по глобальным изменениям среды, что недавно акцентировал Ньюби [30] в отношении существующей структуры Межправительственных панельных исследований климатических изменений (IPCC) и Программы по человеческому измерению глобальных изменений в окружающей среде (HDP). Ньюби отмечает, насколько обе эти программы воспринимают изменения окружающей среды как множество научных проблем, требующих технических решений. Так, в IPCC линейная модель образована рабочими панелями, построенными на научных данных, средовых и социоэкономических воздействиях и соответствующих стратегиях реагирования (описанных в откровенно технических терминах).
Похожие явления можно найти и в английской исследовательской программе по глобальным изменениям окружающей среды. После ряда значительных событий, включая волну повышения экологической сознательности общественности в конце 80-х гг. и часто цитируемую речь М. Тэтчер перед Королевским научным обществом в 1989 г., возникла новая исследовательская культура, поощряющая изучение процессов, происходящих в окружающей среде. В соответствии с международными моделями направленность этих исследований большей частью тяготела к глобальности и естественнонаучной ориентации. Так, когда в 1990 г. был сформирован Межведомственный комитет Великобритании по глобальным изменениям окружающей среды для координации всех таких исследований в стране, первый его отчет в апреле 1991 г. безусловно имел естественнонаучный оттенок. Более того, когда обществоведческие исследования стали более заметными благодаря правительственному фонду для программы по изучению глобальных изменений окружающей среды в 1990 г., они протекали в политическом климате, где значительные ожидания и политические обязательства связывались с ролью общественных наук в формулировке надлежащих ответов на проблемы, поднятые в процессе сбора естественнонаучных данных. И потому первоначальная задача программы Для общественных наук состояла в том, чтобы «помогать в понимании причин глобального изменения окружающей среды; в предсказании его воздействий и в оценке издержек ч выгод крупных социоэкономических изменений, требуемых для гармонизации общественного развития с окружающей средой» [16, 1].
Вышеописанный политический ландшафт наводит на мысль, что роль обществоведа в анализе глобального изменения окружающей среды до сих пор была в основном ролью социального инженера, манипулятора и «фиксатора», способствующего поддержанию жизнеспособности общества. В такой роли предпочтительнее выглядят «инструмента-листские» дисциплины вроде экономики и социальной географии, тогда как данных о вкладе социологии в решение проблем глобального изменения окружающей среды почти нет (что уже отмечалось выше). Далее в данной статье мы попытаемся отыскать объяснение, почему социология в основном не сумела успешно войти в дебаты по проблемам окружающей среды, даже там, где теперь существуют исследовательские программы с упором на «социальную науку». Мы начнем с возвращения к сложным взаимоотношениям между социальным и природным, прежде чем предложить некоторые области для социологического исследования и разработки. Следует предупредить, что эта статья концентрируется на взаимоотношениях общества и природы в пределах «западного» или североатлантического круга обществ и затрагивает главным образом «инвайронментали-стские», а не «биологические» темы.
Природа: исторический аспект
Исторически сопоставление общества и природы достигло наивысшего развития в XIX в. на Западе. Природа начинала вырождаться в какое-то царство несвободы и враждебности, которое надо было покорять и контролировать. Модерн включал в себя веру в то, что прогресс человечества следует измерять и оценивать в категориях господства человека над «природой», а не через попытки как-то преобразовать взаимоотношения между людьми и природой. Воззрение, согласно которому над природой надо господствовать, предполагало доктрину исключительности человека, т. е. убеждение, что люди глубоко отличаются от всех других видов и превосходят их, что люди способны определять свое предназначение и научаться всему необходимому, дабы оно исполнилось, что мир огромен и предоставляет неограниченные возможности для всех, и что история человеческого общества есть история бесконечного прогресса.
Однако, как указывает Уильяме [41], один из недостатков такой доктрины (который мы теперь хорошо сознаем) состоит в том, что нет ни одной сущности, которую можно было бы, строго говоря, назвать «природой». Мы еще вернемся к этой теме, но здесь можем отметить, что идею природы можно соотнести с сущностным качеством или характером чего-то; со скрытой силой, стоящей за какими-то событиями в мире; со всей совокупностью одушевленных и неодушевленных объектов, особенно таких, которым что-либо угрожает; с физической средой, противополагаемой человеческой культурной среде и ее особой экологии; и с сельским (в противоположность городскому) с его особенными визуальными или рекреационными свойствами (см.: [42, 216; 34, 172; 35]).
В историческом плане проект описания некоторых из ключевых трансформаций в понимании и отношении людей на Западе к природному обрисовал Уильяме [41; 42]. Он показал, что наши теперешние представления о природе происходят из чрезвычайно сложного скопления идей, связанных со многими ключевыми понятиями западной мысли, как то: Бог, идеализм, демократия, модерн, общество, Просвещение, романтизм и т. д. Начиная со средневековой космологии, Уильяме фиксирует социальную значимость, которую имело образование ряда абстрагированных, единичных и персонифицированных «природ». Как только природу отделили от множества других вещей, рассуждает Уильяме, открылась возможность предлагать социальные устроения, связанные с конкретным природным порядком. Так, апелляция к природе как к богине, затем как к божественной матери, абсолютному монарху, министру, конституционному законодателю и, наконец, избирательно производящему источнику соответственно определяло изменяющиеся отношения (часто в жесткой борьбе) между царством природы, царством Бога и человечеством. Однако два решающих изменения произошли в XVI и XVII вв. Оба они включали абстрагирование и отделение царства природы и от Бога, и от человечества, оба успешно отрицали скрытый потенциал идеи всеохватывающего космологического порядка.
Первое изменение повлекло за собой умерщвление царства природы, переход от жизненной силы к мертвой материи, от духа к машине. Фактически через обновленные науки - физику, астрономию и математику - изучение природы стало изучением того, как она построена материально. Природа стала множеством законов, причин и конвенций, открываемых по новым правилам исследования, благодаря таким формам исследования, которые можно было проводить в их собственных понятиях без всякого обращения к божественной цели или плану.
Второе изменение заключалось в истолковании некоего природного состояния как состояния первичного по отношению к человечеству или, по крайней мере, к цивилизованному обществу. Раз природа стала чем-то абстрагированным и фактически отделенным как первичное по отношению к обществу состояние, то возникают споры о сущности естественного состояния по сравнению с общественным. Два варианта этой идеи получили широкое развитие в Просвещении и романтизме. Оба они уходили корнями в спор о том, было ли «дообщественное естественное состояние» ис-точником первородного греха или первородной невинности. Раннее выражение разных позиций в этом споре можно найти у Т. Гоббса и Дж. Локка. Так, если Гоббс описывал дообщественное естественное состояние как состояние «одиночества, бедности, недоброжелательства, грубости и нужды», то Локк изображал его состоянием «мира, доброй воли, взаимопомощи и сотрудничества». Отсюда Гоббс доказывал, что основой цивилизованного общества является преодоление «недостатков природы», тогда как, по Локку, основу справедливого общества надо искать в организации его согласно «законам природы». Эти конструкции относительно природы самым решительным образом повлияли на взаимоотношения между формами социальной деятельности и тем или иным пониманием естественного состояния.
Как сказано выше, космология до эпохи модерна содержала идею всеобъемлющего порядка, внутри которого были связаны воедино человечество, природа и Бог. Моральное суждение большей частью понимали тогда в категориях подчинения человеческого действия этому естественному порядку. Но как только природа отделилась от человечества, стало возможным спрашивать, соответствуют или нет данные виды социальной деятельности предсуществу-ющему естественному порядку. Уильяме поясняет: «Говорить о «вмешательстве» человека (s7'c!) в естественные процессы - это значит, конечно, предполагать, что он имеет возможность не вмешиваться или решать не вмешиваться. Природа должна мыслиться, так сказать, в ее отделенности от человека, прежде чем возникнет какой-либо вопрос о вмешательстве или господстве над ней, а также о методе или этике того и другого» [41, 154].
Эти новые абстрагированные «природы» не только узаконили теоретическое исследование («обособленный разум, взирающий на обособленную материю», «человек, созерцающий природу»), но и оправдали введение новых практик. И действительно, Уильяме [41] показывает, что отделение природы от общества было предпосылкой для появления практик, зависимых от инструментального конституирова-ния природы как некоего множества пассивных объектов, подлежащих использованию и разработке людьми. Мораль обычно оправдывала то огромных масштабов вмешательство в природу, которое началось с XVIII в. и выросло из этой конструкции обособленной природы, чьи законы стали законами физики. А поскольку последние считались законами от Бога, физическое вмешательство начали представлять продолжением божественного творчества. На деле это логически вело к мысли о том, что вторжение людей в природу обосновано и нанесение вреда пассивной материи для человеческой пользы допустимо и целесообразно. И, наконец, это вызвало к жизни не только доводы, провозглашавшие «естественность» вмешательства, но и такие, где вмешательство считалось столь неизбежным, что любую критику такой аргументации саму стали классифицировать как вмешательство.
Приблизительно в то же время появилась еще одна идейная конструкция природы. Как раз тогда, когда «улучша-тели» провозглашали неизбежность своих действий, многие люди начали испытывать на себе последствия деградации окружающей среды и ее усиленной социальной эксплуатации, производные от этого массированного вторжения в «природу». Весь этот процесс в таких его проявлениях, как работные дома и дымные фабрики, дети-трубочисты и армия шахтеров, туберкулез и сифилис стали критиковать как нечеловеческий, несправедливый и «неестественный». Однако, как показывает Уильяме [41], хотя отрицательную сторону индустриализма признать было легко, положительную альтернативу (в категориях «естественной» альтернативы) защищать стало труднее. В самом деле, по мере институционализации рынка в обществе становилось трудным, если не невозможным, критиковать механизм, который был признан созидающей причиной богатства, экономического процветания, прибылей и либеральной демократии. Рынок сам начинал пониматься как «естественное» явление и законы рынка - тоже как естественные, аналогичные законам природного мира и тем самым необоримые и недоступные вмешательству. Уильяме поясняет: «Отражением новых естественных экономических законов, естественной свободы предпринимателя продвигаться в деле без чужого вмешательства стал образ рынка как естественного [sic!] регулятора... Это был остаток... более абстрактных идей о социальной гармонии, в которой могли бы идеально совпадать личный и общественный интересы» [41, 158].
Эта натурализация рынка удивительно хорошо показывала, как перестройка понятия природы в духе «естественной науки» должна была повлиять на человечество и социальный мир. Все виды исследования были одинаково подчинены поиску естественных законов. Альтернативная концепция природы (которая вышла из романтизма, а не из Просвещения) оказалась больше эскапистской, чем визионерской. Вместо усилий возродить мораль и этику в сфере природы, обдумывая новые пути, как вновь сделать природу социальной, ее обособление сохранили, просто удалив из человеческого мира на окраины современного общества: «Природа в совсем другом смысле, чем думали ее улучшате-ли, фактически бежала на окраины цивилизации: на отдаленные, недоступные, относительно неплодородные территории. Природа была там, где не было промышленности, и в таком реальном, но ограниченном значении почти ничего не могла сказать о тех операциях на природе, которые производились в других местах» [41, 159].
В США это привело к созданию национальных парков, где нашла воплощение одна частная концепция природы как дикого состояния. В Англии это породило концепцию более прирученной природы, примером чего может служить кампания У. Вордсворта и других за «консервацию» Озерного края и прочих мест, отдаленных от науки, промышленности и власти.
До сих пор мы относились к природе в точности как к женщине. Теперь мы знаем, что это очень типично: природу часто представляли как «женщину», как богиню или божественную матерь. Дальше будет показано, что покорение природы индустриальной экономикой, разумом и наукой рассматривалось в том числе и как «овладение» ею, так что в некоторых представлениях о природе скрывались сексуализированные мужские установки на ее изнасилование и ограбление. Наконец, в иных версиях эко-феминизма провозглашается, что женщины в некотором смысле более «естественны» и ближе к «природе», чем мужчины, особенно по причине деторождения. Многие феминистские утопии построены вокруг идеи полностью женского общества, которое живет в мире с самим собой и с природной средой.
Следует также отметить, что история «природы» в дальнейшем должна считаться с тем, как колониализм и расовое угнетение повлияли на обособление природы, которая эксплуатировалась Западом и для Запада. Эта природа виделась состоящей и из искусственно обособленных «девственных» земель, и из людей, более «естественных» в качестве работников и объектов колонизаторско-туристского внимания. В русле подобных рассуждений считается, например, что быть определенным в качестве явления «природы»... значит быть определенным в качестве пассивного существа, несамостоятельного деятеля и не-субъекта, в качестве «среды» или незримых первичных условий для «передовых» достижений разума или культуры. Это значит также быть определенным в качестве ресурса, лишенного собственных целей и значения, и потому пригодного для присоединения к целям тех, кого предположительно отождествляют с миром разума или интеллекта (см.: [ЗОа, 43]).
Вывод из этого краткого исторического очерка таков, что не существует никакой «природы» самой по себе - можно говорить только о «природах». И такие природы формируются исторически, географически и социально. Следовательно, не существует естественных ограничений и пределов как таковых. Они не закреплены и не вечны, но скорее зависят от конкретных исторических и географических детерминаций, а также от самих процессов, по которым «природа» строится и поддерживается в культуре, в частности, от процессов, выражающих отношение к «другому» . Более того, раз мы признаем, что идеи о природе были основательно переплетены - и остаются таковыми теперь - с господствующими идеями об обществе, мы должны ясно понимать, что и последние оказываются воспроизводимыми, узакониваемыми, исключаемыми из оборота, общезначимыми и т. д. благодаря обращению к природе или к природному. Проект определения того, что есть природное воздействие, становится социальным и культурным проектом в такой же мере, как и «чисто» научным.
К вопросу о критической инвайронментальной социологии
Предпринятый краткий исторический очерк обеспечивает контекст, благодаря которому можно понять появление новейших концепций природы, понять их историческое (отличать от неизбежного) отделение от общества и продвинуться в критическом анализе допущений, на которые они опираются. Теперешние рассуждения о природе обычно апеллируют к обрисованным выше вариантам различения природного и социального, а социологическое исследование только приступило к объяснению тех способов, какими можно связать эти современные апелляции и с природой вне общества (например, призывами к романтической, до-человеческой, нетронутой природе), и с так называемой естественностью нынешних социальных порядков (например, утилитарными призывами к естественности чисто рыночных отношений). Хотя задачей научного социологического исследования остается более глубокий анализ социального измерения современных призывов к естественному, у социологии есть и другие возможности внести существенный вклад в нынешние дискуссии по проблемам окружающей среды. В частности, эти возможности содержатся в вопросе, как в современных обществах реконструируются «социальное» и «природное». В оставшейся части статьи мы дадим пробный набросок насущных задач для критической, ангажированной и рефлексивной социологии окружающей среды. Такая социология концентрируется на четырех взаимосвязанных областях: социологии экологических знаний; социологическом прочтении существующих «природ»; социологии экологического «вреда»; и проблеме «инвайронментализм и общество»*.
* За последние несколько лет определился ряд социологов, переходящих в проблемную область современного инвайронментализма. Два недавних примера в использовании социальной теории для понимания взаимоотношений между «природой» и «обществом» дают П. Диккенс и Т. Бентон (см.: [10; 7]).
Социология экологических знаний
Во многих отношениях нынешняя роль, приписываемая общественным наукам, предполагает описание природы, явно свойственное эпохе модерна. Правда, наш мир может быть признан имеющим конечные пределы и уже не бесконечно щедрым, но исследовательские программы действуют еще под влиянием глубоко модернистских посылок о материальности мира, о его совершенной доступности научному и рационалистическому исследованию и о принципиальном отделении людей и человеческой культуры от физической среды. Одним из последствий такой постановки вопроса является предположение (ныне большей частью принимаемое в общественнонаучных описаниях окружающей среды), что природу в первую очередь следует рассматривать как нечто устанавливающее пределы тому, чего могут достичь люди. Акцент на абсолютных пределах, как правило, определенных экологической наукой (см.: [29]), перешел из программы немногих мечтателей 1960-х годов в общепринятую повестку дня после Рио*. Так, в нынешних попытках добиться устойчивого развития прежде всего присутствует цель определить способы ограничения человеческой деятельности, так чтобы экономическое и социальное развитие могло протекать в пределах конечных экологических ресурсов планеты. Эта концепция широко распространена в ключевых межправительственных документах (см.: [9; 36]).
* Речь идет о сессии UNCED (Конференции Объединенных Наций по [проблемам] окружающей среды) и развития, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г. Конференция приняла «Риоскую Декларацию об окружающей среде и развитии». В ней, в частности подчеркивается важнейшая роль женщин в роль в контроле над окружающей средой и решении проблем устойчивого развития. Конференция приняла также «Программу действий на XXI в.», где много говорится о роли женщин и женских групп, а также тендерного равенства и равенства возможностей для мужчин и женщин.
И все же, вопреки такой программе и несмотря на реальность определенного рода материальности мира, «природы» могут не только ограничивать, но и поощрять человеческую деятельность. В ряде случаев идея «природы» оказалась относительно благотворной и способствовала деятельности, не разрушающей окружающую среду. Например, популярное ныне обращение к «экологии» можно рассматривать не просто как отражение заинтересованности в физическом состоянии окружающей среды, но и как расширение благоприятных возможностей для развития иного базиса общества. В таком случае на «природу» не должно взирать как на что-то, чем надо «овладеть» или что следует покорить, или как на что-то, обязательно находящееся не в ладах с человеческой предприимчивостью. В самом деле, постоянное акцентирование пределов в связи с рядом решений не делать что-то или делать поменьше может внушить убеждение, будто ответственность за состояние среды - это нечто предельно ограничительное и дисциплинарное. В другом месте мы уже проанализировали, каким образом появление программы охраны окружающей среды в английской сельской местности связано с парадоксальным усилением дисциплинарной регуляции ее посещений любителями природы (см.: [27]). Более того, определение пределов в категориях материальных количеств переносит политический центр тяжести на получение обязательств просто ограничить экономическое поведение вместо решения более фундаментальных вопросов о самом отношении между природным и социальным, на которое опирается текущее экономическое поведение. Другими словами, вместо того, чтобы определять сегодняшние «инвайронменталистские знания» как набор параметров социального поведения, социология может поставлять информацию для решения проблем окружающей среды в такой ключевой области, как исследование социальных источников, участвующих в производстве упомянутых знаний, и их вкладов в формирование характера последующих дебатов.
Этот тип социологического исследования начинает приносить плоды в направлении «деконструкции» методик и методологий, которые в настоящее время употребляются при изучении экологической проблематики. Существующая в Ланкастере исследовательская программа включает изучение социологии научных знаний, информирующих о глобальном изменении окружающей среды. Посвященная рассмотрению принципиальных экологических проблем, включая глобальное потепление, кислотные дожди, охрану естественной среды обитания и восприятие экологического риска, эта программа сосредоточилась на культурно зависимом характере разных форм экологических знаний. Первые результаты показывают: то, что считается авторитетным научным знанием, в значительной степени представляет собой продукт активных взаимодействий и переговоров между учеными и политическими деятелями. К примеру, модели глобального изменения климата, центральные в спектре международных политических реакций на угрозы глобального потепления, скрыто опираются на сомнительные предположения о человеческом, институциональном и рыночном поведении.
Вторую область, где социология способна критически и конструктивно заниматься «культурными зависимостями» официальной науки, можно усмотреть в нынешних дебатах о восприятии риска. Например, в докладе «Риск» Королевского научного общества (1992 г.), особенно в пятой главе, дается довольно полное обозрение разных психологических, социальных и культурных подходов к проблеме восприятия риска (см.: [33]). Традиционно роль обществоведа в осмыслении восприятий риска публикой была близка к роли поставщика методик, позволяющих определить, как общество воспринимает риск конкретных опасных технологий при «объективной» оценке реального риска их использования (возможно, первейший пример здесь - ядерные технологии). Но появляется и более четко выраженный социологический подход, который отличается от других методологий (например, экономического анализа затрат и выгод, анализа принятых решений и математического анализа риска), используемых для определения восприятий риска, а также от ценностно-нагруженных суждений, на которые они опираются. Первый вызов ортодоксальным психологическим подходам бросила М. Дуглас (см.: [11; 12; 13]), в расширенном виде ее идеи получили название «культурной теории». В теории Дуглас доказывается, что необходимо определить культурное место индивидуальных восприятий риска в сети социальных и институциональных взаимоотношений, которые накладывают конкретные ограничения и обязательства на социальное поведение индивидов. В социологических понятиях культурная теория предлагает описывать отношение людей к риску через их образ жизни. Однако этот подход, ограничивший рассмотрение культурных процессов Двумя измерениями (в общей сети отношений и в группе), тоже критиковался за чрезмерные эссенциализм и упрощение более сложных оттенков в социальных различиях (см.: [23]). Менее детерминистскую схему для исследования социальных рамок, определяющих восприятие риска, развили Б. Уинн [44; 45; 47] и С. Джазанофф [22]. Они выступают за то, чтобы в расчет принимались более широкие социальные и культурные измерения, выраженные в озабоченности людей проблемой риска. Сосредоточиваясь на предположениях, которые делают эксперты при выборе основания для качественной и количественной оценки риска (по таким переменным как кредит доверия, двойственность и неопределенность в отношениях к риску), Уинн [47] показывает, что оценки экспертов зачастую резко расходятся со взглядами непрофессионалов и что, следовательно, «эксперты» неправильно понимают, как в действительности люди относятся к своей насыщенной риском окружающей среде.
С этим связан вопрос, каким образом более критически настроенная социология может бросить вызов техническим и естественным наукам, демонстрируя, что эти строгие науки сами держатся на каких-то социальных предпосылках, которые в «реальном мире» означают, что предсказания теории лабораторного происхождения не всегда работают в конкретных обстоятельствах этого «реального мира». Этот момент хорошо показан Уинном на примере воздействия осадков из Чернобыля на овцеводство в английском Озерном крае. Он так суммирует свои наблюдения: «Хотя фермеры признали необходимость ограничений, они не смогли принять, что эксперты явно игнорируют особенности их подхода при нормально гибкой и неформальной системе ведения дел в условиях контурного земледелия*. Эксперты полагали, что научное знание можно применять к контурному земледелию, не приспосабливаясь к местным условиям... Эксперты были невеждами в реальных тонкостях фермерства и пренебрегали местным знанием» [46, 45].
* То есть земледелия на склонах холмов.
Вышеупомянутые исследовательские программы указывают на появление новой роли социологии: давать более социально осведомленные и содержательные описания науки и других «авторитетных» источников знания, которые «пишут» теперь для нас экологическую программу. Описывая социальные, человеческие и культурные случайности так называемой объективной науки, социология может помочь не только лучшему пониманию этой программы, но и социально информированной политике, сознающей социальные предпосылки, на которые она опирается.
«Чтение природ» с социологической точки зрения
Начнем с замечания, что социология способна помочь в освещении множества социально разнообразных способов оценки окружающей среды. Что рассматривается и критикуется как противоестественное или экологически вредное в одну эпоху или в одном обществе, не обязательно считается таким в другое время или в другом обществе. Например, ряды стандартных домов, наспех возведенные во время капиталистической индустриализации в Британии XIX в., теперь рассматриваются не как оскорбление для глаз и разрушение визуальной среды, а как традиционные, затейливые и уютные образчики человеческой деятельности, вполне достойные сохранения. Сдвиги в восприятии даже более поразительны в случае с паровозом в Британии, столб дыма которого почти везде считают «естественным». Таким образом, «чтение» и производство природы есть то, чему учатся, и процесс обучения очень сильно варьируется в разных обществах, в разное время и в разных социальных группах одного общества.
Более того, социология может сделать непосредственный вклад в анализ и понимание социальных процессов, породивших определенные проблемы, которые принято считать «экологическими». В отличие от точки зрения наивного реализма, в соответствии с которой экологические проблемы появляются на свет последовательно по мере расширения научных знаний о состоянии среды, социологически ориентированное исследование смотрит на социальный и политический контекст, из которого приходят в мир экологические идеи, и тем самым дает более обоснованную оценку их социального значения.
Социальная и политическая канва современного инвай-ронментализма сложна. Она скрепляется с другими социальными движениями (см.: [17 ; 28]) и с разнообразными глобальными процессами. Так, теоретики отождествили инвайронментализм с новым полем борьбы против «саморазрушительного процесса модернизации» [15], тем связывая инвайронментализм с развивающейся критикой глобально планируемого общества (нечто похожее первоначально отражено в контркультуре 1960-х годов). Р. Гроув-Уайт [18] показывает, что самые понятия, которые ныне составляют ядро экологической программы, были связаны с процессом активного словотворчества в экологических группах 1970-1980-х годов в ответ на относительно более универсальные тревоги современного общества. Приводя конкретные примеры отношения к автострадам, ядерной энергетике, сельскому хозяйству и охране среды, Гроув-Уайт утверждает, что определенные формы экологического протеста были в такой же мере связаны с широко распространенным в обществе ощущением какого-то беспокойства из-за крайне технократизированной и неотзывчивой политической культуры, как и с любыми специальными оценками здоровья физической среды, т. е. того, что находится вне человека. Так что проблема «окружающей среды» осознавалась через ряд тем и политических событий, которые напрямую с нею как таковой и не были связаны.
Шершинский отмечает еще два обстоятельства. Во-первых, увеличился диапазон эмпирических явлений, которые начали считаться экологическими проблемами, а не просто показателями изменения окружающей среды. Так, автострады или атомные станции стали считаться разрушительными нововведениями, а не нормально продолжающимися изменениями, которые были бы в известном смысле «естественной» частью современного проекта (каковой в основном продолжали считать топливную энергетику [35, 4]). И, во-вторых, целый ряд событий оказался связанным воедино, так что их стали рассматривать как часть всеохватывающего экологического кризиса, поразительное число разных проблем которого одновременно считаются и частью самой этой окружающей среды и тем, что ей угрожает (см. также: [32]).
Дополнительно необходимо исследовать те наиболее фундаментальные социальные практики, которые способствовали социальному прочтению физического мира как экологически поврежденного. Существует, например, небольшая специальная работа о значении путешествий, которые в некоторых случаях могут обеспечить людей «культурным капиталом» для сравнения и оценки экологически различных состояний среды и развивать в них чувствительность к проявлениям деградации среды [38]. В ней подчеркивается, что именно недостаток путешествий в том пространстве, что называлось Восточной Европой, отчасти объясняет явную слепоту людей ко многим видам «повреждения» окружающей среды, как мы теперь знаем, очень распространенным во всем этом регионе. К другим социальным явлениям, которые могли бы внести свой вклад в становление экологического сознания, относится появление недоверия к науке и технике, а также сомнения по поводу когда-то принятого на веру значения больших организаций для современных обществ.
Хотя инвайронментализм может выглядеть как движение, большей частью противоречащее основным компонентам эпохи модерна, имеются, однако, такие черты последней, которые способствовали повышению экологической чуткости, особенно в прочтении природы как углубляющейся глобальной проблемы. Так, например, появление мировых институтов вроде ООН и Всемирного банка, глобализация деятельности групп защитников среды обитания таких, как «Всемирный фонд сохранения дикой природы», «Гринпис» и «Друзья Земли», а также развитие глобальных объединений по производству информации - все это помогло ускорить рождение чего-то вроде нового глобального самосознания, в котором процессы изменения окружающей среды все больше осознаются как всемирные и планетарные. Конечно, можно спорить, действительно ли эти процессы глобальнее по масштабам, чем многие прежние экологические кризисы, которые люди были склонны толковать как локальные или национальные. Определение «глобальное» в глобальном изменении окружающей среды - это отчасти политическая и культурная конструкция (см.: [48]).
Итак, мы приняли как данность, что, строго говоря, не существует такой вещи как природа вообще, имеются только «природы». В сравнительно недавнем исследовании Шершинский описывает два ключевых направления, в которых в последние годы предпринимались попытки концептуализировать природу (см.: [35], а также кое-какие данные в: [10]). Во-первых, ныне принято употребление понятия природы для обозначения феномена, которому угрожает опасность. Этот смысл можно усмотреть в панических высказываниях по поводу редких и вымирающих видов, особенно зрелищных и эстетически приятных; в восприятии природы как набора ограниченных ресурсов, которые надо беречь для будущих поколений; в представлении о природе как собрании правовых субъектов, особенно животных, но также и некоторых растений (см.: [7; 31]); и в образе природы как здорового и чистого тела, находящегося под угрозой и страдающего от загрязнения, той самой природы, которая, по словам Р. Карсон, быстро становится «морем канцерогенов» [35, 19-20; 8].
Второй комплекс представлений о природе строится на понятии о ней как об источнике чистоты и моральной силы. Здесь природу толкуют как объект любования, прекрасный и возвышенный; как пространство для отдохновения и вольных скитаний; как возможность возврата из современного общества отчуждения в органическое малое сообщество; и как целостную экосистему, которую надо сохранить во всем ее разнообразии и взаимозависимости, включая, конечно, влиятельную гипотезу «Геи»*[26].
* Гипотеза, в которой Земля рассматривается в качестве более или менее сознательного индивида - Прим. перев.
Эти разные концепции природы частично обеспечили культурную оснастку для развития современного экологического движения; как уже отмечалось выше, они смогли функционировать в этом качестве лишь тогда, когда была открыта «окружающая среда» как таковая. Следует отметить еще, что первоначальная концептуализация многих из этих «природ» проходила в контексте национального государства. Аргументация в пользу консервации, сохранения, восстановления и т. д. строилась на основе национальных ресурсов, которые поддавались планированию и управлению. С другой стороны, современный инвайронментализм должен был «изобрести» цельный земной шар или единую землю, которая вся целиком видится как находящаяся в опасном положении или, иначе, рассматривается через отождествление с природой как некий моральный источник. Наша дальнейшая исследовательская задача состоит в том, чтобы определить, были ли (и в какой мере) условия для появления этого «глобального дискурса» вокруг природы заложены самими модернистскими процессами глобализации, или же все это было скорее результатом чисто мыслительных сдвигов, осуществленных движением интеллектуалов, вырабатывающих идеи и образы, вроде «голубой планеты», которые все более становятся разменной монетой в нашем нынешнем «хозяйстве знаков» (см.: [35, Ch. 1; 24]).
Социология экологического «ущерба»
Третье направление, в котором социология может способствовать пониманию экологических вопросов, - это исследование социальных процессов, которые в настоящее время производят то, что признается обществом вредным для окружающей среды. О многих из этих процессов ныне теоретизируют в социологии, но редко в их экологических аспектах (таких как потребительство, туризм и глобализация). Почти все проблемы «окружающей среды» вытекают из конкретных образцов социального поведения, связанных с доктриной человеческой исключительности и разделением «природы» и «общества».
Потребительство представляет собой особенно существенный социальный феномен. Теперь достаточно хорошо установлено, что в структурной организации современных обществ произошел какой-то сдвиг, в результате чего сильно изменились формы массового производства и массового потребления. Этим мы не хотим сказать ни того, что вся экономическая деятельность когда-то была «фордистской» (большая часть индустрии обслуживания таковой не была), ни того, что сегодня будто бы остаются не очень значительные элементы «фордистского» производства. Однако для нас важны четыре сдвига в структурном значении и характере потребления: огромное расширение спектра доступных ныне товаров и услуг, благодаря существенной интернационализации рынков и вкусов; возросшая семиотизация продуктов, так что знак, фирменная марка, а не потребительская стоимость становится ключевым элементом в потреблении; крушение некоторых «традиционалистских» институтов и структур, почему потребительские вкусы стали более подвижными и открытыми; и возрастание важности образцов потребительского поведения в формировании личности и отсюда некоторый сдвиг от власти производителя ко власти потребителя (см.: [24], а также скептические замечания [40]).
Здесь вполне уместны рассуждения 3. Баумана. Он утверждает, что «в сегодняшнем обществе потребительское поведение (свобода потребителя, приспособившаяся к потребительскому рынку) настойчиво стремится занять положение одновременно познавательного и морального средоточия жизни, стать объединительной скрепой общества... Другими словами, занять такое же положение, какое в прошлом, на протяжении фазы модерна в капиталистическом обществе, занимал труд» [3, 49].
При этом начинает господствовать принцип удовольствия как таковой. Поиски удовольствия превращаются в долг, поскольку потребление товаров и услуг становится структурной основой западных обществ. И потому в процессе социальной интеграции меньше используются принципы нормализации, ограничения и дисциплинарной власти, описанные Фуко, да, впрочем и самим Бауманом для случая массового истребления евреев [2]. Вместо этого интеграция осуществляется путем «соблазнения»* на рынке, через смесь ощущений и чувств, порождаемых созерцанием, осязанием, слушанием, пробованием, обонянием и самим движением сквозь все то необыкновенное разнообразие товаров и услуг, мест и сред, которое характеризует современное потребительство, организованное вокруг особой «культуры природы» (см.: [43]). Это современное потребительство благополучных двух третей населения в главных западных странах порождает стремительно меняющийся огромный спрос на различные продукты, услуги и места. Современные рынки живут на переменах, разнообразии и расхождениях во вкусах, на подрыве традиций и единообразия, на предложении продуктов, услуг и мест, выходящих из моды почти так же скоро, как они входят в моду.
* Возможно, это намек на известную книгу Ж. Бодрияра - Прим. перев.
Мало причин сомневаться, что эти образцы современного потребительства имеют губительные последствия для окружающей среды. Они выражаются в дырах в озоновом слое планеты, глобальном потеплении, кислотных дождях, катастрофах на атомных станциях и омертвению многих местных зон обитания. В своих крайних проявлениях потребительство может повлечь получение или закупку новых частей для человеческого тела - процесс, который подрывает ясный смысл различения естественной телесной внутренней среды, противопоставляемой несродной телу внешней среде (см.: [34]).
Такое западное потребительство, где «природа оказывается превращенной в простые поделки для потребительского выбора» [34, 197], вызвало обширную критику со стороны экологического движения, а она в свою очередь видится как часть еще более широкой критики всей эпохи «модерна» . Но следующий заключенный здесь парадокс состоит в том, что само развитие потребительства способствовало появлению сегодняшней критики, живописующей деградацию окружающей среды, и особой культурной сосредоточенности на «природе». Весь инвайронментализм можно представить как предварение определенного рода потребительства, на том основании, что одним из элементов потребления является усиленное размышление о разных местах и средах, товарах и услугах, «потребляемых» буквально благодаря нежданным социальным встречам с ними, или визуальное знакомство (см.: [38]). По мере того как люди размышляют о таком потреблении, у них развиваются не только обязанность потреблять, но также и определенные права, включая права гражданина как потребителя. Эти права включают уверенность в том, что люди имеют право на определенные качества окружающей среды, воздуха, воды, звукового фона и пейзажа, и что это право в будущем должно распространяться и на все другие (незападные) народы. В современных западных обществах начался сдвиг центра тяжести в самом основании идеи гражданства: от политических прав к правам потребителя, а внутри последних - к экологическим правам, особенно связанным с концепциями природы как зрелища и места отдохновения. Некоторые из этих прав также начинают рассматриваться как международные, поскольку с развитием массового туризма западные люди во все большей степени становятся потребителями окружающих сред вне своей национальной территории и как таковые развивают систематические ожидания соответствующего качества этих сред.
Однако процессы интенсификации, связанные с това-ризацией почти всех элементов общественной жизни, породили и соответствующую интенсификацию нерыночных форм поведения и социальных отношений. Строительство отношений на побуждениях, возможно, более человечных в «классическом» понимании (как у людей, пытающихся вести относительно альтруистическую, неэгоистическую жизнь и действующих по образцам солидаристского, взаимозависимого, нерыночного поведения), приводит к появлению множества напряжений между конфликтующими рациональностями - рыночной и нерыночной. И действительно, в своих крайностях социальная критика потребительски ориентированного общества направлена к новым формам социальной организации (противопоставляемым организации вышеописанных потребительски ориентированных групп), чья сущность выявляется в открытом сопротивлении потребительским принципам. Эти новые социальные движения (типа «Саботажников охоты», «За права животных», «Спасем Землю» и других групп прямого действия), часто возникавшие как ответ на ощущение угрозы экологических злоупотреблений и вытесняемые из леги-тимной сферы государственно регулируемого, потребительски ориентированного действия, ныне испытывают более откровенные притеснения (очень показательный пример этого процесса - предлагаемая реформа уголовного судопроизводства в Англии, специально метящая в эти «проблемные» группы). Поэтому будущей темой исследования становится то, что можно назвать «экологическим отклоняющимся поведением».
Инвайронментализм и общество
Этот последний раздел посвящен вопросу, как может социология помочь пониманию роли экологической программы в структурном формировании и культурном преобразовании современного общества.
Одна из областей, популярных в нынешнем социологическом теоретизировании (особенно после перевода на английский книги У. Бекка «Общество риска» ([5]), - это споры о текущем состоянии постмодернистского общества (или общества позднего модерна) и о культурных последствиях новых форм рефлексивности. Э. Гидденс, к примеру, доказывает, что в эпоху модерна рефлексивность состояла из социальных практик, постоянно проверявшихся и пересматривавшихся в свете информации, поступавшей от самих этих практик, и таким образом изменяла их строение. По его мнению, только в это время распространяется ревизия культурных условностей, радикализированная до приложения (в принципе) ко всем сторонам человеческой жизни, включая технологическое вмешательство в материальный мир*.
* Авторы имеют в виду книгу: GiddensA. Modernity and Self-Identifity. Cambridge: Polity Press, 1991.
Такая рефлексивность направляет методы западной науки, этого истинного воплощения модерна, которая, однако, в качестве деятельности не более легитимна, чем многие другие виды социальной деятельности, каждый из которых включает разные формы самооправдания. Науке не приписывают теперь обязательно цивилизующую, прогрессивную и освободительную роль в открытии того, что есть природа. Во многих случаях наука и связанные с нею технологии рассматриваются сегодня как проблема, а не решение. Особенно это относится к ситуации, где мы фактически имеем дело с масштабными и неконтролируемыми научными экспериментами, лабораторией для которых служит весь земной шар или значительная часть его (как при накоплении ядовитых отходов, использовании химических удобрений, атомной энергии и т. д.). В обществе риска наука выглядит производителем большинства видов риска, хотя они по большей части не воспринимаются нашими чувствами.
Утрата всей наукой «автоматического» общественного авторитета ослабляет и легитимность экологических (и медицинских) «наук». Само признание риска зависит от таких наук по причине «нарастающего бессилия органов чувств» как, например, в случае химического и радиоактивного загрязнения (см.: [4, 156; 14]). В свою очередь это оборачивается проблемой для зеленого движения, поскольку такого рода науки по необходимости оказываются в центре многих кампаний, проводимых экологическими неправительственными организациями, даже если они до сих пор сохраняют склонность использовать здесь науку в тактических целях, возможно, чисто инстинктивно упирая на неопределенность и нежесткость, присущие многим частным наукам (см.: [50]). Недавно Б. Уинн и С. Майер доказывали необходимость более взвешенного и морально защитимого применения науки в формировании и внедрении в жизнь экологической политики [49]. Социология в состоянии продвигать этот спор дальше, изучая вопрос о возможном облике некой более рассудительной «зеленой» науки. Вышеназванные движения предоставляют хорошие возможности для социологического исследования новых форм социального уклада и структуры, вырастающих из реакций общества на инвайронментализм. В дальнейшей разработке нуждается одна из линий аргументации, где вышеупомянутые процессы толкуются как симптомы более широкого культурного процесса индивидуализации и детрадицио-нализации (см.: [5; 6; 21; 24; 39]). Утверждают, что подобные процессы ведут к появлению менее институционали-зированных форм самосознания и социального уклада. Такие институты как наука, церковь, монархия, нуклеарная семья и формальные правительственные структуры, похоже, теряют легитимацию (появление мозгового центра DEMOS - одно из проявлений этого процесса) и все более видятся как часть проблемы, а не найденное решение, ведущее к новым, более свободным формам общественного уклада, включая развитие новых социальных движений или, как мы предпочитаем говорить, «новых социаций»* (см.: [39]). Фактически появление новой сферы политического в форме нежестких, непартийных и самоорганизующихся содружеств и ассоциаций, часто в форме групп самопомощи, коммунальных групп и добровольных организаций, связано с тем, что Бекк описал как новую динамику «субполитизации», в силу которой государство сталкивается со все более разнородным и разнонаправленным множеством групп и социаций меньшинств [6].
* Учитывая, что словом «sociation» в английском языке традиционно передается зиммелевское «Vergesellschaftung», можно говорить здесь о «новых обобществлениях».
Уже имеется ряд характеристик таких социаций [20; 39]. Во-первых, они не похожи на традиционные объединения общинного типа, поскольку люди соединяются в них по собственному выбору и свободны покинуть их в любое время. Во-вторых, люди дорожат членством в них отчасти из-за эмоционального удовлетворения, которое они извлекают из общности целей или общих социальных переживаний. И, в-третьих, поскольку членство зависит от выбора, то состав таких социаций будет обновляться стремительно. Эти характеристики наилучшим образом определяют социаций в качестве современных экспериментальных площадок, где можно опробировать новые виды социальной идентичности. Подобные социаций предоставляют людям определенные возможности, обеспечивая относительно безопасные места для проверки их самоопределения (идентификации) и подходящий контекст для приобретения новых умений. Такие новые детрадиционализированные социаций можно классифицировать по степени децентрализации власти, ее удаленности от центра, по степени формальной спецификации организационной структуры, по степени и формам участия в общественной жизни на местном уровне, по типам действия, возникшим благодаря членству в социаций, и по степени осмысленности членства в организации. Необходимо особое исследование, чтобы понять значение этого нового стиля социальной организации, понять степень его вклада в новые политические реальности и последствия для теперешнего изучения инвайронментализма как нового социального движения. Появление новых социаций вокруг проблем окружающей среды говорит о том, что развиваются особые формы социальной идентичности, которые подразумевают прорыв за пределы относительно изолированных сфер общества и природы и своеобразное восстановление гражданского общества [21, Ch. 7] (о чем свидетельствуют массовые наблюдения за процессами «позеленения» людей).
Существуют интересные связи между такими новыми социациями и обсуждавшимся нами раньше восприятием кризиса окружающей среды как глобального. Данные о «глобальном» или холистском воззрении на природу можно найти в массе межправительственных и правительственных договоров, конвенций и документов, ставших результатом нынешней сосредоточенности на проблеме поддержания ее жизнеспособности* (доклад Брундтланд говорит о «нашем общем будущем» отчасти именно из-за глобального характера определенных угроз природе, начиная с «ядерной» угрозы). Формированию такого восприятия помогло развитие глобальных средств массовой информации, которое породило «воображаемое сообщество»** всех обществ, живущих на единой Земле (отсюда «Друзья Земли»). Однако наряду с массой глобалистских процессов существует и новый набор интересов, касающихся культурно определенных локальных сред. Диапазон этих местных интересов, вокруг которых возможна мобилизация людей, необычайно широк. Если брать примеры из Северной Англии, то это и усилия по консервации шлаковых отвалов в Ланкашире, и кампания с целью запретить разметку желтыми линиями на некоторых дорогах в Баттершире, и сильное сопротивление восстановлению на том же месте сгоревшего рынка в Ланкастере.
* Примеры важнейших стратегических межправительственных документов по проблеме жизнеспособности, которые помогли сформировать и внедрить идею «глобальной» природы, включают «Стратегию консервации мира» (1980), доклад Г. X. Брунтланд «Наше общее будущее» (ООН, 1987), «Программу, инспирированную Всемирным фондом сохранения дикой природы» на сессии UNCED в Рио и пятую программу действий Европейского Сообщества по сохранению среды и поддержанию устойчивого развития.
** Термин взят из названия знаменитой книги: Anderson В. Imagined Communities. L.: Verso, 1983.
Следовательно, в наличии имеется множество экологических идентификаций, локальных и глобальных, рационалистических и эмоциональных, ориентированных пейзажи -стски-созерцательно и утилитарно, и т. д. (более подробно см.: [35]). В обществах постмодерна эти множественные сознания, по-видимому, и дальше будут становиться все более заметными. Поэтому нам нужно развивать социологию, которая изучает этот феномен явно возрастающей значимости «экологических идентичностей» в современных обществах, идентичностей, которые часто несут с собой сложный узел взаимопереплетающихся глобальных и местных интересов. Статистическим доказательством важности этих самосознаний может служить огромное увеличение численности почти всех экологических организаций в 1980-1990-х годах*.
* На конец 1993 г. наиболее признанные экологические организации продолжают расти при уже очень большом числе своих членов. Тогда в Англии «Гринпис» поддерживали 390 тыс. человек, «Друзья Земли» насчитывали 230 тысяч членов, «Национальное доверие» - свыше 2 млн. 200 тыс., «Королевское общество охраны птиц» - свыше 850 тыс. и «Королевское общество охраны природы» - свыше 250 тыс. человек.
Заключение
Итак, мы изложили некоторые задачи социологического подхода к проблеме окружающей среды. Он вырисовывается как долгая и сложная программа исследований, которая охватывает вопросы политической экономии, государства, гендера, науки, культуры, времени, новых социальных движений, проблему «другого» - т. е. фактически все темы, интенсивно изучаемые ныне социологией. Эта экологическая программа предоставляет социологии благоприятную возможность распутать сложные образцы поведения, развивающиеся из сегодняшних реакций на «природу» и на удовлетворительность или неудовлетворительность официальных «авторитетных» отчетов и политических программ.
Пересмотр вопроса о природе по-особому освещает также темы времени и пространства, которые с недавних пор обильно проникают в повестку дня социологии. Б. Адам очень интересно показала, насколько неубедительно обычное в социологии различение природного и социального времени. В этой науке стало общим местом, что социальное время включает изменение, прогресс и упадок, тогда как природные явления мыслимы и вне времени, и с привлечением концепции обратимого времени [1]. Адам доказывает, что указанное различение ныне нельзя удержать, поскольку почти вся наука XX в. выявила, что «природа» тоже описывается понятиями изменения и упадка: «Прошлое, настоящее и будущее время, историческое время, качественное переживание времени... - все эти характеристики времени признаны неотъемлемыми элементами в содержании естественных наук и часового времени, в понятиях инвариантной меры, замкнутого круга, совершенной симметрии и обратимого времени как творений нашего ума» [1, 150].
Общественные науки оперировали концепцией времени, не соответствующей подлинной концепции естествознания - неким почти «обезвремененным» временем. Нововведения науки XX в. сделали различение природного и социального времени несостоятельным и снова привели нас к заключению, что простого и жизнеспособного разграничения между природой и обществом не существует. Они неизбежно переплетены между собой. Поэтому мы имеем много разных времен (как фактически и много разных пространств) и нельзя точно определить социальное время, отдельное от времени природного.
Сказанное связано с нашим более общим замыслом - продемонстрировать разнообразие «природ». М. Стратерн указывает на один существенный парадокс в современных теоретических разработках [34]. Ясно, что с эмпирической точки зрения в них присутствует преувеличенная сосредоточенность на важности «природы», на оценивании «природного», на образах «природного» и на «сохранении природы». Но, как замечает Стратерн, эти преувеличения глубоко опосредованны культурой. Другими словами, культура необходима, чтобы спасать природу. Он указывает на своеобразный «концептуальный коллапс при проведении различий между природой и культурой, когда Природа не может выжить без вмешательства Культуры» [34, 174]. А если так, то остается ли какое-нибудь место «природе», когда она нуждается в культуре для своего, так сказать, воспитания? В прошлом вся сила «природы» заключалась в способе, каким фактически скрывалось от людских глаз ее культурное строение (см.: [25]). Но в современном мире неуверенности и двойственных отношений во всем этого больше недостаточно. И главной задачей общественных наук должна стать расшифровка социальных последствий того, что было всегда, а именно, природы, сложно переплетенной и основательно связанной с социальным.
Однако следует также отметить, что теперь эта природа меньше привязана к отдельным национальным обществам, к национальной «общности судьбы» и гораздо более взаимосвязана с тремя другими концепциями социального: глобального, включающего информационные и коммуникативные структуры; локального; и учитывающего сложные многообразия идентичностей в отношении природы и времени (см. более подробно: [2, Ch. 11]). Расшифровка этих взаимосвязей обещает нам богатую и трудоемкую исследовательскую программу, которая, возможно, выведет социологию с обочины в спорах о «природе».
ЛИТЕРАТУРА
1.Adam B. Time and social theory. Cambridge: Polity, 1990.
2.Bauman Z. Modernity and the holocaust. Cambridge: Polity, 1989.
3.Bauman Z. Intimations of postmodernity. L.: Routledge, 1992.
4.Beck U. An anthropological shock: Chernobyl and the contours of the risk society // Berkeley Journal of Sociology. 1987. Vol. 32. P. 153-165.
5.Beck U. Risk society: towards a new modernity / Trans. by M. Ritter. L: Sage, 1992.
6.Beck U. Individualisation and the transformation of politics // Conference paper. De-traditionalisation: Authority and Self in an age of cultural uncertainty. Lancaster Universoty. Lancaster, 1993.
7.Benton T. Natural relations. L.: Verso, 1993.
8.Carson R. Silent spring. Harmondsworth: Penguin, 1965.
9.Commission of the European Communities. Fifth Environmental Action Programme for the Environment and Sustainable Development. Brussels: CEC, 1992.
10.Dickens P. Society and nature. Hemel Hempstead: Harvester Wheat-sheaf, 1992.
11.Douglas M. Risk acceptability according to the social sciences. N.Y.: Russel Sage Foundation, 1985.
12.Douglas M. Risk as a forensic resource // Daedalus. 1990. Vol. 119. P. 1-16.
13.Douglas M. Risk and blame. L.: Routledge, 1992.
14.Douglas M., Wildavski A. Risk and culture: an essay on the selection of technological and environmental dangers. Berkeley: University of California Press, 1982.
15.Eder K. Rise of counter-culture movements against modernity: Nature as a new field of class struggle // Theory, Culture and Society. 1990. Vol. 17. P. 21-47.
16.ESRC. Global Environmental Change Programme. L.: ESRC, 1990.
17.Eyerman R., Jamison A. Social movements: a cognitive approach. Cambridge: Polity, 1991.
18.Grove-MTiite R. The emerging shape of environment conflict in the 1990’s // Royal Society of Arts. 1991. Vol. 139. P. 437-447.
19.Grove-White R., Szerszynski B. Getting behind environmental ethics // Environmental Ethics. 1992. Vol. 1. P. 285-296.
20.Hetherington К. The geography of the other: lifestyle, performance and identity. Ph. D. Dept of sociology. Lancaster University. Lancaster, 1993.
21.Jacques M. The end of politics // Sunday Times: The culture supplement. L, 1993.
22.Jasanoff S. Contested boundaries in policy-relevant science // Social Studies of Science. 1987. Vol. 17. P. 195-230.
23.Johnson B. The environmentalist movement and grid/group analysis: a modest critique // The social and cultural construction of risk / Ed. by B. B. J. and V. T. Covello. Dordrecht: Reidel, 1987.
24.Lash S., Urry J. Economics of signs and space. L.: Sage, 1994.
25.Latour B. We have never been modern / Transl. by C. Porter. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993.
26.Lovelock J. The ages of Gaia: a biography of our living earth. Oxford: Oxford University Press, 1988.
27.Macnaghten P. M. English landscapes of discipline and transgression / Unpublished paper. CSEC. Lancaster University, 1994.
28.Melticci A. Nomads of the present: social movements and individual needs in contemporary society. L.: Radius, 1989.
29.Newby H. Ecology, amenity and society: social science and environmental change // Town Planning Review. Vol. 61. P. 3-20.
30.Newby H. Global environmental change and the social sciences: retrospect and prospect / Unpublished. 1993.
31.Plumwood V. Feminism and the mastery of nature. L.: Routledge, 1993.
32.Porritt J. Seeing green: the politics of ecology explained. Oxford: Black-well, 1984.
33.Rubin C. Environmental policy and environmental thought: Ruckel-shaus and Commoner // Environmental Ethics. 1989. Vol. 11. P. 27-51.
34.The Royal Society. Risk: analysis, perception, management. L.: The Royal Society, 1992.
35.StrathernM. After nature: English kinship in the late twentieth century. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
36.Szerzynski B. Uncommon ground: moral discourse. Foundamentalism and the environmental movement. Ph.D. Dept of Sociology. Lancaster University. Lancaster, 1993.
37.UNCED. Our common future, UNCED. Switzerland: Conches, 1987.
38.UNCED. Agenda 21. UNCED. Switzerland: Conches, 1992.
39.Urry J. The tourist gase and the «Environment» // Theory, culture and society. 1992. Vol. 9. P. 1-22.
40.Urry J. Social identity, leisure and the countryside // Leisure uses of the countryside / Ed. by R. Grove-White, J. Darrall, P. M. Machaghten, G. Clark, J. Urry. L.: CPRE, 1993.
41.Warde A. Consumers, identity and belonging; reflections on some theses of Zygmunt Bauman // The authority if the consumer / Ed. by R. Keat, N. Whi-teley, N. Abercrombie. L.: Routledge, 1994.
42.Williams R. Ideas of neture // Ecology, the shaping of enquiry / Ed. by J. Rental!. L.: Longman, 1972.
1.Социология природы 291
43.Williams R. Keywords: A vocabulary of culture and society. L.: Fontana, 1976.
44.Wilson A. The culture of nature: North American landscape from Disney to the Exxon Valdez. Cambridge MA: Blackwell, 1992.
45.Wynne B. Rationality and ritual: The windscape inquiry and nuclear decisions in Britain. Chalfont St Giles: British Society for the History of Science, 1982.
46.Wynne B. Understanding public risk perceptions // Environmental threats: Perception, analysis and management / Ed. by J. Brown. L.: Belhaven, 1989.
47.Wynne B. After Chernobyl: Science made too simple // New Scientist. 1991. 1753. P. 44-46.
48.Wynne B. Risk and social learning: Reification to engagement // Theories of risk / Ed. by S. K. and D. Golding.
49.Wynne B. Scientific knowledge and the global environment // Social theory and the global environment / Ed. by E. Benton, M. Redclift. L.: Rout-ledge, 1994.
50.Wynne В., Meyer S. How scienece fails the environment // New Scientist. 1993. 1876. P. 33-35.
51.Yearley S. The green case. L.: Harper Collins, 1991.
Гай Оукс ПРЯМОЙ РАЗГОВОР ОБ ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ ТЕОРИИ*
Сплошь эксцентричное
Для постмодернистского движения на нынешней стадии его эволюции более всего характерно культивирование необычных форм интеллектуализма. Один из наиболее колоритных и свежих продуктов его развития - это «эксцентричная теория», недавно воспетая в дискуссии на страницах журнала «Sociological Theory»[22]**.
* Oakes G. Straight thinking about queer theory.
** Благодарю Бердетт Гарднер за замечания к первому варианту данной статьи.
Социальные теории всегда паразитировали на философии. Об их зависимости от влиятельных направлений академической философии соответствующей эпохи свидетельствует, например, тот факт, что Маркс многим обязан Гегелю, а неокантианское движение оказало сильное влияние на Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма и М. Вебера. Следует также упомянуть взаимоотношения американского прагматизма и Чикагской социологической школы, попытки в рамках ведущих направлений социальной теории удовлетворить суровым требованиям логического позитивизма, а также связи между критической социальной теорией и европейской неомарксистской философией. Эксцентричная теория - продукт вульгаризации совсем недавнего европейского (преимущественно французского) постфилософского критицизма, в основном, произведенный американскими академическими защитниками антигетеросексуальной (т. е. противниками разнополой) политики в самоопределении, или идентификации индивида*.
Эксцентричные теоретики изображают свой проект как сознательную и бескомпромиссную программу теоретической критики, или трансгрессии**. С пылом молодого Маркса лево гегельянского периода эксцентричная теория проповедует беспощадную критику всего существующего. «Эксцентричность, - говорят нам, - это всеобъемлющая идентичность, которая бросает вызов и сопротивляется окостенению частных определений человеческой индивидуальности и категорий познания» [11, 243], а эксцентричная теория подразумевает «теоретическую чувствительность к проблематике трансгрессии или вечного мятежа» [17, 173]. Цель эксцентричной теории - предпринять «массированное нарушение границ всех условных категорий познания и способов анализа» [19, 182]. «Переступательный» порыв эксцентричной теории с особой страстью обрушивается на принятую таксономию сексуальности, строящуюся вокруг противоположения гетеро- и гомосексуального - полярности, само существование которой эксцентричные теоретики приписывают нахальной самонадеянности XIX в. Отсюда их обязательства «расстроить гетеросексуальную гегемонию», «сдвигая с привычного места гетерооексуальность, гомосексуальность и отношения между ними» [15, 230].
* Участники симпозиума, кажется, особенно благосклонны к следующим авторам: [2; 14; 3; 10; 13]. Лайза Дагген характеризует Седжуик - весело, но также и совершенно серьезно - как «Джуди Гарленд» гомосексуальных исследований (см.: [4, 24]).
** В данном случае «трансгрессию» можно истолковать как «систематическое переступание границ». - Прим. перев.
Оспаривая устойчивые на вид категории, эксцентричные теоретики применяют свое оружие не только против господствующей гетеросексуальности, но и против лесби-янства и мужской гомосексуальности. Фактически эксцентричная теория нападает на существующий «режим сексуальности как таковой» [17, 174]. Ее приверженцы утверждают, что конечный принцип, на который этот режим опирается, - это исчерпывающая бинарная оппозиция гомосексуальности и гетеросексуальности. И потому в итоге и универсализация эксцентричности», и построение эксцентричной теории зависят от того, удастся ли оспорить предположение, что эта дихотомия дает достаточное основание для объяснения сексуальности.
Вероятно из-за иконоборческого рвения эксцентричных теоретиков, горячо убежденных в своей причастности к героическому штурму цитадели гетеросексуальности, у них возникают фантазии, свойственные герметическим сектам посвященных: иллюзии относительно своей оригинальности и отваги - будто бы ими сказано новое слово, которого никто прежде не произносил, и раскрыто нечто остающееся скрытым от непосвященных. Эту веру в теоретическую оригинальность эксцентричного воображения можно поддерживать, только практикуя подозрительные «умолчания» о классических социологических подходах к анализу модерна. По-видимому, эксцентрическим теоретикам понадобится еще и обвинять авторов таких подходов в невежестве или предрассудках, помешавших им адекватно исследовать, как сформировалась современная концептуализация и организация сексуальности, где аналитики приписывают привилегированный статус собственному биологическому (sex) и социокультурному (gender) полу. Заявления, будто социологические классики молчат о поле и тендере, будто они «никогда не рассматривали социальное формирование современного порядка регуляции тела и сексуальности» [17, 167], безусловно ложны. Например, Георг Зиммель, ни разу не упомянутый ни участниками симпозиума, ни их излюбленными авторами, пространно, систематически и на протяжении всей карьеры писал о немецком женском движении своего времени, социальном производстве альтернативных кодов и концепций женственности, мужественности и эротизма, а также о теориях формирования половой идентичности, называемых теперь «эссенциализмом» и «конструктивизмом» (см. следующие работы Зиммеля [20]*).
* Некоторые из этих материалов стали доступны десять лет назад на английском языке (ел.: [21]).
Абсолютной убежденностью в правоте воображаемого этически просвещенного авангарда, атакующего морально обанкротившуюся ортодоксию, можно объяснить и курьезную предрасположенность эксцентричных теоретиков хвалить друг друга за «смелость» [17, 174; 9, 203; 13, IX- X], судя по всему - без малейшей иронии. Эксцентричные теоретики вращаются в кругу самых престижных американских институтов высшего образования, включая Ам-херст, Корнелл, Дьюк, университеты Джонса Хопкинса и Уэсли, Принстон и Йель. Их исследования публикуют ведущие журналы и академические издания и поддерживают такие организации, как «Американский совет научных обществ», «Институт высших исследований» и «Фонд Гуг-генхейма». Вероятно эти триумфы в устройстве карьеры должны оставлять всех не столь щедро взысканных институционной благодатью с открытым ртом от восхищения, удивления и зависти. Несмотря на приличные ассигнования на преподавание, интерес студентов, поощрительное отношение коллег и щедрое финансирование отпусков на разные внеучебные путешествия и исследования, эксцентричные теоретики упорно подчеркивают «риск», которому они подвергаются. Такое нагнетание псевдоопасностей, видимо, только и возможно на почве экстравагантного этического нарциссизма или колоссального самообмана.
Философский молот, которым размахивает эксцентричная теория, угрожая деструкцией принятым сексуальным таксономиям, - это радикальное истолкование доктрины социального конструктивизма. Оно заключается в том, что социальная реальность не является неким ансамблем объектов, существующих независимо от человеческих намерений, целей и интересов. Социальный мир надо понимать как артефакт, сконструированный или конституированный в процессе дискурсов и практик, продуцирующих социальные категории и таксономии. Поскольку социальные категории суть продукты человеческой деятельности, их можно считать просто «изобретениями». Социальные категории всегда искусствены и ни одна из них не обладает привилегией на окончательную «подлинность» или общезначимость. Все они контингентны*, произвольны, подвижны и неустойчивы, «постоянно открыты и оспоримы». Фактически нам говорят, что дестабилизация социальных категорий влечет за собой не только их произвольность и текучесть, но и их внутреннюю несовместимость, взаимопротиворечивость. Так как выбор среди социальных категорий нельзя обосновать логически или эмпирически, он Должен быть понят как «прагматическое» решение, основанное на соображениях «ситуационного преимущества, политического выигрыша и концептуальной полезности» [17, 173; 11, 241, 243]**.
* То есть способны быть замененными и другими. - Прим. перев.
** О роли социального конструктивизма в эксцентричной теории см.: [7; 8; 12]. Стивен Эпстайн, один из участников симпозиума, организованного журналом «Sociological Theory», утверждает в другом месте: «Поскольку существует логически когерентный теоретический взгляд на гомосексуальность именно как на гомосексуальность, он превращается в конструктивизм» (см.: [6, 13п]). О радикализации коструктивистской концепции социальной реальности см.: [16].
Если же «все культуры исторически контингентны и придуманы» и если социальный мир с определяющими его категориями пребывает в вечном движении, тогда то же самое должно быть верным и для сексуальных категорий и таксономии. Поэтому дестабилизация социального знания вдобавок ко всему прочему «проблематизирует гетеросексуальную точку отсчета», подвергая сомнению и ге-теросексуальность как всеобщую норму, и общезначимость дихотомии гетеросексуальное/гомосексуальное [19, 185; 11,241].
Вопреки навязчивым повторам своих утверждений об искусственности, контингентности и нестабильности социальных категорий, эксцентричные теоретики настаивают на уникальном концептуальном статусе сексуальности и наивысшей важности пола как главного ключа к социальной идентичности. Даже если «все культуры конструируются» и значения устанавливаются как результат «вечных притирок» социальных категорий друг к другу, «сексуальность и культура и далее будут центральными социальными темами». Отсюда следует, что категория сексуальности удержится «на переднем плане социальной теории» [11, 245].
Нижеследующий анализ сосредоточен на нескольких догматах эксцентричной теории: доктрине радикального конструктивизма; концепции социальной идентичности; принципе трансгрессии и эксцентричной концепции культуры.
Парадоксы радикального конструктивизма
Эксцентричная теория утверждает, что все социальные категории и концептуальные схемы суть социальные конструкты, произвольные измышления, не имеющие никакой обязывающей достоверности. Разумеется, радикальным конструктивизмом можно назвать также и концептуальную схему, придуманную социальными теоретиками, которые отвергают эмпирицистскую и реалистскую эпистемо-логию. Но если радикальный конструктивизм признает лишь чистые социальные конструкты, он не может притязать на какую-либо общезначимость. А это значит, что нет разумных оснований для предпочтения радикального конт-руктивизма любым другим способам анализа социальной реальности, включая и те, с которыми он несовместим. Радикальный конструктивизм, этот философский молот эксцентричной теории, рассыпается в пыль при попытке им воспользоваться.
Своим радикальным конструктивизмом эксцентричные теоретики намерены подорвать легитимность определенных «гегемонистских» категорий и дихотомий (вроде гете-росексуальности и бинарной оппозиции «гетеросексуальное/гомосексуальное»), попросту доказав, что они являются социальными конструктами. Но похоже, что эти теоретики недооценивают саморазрушительную силу собственной аргументации. По той же логике, наряду со всеми прочими социальными конструктами, лишается всякой достоверности и сам радикальный конструктивизм. Положение эксцентричной теории здесь безвыходное. Из посылок радикального конструктивизма следует, что он сам всего лишь социальный конструкт, после чего рушится его общезначимость и база эксцентричной теории.
Радикальный конструктивизм порождает также бесконечный регресс. Он предполагает, что данная социальная категория, например «гетеросексуальность», социально сконструирована из определенных практик и дискурсов. Эти практики и дискурсы, в свою очередь, социально сконструированы из других практик и дискурсов, которые сами сконструированы и т. д. Гетеросексуальность, практики и дискурсы, на которые она опирается, а также более отдаленные практики и дискурсы как основа первых - все это разоблачается как произвольные изобретения простым указанием на их социальную сконструированность. В принципе эта цепь доказательств бесконечна. Она либо уводит в дурную бесконечность, подрывая в этом попятном движении значимость каждой очередной категории, либо произвольно обрывает его, приписывая некую несоциально обусловленную значимость особо предпочитаемой категории, которая становится эпистемологическим неподвижным двигателем. Однако такое произвольное решение несовместимо с радикальным конструктивизмом. Вышеупомянутый регресс фатален для него, ибо и этот способ рассуждения не может уйти от судьбы любой другой концептуальной схемы. Он построен из социальных практик и дискурсов, которые также построены из других социальных практик и дискурсов, имеющих тот же гносеологический статус. Регресс к какой-то общезначимой практике или дискурсу, которые смогли бы обеспечить достаточную обоснованность радикальному конструктивизму, не может иметь успеха, так как, согласно самой же этой доктрине, такой практики или дискурса не существует. Поэтому радикальный конструктивизм может избежать подобного регресса и провозгласить свою общезначимость (тем самым отделяя себя от всех других концептуальных схем и освобождая себя от последствий собственных посылок), только если он решится противоречить самому себе. Выход не слишком удачный. Радикальный социальный конструктивизм либо порождает бесконечный регресс, отрицающий его притязания на общезначимость, либо, дабы пресечь эту нескончаемую редукцию, соглашается на противоречие самому себе.
Наконец, радикальный конструктивизм рефлексивно наносит удар по собственным притязаниям не только на общезначимость, но и на простую понятность. Если значимость всех социальных категорий подрывается указанием на то, что они социально сконструированы, то это распространяется и на категории, существенные для описаний строения общества, такие как понятия социального действия, социального смысла и социальных отношений. Если эти понятия лишить значимости, то понятие общества нельзя будет даже членораздельно выразить. В таком случае радикальный конструктивизм, который возможен лишь на базе какого-то понятия общества, недоступен разумному пониманию. В результате эта доктрина подрывает собственную логическую согласованность.
Парадоксы эксцентричной теории
Эксцентричные теоретики описывают свой проект на объективистском языке эпистемологического реализма, пытаясь тем самым охранить эксцентричную теорию от разрушительных следствии радикального конструктивизма. С одной стороны, эксцентричная теория проявляет особое нерасположение к бинарным оппозициям и, по-видимому, осуждает их все скопом, отдавая на расправу неумолимой логике радикального конструктивизма. С другой стороны, очевидно, что эксцентричная теория, в свою очередь, возможна лишь на базе оппозиций «эксцентричное/прямое» или «эксцентричное/ конвенциональное». Без этих или равноценных дихотомий эксцентричная теория не имела бы никакой опоры, чтобы начать свою атаку против общепринятой мудрости, и никаких позиций, с которых можно критиковать условные категории и переступать правила. Без какого-то эпистемологически привилегированного различения, на основе которого формируется понятие эксцентричности, соответствующая теория была бы невозможна [3, XV-XIX]. Эта теория вынуждена оберегать «универсализм эксцентричности» и предпосылки, на которые он опирается (включая центральное теоретическое положение категории сексуальности), от понятийного опустошения, производимого радикальным конструктивизмом. Короче говоря, эксцентричная теория проявляет пламенный энтузиазм, характеризуя на языке радикального конструктивизма все позиции, кроме одной. И эта одна позиция, конечно, та, которую она занимает сама.
Переиначив остроту Шопенгауэра, скажем, что радикальный конструктивизм - это не такси, из которого каждый может выйти, когда заблагорассудится. Цена, которую эксцентричная теория платит за свое освобождение из-под власти радикального конструктивизма, - непоследовательность. Из-за этой внутренней непоследовательности эксцентричная теория не в состоянии дать связный отчет о самой себе. Как могут эксцентричные теоретики избежать противоречия самим себе? Только оставаясь верными своим предпосылкам. Эксцентрики обязаны допускать, что бинарная оппозиция «эксцентричное/прямое» и понятие сексуальности - это просто социальные конструкты. То же самое верно для всех теоретических посылок эксцентричной теории, для понятий, используемых при построении этих посылок, и для критериев истинности и значимости, на которых основаны и ее посылки и понятия. Если строго следовать конструктивной логике и применять ее к самой эксцентричной теории, тогда проект такой теории предстанет всего лишь еще одним произвольным социальным изобретением. С логической точки зрения он имеет такой же непоследовательный теоретический статус как и все остальные позиции, отвергаемые эксцентриками. Результат? Эксцентричная теория оказывается либо самопротиворечивой, либо рефлексивно самоубийственной.
Парадокс идентичности
Чтобы свергнуть гегемонию гетеросексуальной идентичности в модернистской нормативной системе сексуальности, представители эксцентричной теории используют оружие радикального конструктивизма и предпринимают генеральное наступление против самого понятия социальной идентичности. Следуя логике радикального конструктивизма, они утверждают, что любая идентификация искусственна произвольна, непостоянна и самопротиворечива. Однако это мнимо универсальное развенчание понятия идентификации подрывает также идентичность самой эксцентричности и эксцентричного теоретика. Можно привести правдоподобные доводы в пользу того, что эксцентричная теория на ее теперешней программной и «прагматической» стадии служит, в основном, средством выделения, легитимации и навязывания идентичности эксцентричного теоретика. Это предположение способно объяснить примечательную склонность таких теоретиков к автобиографическим отступлениям и исповедальным примечаниям в их достаточно компактных, в остальном, теоретических писаниях. Эти личные добавки, как правило, затрагивают темы «Что я такое и как я вступил на этот путь» или «Во что я верю и почему это так важно» (см.: [19, 179 п2; 13, 54-63; 18])*
* Сидман признается в своей приверженности к «постмодерну», «прагматическим, оправдательным стратегиям, которые подчеркивают практический и риторический характер социального дискурса», а также прибегают к «генеалогиям, историческому деконструктивистскому анализу и социальным повествованиям местных рассказчиков», не задерживаясь ни для объяснений, зачем введены эти разнообразные элементы, ни для разбора их логической совместимости, по отдельности или в совокупности (см.: [18, 142 п58]). Если суть этого сидмановского исповедания веры в произнесении ритуальных заклинаний, по которым члены секты опознают друг друга, тогда вопросы логической согласованности и совместимости, необходимые при заявлении любой интеллектуально защитимой позиции, здесь, конечно, неуместны.
Но если всякая идентификация - это просто произвольный конструкт, почему мы должны всерьез воспринимать эксцентричную теорию и ее страдальцев?
На основании посылок самой эксцентричной теории, эксцентричный теоретик должен бы выглядеть как исторически контингентная, но очень свойственная концу XX в. разновидность экономически привилегированного и праздного интеллектуала, посвятившего себя профессиональному самоутверждению, поискам безопасности и престижа. Из-за преходящего и переменчивого характера всякой человеческой идентификации эксцентричные теоретики исчезнут, когда сойдут на нет удовлетворяющие их исторические условия существования. Эксцентричный тезис о самопротиворечивости идентичностей (нацеленный на изничтожение конвенциональных половых идентичностей, основанных на дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное») влечет даже более разрушительные последствия, чем названное выше. С таких позиций невозможно никакое последовательно проведенное понятие социальной идентичности, потому, что любое такое понятие будет противоречить самому себе. Этот тезис разрушает социальную идентичность эксцентричного и само понятие эксцентричности, на котором держится проект эксцентричной теории.
Парадокс трансгрессии
Главное критическое устремление эксцентричной теории - трансгрессия как беспощадная война со всеми социологическими категориями. Этот принцип влечет саморазрушительные последствия для программы эксцентричной теории. Атакуя все социологические категории, эксцентрическая теория неосторожно поражает и себя. Подобно теории Л. Троцкого о перманентной революции эксцентричная теория перманентного теоретического бунта самоубийственна в этой своей оргии многократного уничтожения всего без разбора. Например, ее представители отрицают положение, согласно которому сексуальность необходимо организована вокруг дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное». Они даже бросают вызов «режиму» сексуальности. Обе атаки предпринимаются от имени «всеобщей эксцентричности». Но она в эксцентричной теории имеет статус социологической категории - аксиоматической социологической категории par excellence. И, следовательно, «всеобщая эксцентричность» тоже становится жертвой всеобщего разорения, которым грозит социологии принцип трансгрессии.
Эксцентричная теория пускается в критику социологических категорий, чтобы лишить силы господствующие сексуальные таксономии. Из-за универсальных претензий этой критики она распространяется и на эксцентричную теорию. Поэтому, если воспринимать эту теорию серьезно, ее собственный принцип трансгрессии, дестабилизируя категории, обесценивает и саму теорию. В самом деле, если все социальные категории находятся в постоянном движении и не могут претендовать на общезначимость, то это же будет верным и для категорий, устанавливающих принцип трансгрессии. И опять эксцентричные теоретики поставлены здесь перед выбором между отречением от собственных предпосылок или принятием их самоубийственных следствий. Подобно философской доктрине радикального скептицизма, ставящей под сомнение все суждения, эксцентричная теория опровергает себя и тем самым не в состоянии породить никаких значимых критических последствий.
Парадокс эксцентричной культуры
Эксцентричная теория представляет культуру как изобретение. Все культурные артефакты суть исторически специфичные и произвольные продукты человеческой деятельности, ни один из которых не может притязать на общезначимость. По духу этой теории культуры каждая посылка эксцентричной теории осуждена на произвольность и познавательную бессвязность чистой выдумки. Радикальный конструктивизм, доктрина социальной идентичности, устанавливаемой путем «переговоров», и принцип трансгрессии - все это культурные изобретения, результаты особенных исторических условий, воздействующих на конкретных проводников эксцентричности. Как следствие, их притязания на общезначимость не более весомы, чем притязания отрицаемых ими позиций.
Так как сама эксцентричная теория культуры - тоже изобретение, она обесценивается подобной логикой рассуждения. Если культурные артефакты суть простые фабрикации, которым нельзя приписывать никакой общезначимости, тогда то же справедливо и для эксцентричной теории культуры. Она, подобно всем другим положениям эксцентричной теории, внутренне непоследовательна и не может быть изложена без самоопровержения.
Предостережение и заключение
Эксцентричные теоретики не смогут разделаться с этой критикой, сетуя, что она мол выражена в «фаллоцентрической» логике господства, являющейся продуктом модернистской гетеросексуальной интеллектуальности, что она несоизмерима с логикой эксцентричной теории и т. п. Вышеприведенные аргументы представляют собой имманентную критику, поражающую эксцентричных теоретиков их же собственным оружием, которое они выковали для битвы с империей зла, созданной гетеросексуальной социальной наукой. Разрабатывая лишь те предпосылки, которые извлечены из самой эксцентричной теории, мы атакуем ее согласно законам стратегии, установленным ее представителями для расправы со своими критиками. Эксцентричные теоретики торжественно возвещают также о своих ожиданиях, что их будут воспринимать всерьез, и пытаются определенными аргументами обосновать эти ожидания. Данный очерк, заимствуя их теоретический инструментарий, доказывает их полную несостоятельность.
Эксцентричную теорию губит то, что она нарушает некое правило, достаточно важное для всех социокультур-ных наук, чтобы заслуживать особого имени. Назовем его правилом теоретической рефлексивности и сформулируем так: любой теоретический принцип в социокультурных науках, претендующий на всеобщность, рефлексивен в том смысле, что он должен быть истинным и для самого себя. Такой принцип следует применять к нему самому, т. е. референты или объекты в сфере его действия должны включать сам этот принцип. Это правило основывается на том соображении, что всякое теоретическое утверждение в социокультурных науках, наделенное свойством неограниченной всеобщности, будет вынуждено ссылаться на самое себя. Поскольку социокультурные теории тоже суть социокультурные артефакты, то теория, притязающая на неограниченную всеобщность, должна обладать этим свойством самореферентности: объекты, охватываемые данной теорией, включают саму теорию. Именно в этом смысле истинность такой теории зависит от ее рефлексивности. Правило теоретической рефлексивности определяет источник саморазрушительных следствий эксцентричной теории. Так как ее посылки не могут ссылаться на самих себя, не порождая парадоксов, они не выдерживают проверки на рефлексивность.
Без сомнения существует некая причина, оправдывающая «эксцентричную манеру теоретизирования». В принципе, однако, она обязывает к практическому воплощению не больше, чем причина, побуждающая делать теорию увечной, неполноценной или ослабленной. Возможных направлений для развития социальной теории, хотя и не бесконечно много, но все-таки столько, что это поистине способно вызвать ужас. Вебер писал: «Жизнь в ее иррациональной действительности и содержащиеся в ней возможные значения неисчерпаемы...» [1, 413]. Что из этого следует? «Меняются мыслительные связи, в рамках которых «исторический индивидуум» рассматривается и постигается научно. Отправные точки наук о культуре будут и в будущем меняться до тех пор, пока китайское окостенение духовной жизни не станет общим уделом людей и не отучит их задавать вопросы всегда одинаково неисчерпаемой жизни» [1, 383].
Применительно к любого рода создаваемой теории, каковы бы ни были ее внетеоретические интересы и ее ценность в деле достижения каких-то политических целей, подтверждения социальной идентичности или карьерного продвижения, элементарный урок данного очерка гласит: теоретик должен располагать концептуальным аппаратом, который не рушится под тяжестью собственных противоречий.
ЛИТЕРАТУРА
1.Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
2.Butler J. Gender trouble. N.Y., 1990.
3.Doty A. Making things perfectly queer. Minneapolis, 1993.
4.Duggen L. Making it perfectly queer // Socialist Review. 1992. № 22.
5.Epstein S. A queer encounter: Sociology and the study of sexuality II Sociological Theory. 1994. № 12. P. 188-202.
6.Epstein S. Gay politics, ethnic identity: The limits of social constructionism // Socialist Review. 1987. Vol. 17. P. ‘l3n.
7.Greenberg D. The construction of homosexuality. Chicago, 1988.
8.Halperin D. One hundred years of homosexuality. N.Y., 1990.
9.Ingraham C. The heterosexual imaginary: Feminist sociology and theories of gender // Sociological Theory. 1994. №>’l2. P. 203-219.
10.Inside/out / Ed. by Fuss D. N.Y., 1991.
11.IrvineJ. M. A place in the rainbow: Theorizing lesbian and gay culture // Socilogical Theory. 1994. No 12. P. 232-248.
12.Kitzinger C. Social construction of lesbianism. L., 1987.
13.Kosofsky-Sedgwick E. Epistemology of the closet. Berkley; Los Angeles, 1990.
14.Lauretis T. de. Queer theory: Lesbian and gay sexualities // Differences. 1991. №3. P. Ш-XVIII.
15.Namaste K. The politics of inside/out: Queer theory, post-structuralism, and a sociological approach to sexuality // Sociologi-cal Theory. 1994. № 12. P. 220-231.
16.Pollner M. The reflexivity of constructionism and the construction of reflexivity // Constructionist controversies: Issues in social problem theory / Ed. by Gale Miller, James A. Holstein. N.Y., 1993.
17.Seidman S. Symposium: Queer theory/sociology (A dialogue) // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-177.
18.Seidman S. Identity and politics in a «postmodern» gay culture: Some historical and conceptual notes // Fear of queer pla-net: queer politics and social theory / Ed. by Michael Warner. Min-neapolis, 1993. P. 105-142.
19.Stein A., Plummer K. «I can’t even think straight»: «Queer» theory and the missing sexual revolution in sociology // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 178-187.
20.Simmel G. Die Verwandtenehe // Georg Simmel: Aufsatze und Abhand-lungen, 1894 bis 1900 / Ed. by Heinz-Jurgen Dahme, David P. Frish by. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 5. Frankfurt, 1992 [1894]. S. 9-36; Idem. Der Militarismus und die Stellung der Frauen // Ibid. S. 37-51; Idem. Der Frauenkongress und die Sozialdemokratie //Die Zukunft. 1896. Bd. 17. S. 80- 84; Idem. Die Rolle des Geldes in den Beziehungen der Geschlechter. Fragment aus einer «Philosophic des Geldes» // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1894 bis 1900 [1898]. S. 246-265; Idem. Philosophic der Geschlechter. Fragmente 7 Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen. 1901-1908 / Ed. by Alessandro Cavalli, Volkhard Krech. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 8. Frankfurt. 1993 [1906]. S. 74-81; Idem. Die Frau und die Mode // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1901-1908. [1908]. S. 344- 347; Idem. Das Relative und das Absolute im Geschlechterproblem •” Idem. Philosophische Kultur. Leipzig, 1911. S. 67-100; Idem. Die Koketterie // Ibid. S. 101 - 123; Idem. Weibliche Kultur // Ibid. S. 278-319; Idem. Uber die Liebe (Fragment) // Fragmente und Aufsatze aus dem Nachlass und Ve-roffentlichungen der letzten Jahre. Mimchen, 1923. S. 47-123; Idem. Der platonische und der moderne Eros // Ibid, S. 125-145.
21.Simmel G. On women, sexuality, and love / Translated by Guy Oakes. New Haven, 1984.
22.Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-248: [17; 19; 5; 9; 15; 11].
Из социологической классики
Георг Зиммель ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕГ
ПРЕДИСЛОВИЕ
У всякой области исследований имеются две границы, пересекая которые мысль в своем движении переходит из точной формы в философскую. Демонстрация и проверка предпосылок познания вообще, а также аксиом каждой специальной области [знания] происходит уже не в пределах такой специальной сферы, но в некоторой более принципиальной науке, бесконечно удаленной целью которой является беспредпосылочное мышление (отдельные науки, и шага не могущие сделать без доказательства, то есть без предпосылок содержательного и методического характера, не ставят себе такой цели). Поскольку философия демонстрирует эти предпосылки и исследует их, она не может устранить таковые и для себя самой; однако именно здесь всякий раз находится конечный пункт познания, где и вступает в силу и властно повелевает нами призыв к недоказуемому, тот пункт, который - в силу прогресса доказуемости - никогда не фиксирован безусловно. Если начала сферы философской здесь как бы обозначают нижнюю границу области точного [знания], то верхняя ее граница проходит там, где содержания позитивного знания, всегда фрагментарные, восполняются завершающими понятиями, [образуя вместе с ними] некую картину мира, и [здесь же они] востребуют соотнесения с целостностью жизни. Если история наук действительно показывает, что философский род познания примитивен, что это - не более чем приближение <Uberschlag> к явлениям в общих понятиях, то все-таки этот предварительный процесс еще неизбежен по отношению к некоторым вопросам, в особенности, касающимся оценок и самых общих связей духовной жизни, [т. е. вопросам,] на которые у нас до сих пор нет точного ответа, но от которых невозможно отказаться. Наверное, даже самая совершенная эмпирия никогда не заменит философию как толкование, окрашивание и индивидуально избирающее акцентирование действительного, подобно тому, как совершенство механической репродукции явлений не сделает излишним изобразительное искусство.
Из этого определения местоположения философии в целом вытекают и те права, которыми она пользуется применительно к отдельным предметам. Если философия денег должна существовать, то располагаться она может только за пределами обеих границ экономической науки. С одной стороны, она может продемонстрировать те предпосылки, заложенные в душевной конституции, в социальных отношениях, в логической структуре действительностей и ценностей, которые указывают деньгам их смысл и практическое положение. Это - не вопрос о происхождении денег, который относится к истории, а не к философии. И как бы высоко ни ставили мы те выгоды, которые понимание некоторого явления извлекает из исторического становления последнего, все-таки содержательный смысл и значение ставшего часто основывается на связях понятийной, психологической, этической природы, которые не временны, но чисто объективны* и, хотя и реализуются историческими силами, но не исчерпываются случайностью последних. Например, значимость, достоинство, содержание права или религии, или познания всецело находятся за пределами вопроса о путях их исторического осуществления. Таким образом, в первой части этой книги деньги будут выводиться из тех условии, на которых основывается их сущность и смысл их наличного бытия.
* В оригинале: «sachlich», от многозначного «die Sache» - «вещь», «предмет», «дело». «Sachlich» было бы правомерно переводить как «вещный», «вещественный», «объективный», «предметный» и «деловой». Как правило, ради сохранения единства словоупотребления, мы используем термин «вещественный». Предложенный перевод имеет, разумеется, тот недостаток, что собственно вещь - осязаемая, вожделеемая и т. п. - обозначается у Зиммеля словом «Ding», от которого есть и соответствующие прилагательные («dinglich», «dinghaft»). Кроме того, Зиммелю, особенно в последних главах его сочинения, отнюдь не чуждо использование «Sach-lichkeit» в смысле деловитости и объективности. Однако, в тех главах, где трактуется фундаментальная философская проблематика, образование прилагательного от «вещь» нам показалось, в общем, более адекватным, нежели чем от «объект» или «предмет». В ряде случаев перевод оговаривается.
Что же касается исторического явления денег, идею и структуру которого я пытаюсь вывести из ценностных чувств, практики, имеющей дело с вещами <Dinge>, и взаимоотношений людей как предпосылки этого явления, то вторая, синтетическая часть прослеживает его воздействие на внутренний мир: жизнечувствие индивидов, сплетение их судеб, общую культуру. Здесь, таким образом, речь идет, с одной стороны, о связях, которые по своей сути точны и могли бы быть исследованы по отдельности, но при нынешнем состоянии знания недоступны для такого исследования и потому должны рассматриваться только в соответствии с их философским типом: в общем приближении, через изображение отдельных процессов отношениями абстрактных понятий. С другой стороны, речь идет о душевном причинении, которое для всех эпох будет делом гипотетического толкования и художественного воспроизведения, неотделимого в полной мере от его индивидуальной окраски. Таким образом, переплетение <Verzweigung> денежного принципа с развитиями и оценками внутренней жизни находится столь же далеко позади экономической науки о деньгах, насколько далеко впереди нее была первая проблемная область, которой посвящена первая часть книги. Одна из них должна позволить понять сущность денег, исходя из условий и отношений жизни вообще, другая же, наоборот, - понять сущность и форму последней, исходя из действенности денег.
В этих исследованиях нет ни строчки, написанной в духе национальной экономии. Это значит, что явления оценки и покупки, обмена и средств обмена, форм производства и стоимости состояний, которые национальная экономия рассматривает с одной точки зрения, рассматриваются здесь совершенно с другой. Лишь то, что обращенная к национальной экономии сторона их более всего интересна практически, основательнее всего разработана, доступна Для самого точного изображения, - лишь это обосновало мнимое право рассматривать их просто как «факты национальной экономии». Но точно так же, как явление основателя религии отнюдь не только религиозно, но может быть исследовано и в категориях психологии, а возможно Даже и патологии, всеобщей истории, социологии; подобно тому, как стихотворение - это не только факт истории литературы, но и факт эстетический, филологический, биографический; подобно тому, как вообще точка зрения одной науки, всегда основанной на разделении труда, никогда не исчерпывает реальности в целом - так и то, что два человека обмениваются своими продуктами друг с другом, отнюдь не есть только факт национальной экономии, ибо такого факта, содержание которого исчерпывал бы его национально-экономический образ, вообще не существует. Напротив, всякий обмен может столь же легитимно рассматриваться как факт психологический, факт истории нравов и даже как факт эстетический. И даже будучи рассмотрен с точки зрения национальной экономии, он не заводит в тупик, но и в этой форме <Formung> становится предметом философского рассмотрения, которое проверяет свои предпосылки - на нехозяйственных понятиях и фактах, а свои следствия - для нехозяйственных ценностей и взаимосвязей.
Деньги в этом круге проблем представляют собой лишь средство, материал или пример изображения тех отношений, которые существуют между самыми внешними, реалистическими, случайными явлениями и идеальными потенциями бытия, глубочайшими течениями индивидуальной жизни и историей. Смысл и цель целого состоит лишь в том, чтобы с поверхности хозяйственных явлений прочертить линию, указывающую на конечные ценности и значимости <Bedeutsamkeiten> всего человеческого. Абстрактное философское построение системы держится на такой дистанции от отдельных явлений, особенно практического существования, чтобы, собственно, лишь постулировать их избавление от, на первый взгляд, изолированности, недуховности и даже отвратности <Widrigkeit>. Нам же придется совершить это высвобождение на примере такого явления, которое, как деньги, не просто демонстрирует безразличие чисто хозяйственной техники, но, так сказать, есть самое индифференция, поскольку все его целевое значение заключено не в нем самом, но в его переводе в другие ценности. Итак, поскольку здесь предельным образом напрягается противоположность между, по видимости, самым внешним и несущностным и внутренней субстанцией жизни, то и примирение ее должно быть самым действенным, если эта частность не только переплетается со всем объемом духовного мира как его носитель и несомое, но и открывает себя как символ существенных форм его движения. Итак, единство наших исследований состоит совсем не в утверждении о единичном содержании знания и постепенно вырастающих его доказательств, но в предлагаемой возможности в каждой частности жизни обнаруживать целостность ее смысла. - Необыкновенное преимущество искусства перед философией состоит в том, что оно каждый раз ставит перед собой частную, узко очерченную проблему: некоторого человека, ландшафт, настроение - и затем заставляет ощущать всякое расширение таковых до [степени] всеобщего, всякое прибавление великих черт мирочувствия как некое обогащение, подарок, словно бы как незаслуженное счастье. Напротив, философия, проблемой которой сразу же является вся совокупность существования, обычно сужается по отношению к последней и дает меньше, чем она, как кажется, обязана давать. Итак, здесь, напротив, проблему пытаются умалить и ограничить, чтобы отдать ей должное, расширяя ее и выводя к тотальности и самому всеобщему.
В методическом аспекте это намерение можно выразить так: под исторический материализм следует подвести еще один этаж, таким образом, чтобы обнаружилась объяснительная ценность включения хозяйственной жизни в [число] причин духовной культуры, но сами эти хозяйственные формы постигались как результат более глубоких оценок и течений, психологических и даже метафизических предпосылок. Для практики познания это должно разворачиваться в бесконечной взаимообразности: к каждому истолкованию некоторого идеального образования через некоторое экономическое должно присоединяться требование понимать это последнее, исходя, в свою очередь, из более идеальных глубин, в то время как для них опять-таки должен быть найден всеобщий экономический фундамент, и так далее до бесконечности. В такой альтерации и взаимопоглощении принципов познания, категориально противоположных друг другу, единство вещей, кажущееся нашему познанию неуловимым и все же обосновывающее их взаимосвязь, становится для нас практическим и Жизненным.
Обрисованные таким образом намерения и методы не могли бы претендовать ни на что принципиальное, если бы не способны были послужить содержательному многообразию основных философских убеждений. Подключение частностей и поверхностных явлений жизни к ее глубочайшим и сущностнейшим движениям и истолкование их в соответствии с ее совокупным смыслом может совершаться и на почве идеализма, и на почве реализма, рассудочной или волевой, абсолютизирующей или релятивистской интерпретации бытия. То, что нижеследующие исследования выстраиваются на [фундаменте] одной из этих картин мира, которую я считаю самым адекватным выражением современного содержания знания и направления чувств, а противоположная картина мира самым решительным образом исключается, может в худшем случае [привести к тому, что] им будет отведена роль школьного примера, хотя и неудовлетворительного в содержательном отношении, но именно поэтому позволяющего выступить на передний план их методическому значению как форме того, что в будущем окажется правильным.
В этом новом издании изменения нигде не касаются существенных мотивов. Однако я все-таки попытался, приводя новые примеры и разъяснения, а прежде всего, - углубляя основоположения, увеличить шансы на то, что мотивы эти будут поняты и приняты.
Глава первая ЦЕННОСТЬ И ДЕНЬГИ
I
Вещи как естественные реальности включены в порядок, основу которого составляет предпосылка о единстве сущности как носителе всего многообразия их свойств: равенство перед законом природы, постоянство сумм вещества и энергии, преобразование друг в друга самых разных явлений примиряют их, на первый взгляд, удаленность друг от друга, превращая ее в совершенное родство, в равноправие всех. Правда, при более близком рассмотрении это понятие означает только, что произведенное механизмом природы находится, как таковое, за рамками вопроса о каком бы то ни было праве: их [вещей] несомненная определенность не оставляет места какому бы то ни было выделению, могущему служить подтверждением или умалением <Abzug> их бытия или так-бытия. Однако мы не удовлетворяемся этой равнодушной необходимостью, составляющей естественнонаучный образ вещей. Совсем наоборот: невзирая на их порядок в этом ряду, мы сообщаем их внутреннему образу некий иной порядок, в котором всеобщее равенство полностью нарушено, в котором наибольшее возвышение одного пункта соседствует с самым решительным унижением другого и глубочайшая сущность которого состоит не в единстве, но в различии, ранжировании по ценностям. То, что предметы, мысли, события Ценны, совершенно нельзя прочитать по их чисто естественному существованию, а их порядок согласно ценностям сильнее всего отклоняется от порядка естественного. Природа бесчисленное множество раз уничтожает то, что, с точки зрения его ценности, могло бы требовать наибольшей продолжительности [существования], и она консервирует самое неценное и даже то, что отнимает у ценного жизненное пространство <Existenzraum>. Тем самым не утверждается, будто два этих ряда враждебны друг другу и полностью исключают один другой. Такое утверждение означало бы, что они все же как-то соотносятся между собой - а результатом был бы мир дьявольский, но, с точки зрения ценности, определенный, хотя и с противоположным знаком. Нет, как раз наоборот: отношение между ними абсолютно случайно. С тем же безразличием, с каким природа предлагает нам предметы наших ценностных оценок, она в другой раз отказывает нам в них, так что именно возникающая иногда гармония обоих рядов, реализация рядом действительности требований, источником которых является ряд ценности, обнаруживает всю беспринципность их отношения не менее, чем прямо противоположный случай. Мы можем осознавать одно и то же жизненное содержание и как действительное, и как ценное; но его внутренний удел в первом и во втором случае имеет совершенно разный смысл. Ряды естественных событий можно было бы описать с совершенной, без пробелов, полнотой, но при этом ценность вещей не обнаружится нигде - и точно так же шкала наших оценок сохраняет свой смысл, независимо от того, как часто их содержание обнаруживается в действительности и происходит ли это вообще. К, так сказать, готовому, всесторонне определенному в своей действительности, объективному бытию только добавляется оценка, как свет и тень, источником которых не может быть оно само, но только что-то еще. Однако отсюда вовсе не следует делать вывод, будто бы образование ценностного представления как психологический факт тем самым уже не подвластно становлению в соответствии с законами природы. Сверхчеловеческий дух, который бы с абсолютной полнотой понимал мировой процесс <Weltgeschehen> в соответствии с законами природы, нашел бы среди фактов этого процесса также и тот, что у людей есть ценностные представления. Но эти последние не имели бы для него, познающего чисто теоретически, никакого смысла и никакой значимости, помимо своего психического существования. За природой как механической каузальностью [мы] отрицаем здесь только вещественное, содержательное значение ценностного представления, в то время как душевный процесс, делающий это содержание фактом нашего сознания, все равно принадлежит природе. Оценка как действительный психологический процесс <Vorgang> есть часть природного мира; но то, что мы имеем в виду, [совершая оценку,] ее понятийный смысл, есть нечто независимо противостоящее этому миру, столь мало являющееся частью его, что, напротив, само оно, будучи рассмотрено с особой точки зрения, представляет собой целый мир. Редко отдают себе отчет в том, что вся наша жизнь, со стороны сознания, протекает в чувствах ценности и соображениях о ценности и вообще обретает смысл и значение лишь благодаря тому, что механически развертывающиеся элементы действительности, помимо своего вещественного содержания <Sachgehalt>, имеют для нас бесконечно многообразные меры и виды ценности. Всякий миг, когда душа наша не просто незаинтересованно отражает действительность (чего она, пожалуй, не делает никогда, ибо даже объективное познание может проистекать лишь из некоторой оценки этой действительности), она обитает в мире ценностей, который заключает содержания действительности в совершенно автономный порядок.
Тем самым ценность в некотором роде образует противоположность бытию, именно как охватывающую форму и категорию картины мира ее можно многократно сравнивать с бытием. Кант подчеркивал, что бытие не есть свойство вещей; ибо если я говорю об объекте, который прежде существовал только в моих мыслях, что он существует, то он тем самым не обретает новых свойств; потому что иначе существовала бы не та же самая вещь, которую я прежде мыслил, но иная. Так и благодаря тому, что я называю некую вещь ценной, у нее не возникает никаких новых свойств; ибо она только и ценится за те свойства, которыми обладает: именно ее бытие, уже всесторонне определенное, восходит в сферу ценности. Основанием здесь служит одно из тех [совершаемых] нашим мышлением членений, которые достигают наибольшей глубины. Мы способны мыслить содержания картины мира, полностью отвлекаясь от их реального существования или несуществования. Комплексы свойств, которые мы называем вещами, со всеми законами их взаимосвязи и развития, мы можем представлять себе в их чисто вещественном, логическом значении и, совершенно независимо от этого, спрашивать, осуществлены ли эти понятия или внутренние созерцания, [и если да,] то где и как часто. Подобно тому, как этого содержательного смысла и определенности объектов не касается вопрос о том, обнаруживаются ли они затем в бытии, так же и не затрагивает их и другой [вопрос]: занимают ли они место, и какое [именно], на шкале ценностей. Если же, с одной стороны, речь у нас должна идти о теории, а с другой, - о практике, то мы должны вопрошать эти содержания мышления и о том, и о другом, и в обоих аспектах ни одно из них не может уйти от ответа [на эти вопросы]. Напротив, надо, чтобы можно было недвусмысленно высказаться о бытии или небытии каждого из них, и каждый должен для нас занимать совершенно определенное место на шкале ценностей - начиная от высших и, далее, через безразличие - к негативным ценностям; ибо безразличие есть отказ от оценки, который по существу своему может быть очень позитивным, но за этим отказом всегда кроется возможность интереса, которой только не пользуются в данный момент. Конечно, в принципиальном значении этого требования, обусловливающего всю конституцию нашей картины мира, отнюдь ничего не меняется оттого, что наших средств познания очень часто не хватает, чтобы решить, насколько реальны понятия, и столь же часто [недостаточны] объем и надежность наших чувств для ценностного ранжирования вещей, особенно устойчивого и общезначимого. Миру только понятий, вещных качеств и определений противостоят великие категории бытия и ценности, всеохватные формы, которые берут свой материал из этого мира чистых содержаний. Общий характер обоих миров - фундаментальность, т. е. несводимость одного к другому или к более простым элементам. Поэтому непосредственно бытие какой-либо вещи совершенно невозможно доказать логически; напротив, бытие есть изначальная форма наших представлений, которая воспринимается, переживается, принимается на веру, но не может быть дедуцирована для того, кто еще не знает о ней. Если только однажды неким деянием, внеположным логическому, эта форма ухватила отдельное содержание, то логические связи вбирают и несут ее дальше, докуда достают они сами. Так что мы, как правило, можем, конечно, сказать, почему мы принимаем некую определенную действительность: потому что мы уже приняли некую иную действительность, определенность которой связана с первой через ее содержание. Однако действительность этой последней может быть доказана подобного же рода сведением <Zuruckschiebung> к действительности еще более фундаментальной. Но у этого регресса должен быть последний член, бытие которого дано только непосредственным чувством убеждения, утверждения, признания, точнее говоря: [оно дано именно] как такое чувство. Точно так же относится и ценность к объектам. Все доказательства ценности последних означают лишь принуждение признать уже предполагаемую для какого-либо объекта и в настоящий момент несомненную ценность также и за другим, ныне сомнительным объектом. О мотивах, по которым мы это делаем, следует сказать ниже; здесь же мы ограничимся только следующей констатацией: то, что мы усматриваем путем доказательств ценности, есть всегда лишь перенос определенной ценности на новые объекты; напротив, ни существо самой ценности, ни основание Того, почему она изначально прилепилась <geheftet> к этому объекту, который затем излучает ее на другие объекты, мы не усматриваем.
Если только имеется некоторая ценность, то пути ее осуществления, ее дальнейшее развитие можно понять рассудочным образом, ибо теперь она следует - по крайней мере, частично <abschnittsweise> - структуре содержаний действительности. Но что она вообще имеется, - это есть первофеномен. Все дедукции ценности позволяют лишь понять условия, при которых она появляется*, в конечном счете, без какого бы то ни было посредства, не будучи, однако, продуктом этих условий, - подобно тому, как все теоретические доказательства могут только подготовить условия, при которых наступает это чувство утверждения или бытия-присутствия <Dasein>.
* В оригинале: «auf diehiner sich [...] einstellt». «Sicheinstellen» может быть переведено как «наступать», «появляться», но не в смысле возникновения из ничего, атак, как наступает весна или приходят гости. «Sicheinstellen auf» обычно переводится как «настраиваться на», «приспосабливаться к». Поскольку ценности противоположны бытию, нельзя сказать, что они «появляются» или «возникают». Они также и не «приспосабливаются» к ситуациям. Но только при определенных условиях можно сказать, что «имеется» («gibt es») ценность.
Сколь мало умели сказать, что же есть собственно бытие, столь же мало могут ответить на этот вопрос и применительно к ценности. И именно поскольку они [(бытие и ценность)] относятся к вещам формально тождественным образом, постольку они так же чужды друг другу, как, по Спинозе, [чужды друг другу] мышление и протяжение: так как оба они выражают одно и то же, абсолютную субстанцию, но каждое своим собственным образом и каждое само по себе полностью, то одно никогда не сможет перейти в другое. Они никогда не соприкасаются, потому что вопрошают понятия вещей о совершенно различном. Но этим рядоположением без соприкосновения мир отнюдь не разорван, [не превращен в] в стерильную двойственность, которая не позволяет потребностям духа успокоиться в единстве - даже если его судьбой и формулой его поисков было бы бесконечное движение от множества к единству и от единства к множеству. Выше ценности и действительности расположено то, что обще им обеим: содержания, - то, что Платон, в конечном счете, подразумевал под «идеями». Это нечто такое в действительности и в наших оценках, что может быть обозначено, нечто качественное, непременно выражаемое в понятиях, то, что равным образом может войти как в тот, так и в другой порядок. Однако ниже ценности и действительности располагается то, чему общи оба этих порядка: душа, которая вбирает и то, и другое в свое таинственное единство или порождает их из него. Действительность и ценность - как бы два различных языка, на которых логически взаимосвязанные содержания мира, значимые в его идеальном единстве, как говорят, его «что», делаются понятными единой душе - или же языки, на которых может выразить себя душа как чистый, еще вне этой противоположности находящийся образ этих содержаний. И, быть может, оба совокупных представления <Zu-sammenfassungen> этих содержаний, познающее и оценивающее, еще раз охватываются метафизическим единством, для которого нет подходящего слова в языке, разве что среди религиозных символов. Быть может, имеется основание мира, с точки зрения которого воспринимаемые нами чуждость и расхождения между действительностью и ценностью, уже не существуют, где оба ряда обнаруживают себя как один и тот же - потому ли, что это единство вообще не затрагивается данными категориями и с благородным безразличием возвышается над ними, либо же потому, что оно означает совершенно гармоническое, во всех точках однородное переплетение обоих, которое искажается лишь нашим способом постижения, словно бы испорченный зрительный аппарат разнимает его на отдельные куски и противоположные ориентации.
Обычно характер ценности, как он до сих пор проявлялся по контрасту с действительностью, называют ее субъективностью. Поскольку один и тот же предмет может в одной душе обладать ценностью наивысшей степени, в другой же - самой низшей, а, с другой стороны, всестороннее, исключительное многообразие объектов прекрасно совмещается с их равноценностью, то кажется, будто основанием оценки может тогда служить только субъект с его нормальными или совершенно особенными, постоянными или меняющимися настроениями и способами реагирования. Вряд ли стоит упоминать о том, что эта субъективность ничего не имеет общего с той, которой препоручен был весь мир как «мое представление». Ибо субъективность, о которой говорят применительно к ценности, противопоставляет ее готовым, данным объектам, все равно, каким образом они появились. Иными словами, субъект, объемлющий все объекты, есть иной, чем тот, который противопоставляет себя им, та субъективность, которую ценность разделяет со всеми объектами, при этом вообще не учитывается. Субъективность ценности не может также иметь смысл произвола: вся эта независимость от действительного не означает, что воля с необузданной и прихотливой свободой могла бы распределять ценность, [помещая ее] то туда, то сюда. Напротив, сознание предна-ходит ее как факт, в котором он непосредственно может изменить столь же мало, как и в действительностях. Если исключить эти значения, то субъективность ценности первоначально сохранит лишь значение негативное: то, что ценность не в том же смысле присуща самим объектам, как цвет или температура; ибо эти последние, хотя и чувственными свойствами <Sinnesbeschaffenheiten>, все-таки сопровождаются чувством непосредственной зависимости от объекта - чувством, легко отказываться от которого по отношению к ценности нас научает видимое безразличие между рядами действительности и ценности. Однако более существенны и более плодотворны, чем это определение, те случаи, когда психологические факты их, как кажется, все-таки опровергают.
В каком бы эмпирическом или трансцендентальном смысле ни говорили о «вещах» <Dinge> в отличие от субъекта - «свойством» их является отнюдь не ценность, но пребывающее в субъекте суждение о них. Однако ни более глубокий смысл и содержание понятия ценности, ни его значение в пределах индивидуальной душевной жизни, ни практически-социальные события и формы <Gestaltungen>, которые сопряжены с ним, не понимаются сколько-нибудь удовлетворительным образом, если отвести этому понятию место в «субъекте». Путь к такому пониманию лежит в слое <Schicht>, с точки зрения которой эта субъективность кажется чем-то всего лишь преходящим и, собственно, не очень существенным.
Размежевание субъекта и объекта далеко не столь радикально, как можно подумать, исходя из вполне оправданного членения по этим категориям и мира практического, и мира научного. Напротив, душевная жизнь начинается с состояния неразличенности, в котором Я и его объекты еще покоятся в нераздельности, в котором впечатления или представления наполняют сознание, причем носитель этих содержаний еще не отделяет себя от них. Что в актуально определенном, действительном в данный момент состоянии обладающий субъект может быть отличен от содержания, которым он обладает, есть только вторичное сознание, дополнительное разделение. Развитие явно ведет part passu* к тому, что человек говорит самому себе «Я» и признает сущие для себя** объекты вне этого Я. И если в метафизике иногда бытует мнение, что трансцендентная сущность бытия абсолютно едина, [что она -] по ту сторону противоположности субъекта и объекта, то для этого обнаруживается психологический pendant***, [когда душа бывает] просто, примитивно заполнена содержанием представлений, что можно наблюдать у ребенка, который еще не говорит о себе «Я», и что в рудиментарной форме, видимо, сопутствует нам всю жизнь. Единство, из которого категории субъекта и объекта развиваются сначала в связи друг с другом, в ходе процесса, который еще нуждается в объяснении, - это единство лишь потому кажется нам субъективным, что мы подходим к нему с понятием объективности, которое вырабатывается лишь вполедствии, а для единств такого рода у нас вообще нет правильного выражения, и мы имеем обыкновение называть их по одному из односторонних элементов, взаимодействием которых они кажутся в последующем анализе. Так, утверждали, что действование по своей абсолютной сущности всегда совершенно эгоистично - в то время как эгоизм имеет понятное содержание лишь в рамках действования и в про-тивоположность альтруизму как своему корреляту; так, пантеизм назвал всеобщность бытия Богом, позитивное понятие которого можно обрести, однако же, только дистанцировавшись от всего эмпирического. Это эволюционистское соотнесение субъекта и объекта повторяется, наконец, в самых крупных размерах: духовный мир классической древности существенным образом отличается от Нового времени, поскольку лишь это последнее привело, с одной стороны, к самому глубокому и отчетливому понятию «Я», предельно заостренному в том неведомом древности значении, [какое придается] проблеме свободы, а с другой стороны, - к самостоятельности и мощи понятия «объект», выраженному в представлении о нерушимой законосообразности природы. Древность еще не так далеко, как последующие эпохи, отошла от состояния нераз-личенности, в котором содержания представляются просто, без расчленяющего их проецирования на субъект и объект.
* «В той же мере», «равным образом» (лат.).
** «Для себя» и «в себе» - устойчивые переводы для немецких «fur sich» и «an sich». Тем не менее в ряде случаев Зиммель явно использует эти выражения, не вкладывая в них большой философский смысл, что позволило предложить более удобочитаемый перевод: «сам (сама, само) по себе». Однако, выражение «в себе и для себя» переводится только традиционным образом.
*** Здесь: «пара», «соответствие» (фр.).
Основанием этого расходящегося развития представляется один и тот же, но словно бы действующий в различных слоях мотив. Ибо осознание субъектности само уже есть объективация. Здесь заключен первофеномен личностной формы духа; то, что мы можем сами себя наблюдать, знать, оценивать как некий «предмет», что мы все-таки разлагаем Я, воспринимаемое как единство, на представляющий Я-субъект и представляемый Я-объект, причем оно из-за этого отнюдь не теряет своего единства, а, напротив, собственно, только и осознает себя в этой внутренней игре противоположностей <Gegenspiel>, - именно это и является фундаментальным деянием нашего духа, определяющим все его формообразование <Gestammg>. Обоюдное требование субъектом объекта и объектом субъекта здесь словно бы сходится в некоторой точке, оно овладевает самим субъектом, которому обычно весь мир противостоит как объект. Таким образом у человека, коль скоро он осознает сам себя, говорит сам себе «Я», имеется основополагающая форма <Form> отношения к миру, так реализует он свое восприятие мира. Но прежде нее, как по смыслу, так и по душевному развитию, имеет место простое представление содержания, не вопрошающее о субъекте и объекте и еще не разделенное между ними. А с другой стороны, само это содержание как логическое, понятийное образование, ничуть не менее внеположно решению, выбирающему между субъективной и объективной реальностью. Мы можем мыслить любой и каждый предмет исключительно в соответствии с его определениями и их взаимосвязью, совершенно не задаваясь вопросом, дан ли или может быть дан этот идеальный комплекс качеств также и как объективное существование. Конечно, поскольку такое чистое вещественное содержание бывает помыслено, оно является представлением, а значит, и субъективным образованием. Только вот субъективное есть здесь лишь динамический акт представления, функция, воспринимающая это содержание; само содержание мыслится именно как нечто независимое от того, что оно представляется. Наш дух имеет примечательную способность мыслить содержания как нечто независимое от того, что оно помыслено <Gedachtwerden> - это первичное, ни к чему далее не сводимое его свойство; у таких содержаний имеется понятийная или вещественная определенность и взаимосвязи, которые, правда, могут представляться, однако не растворяются в представлении, но значимы, независимо от того, воспринимаются ли они моим представлением или нет: содержание представления не совпадает с представлением содержания. Так же, как это примитивное, недифференцированное представление, состоящее исключительно в осознании некоего содержания, нельзя называть субъективным, ибо оно еще вообще не погружено в противоположность субъекта и объекта, так и это содержание вещей или представлений отнюдь не объективно, но равно свободно и от этой дифференциальной формы, и от ее противоположности и только находится в готовности выступить в одной или другой из них. Субъект и объект рождаются в одном и том же акте: логически - потому что чисто понятийное, идеальное вещественное содержание дается то как содержание представления, то как содержание объективной действительности; психологически - потому что еще лишенное «Я» представление, в котором личность и вещь содержатся в состоянии неразличенности, расступается и между Я и его предметом возникает дистанция, благодаря которой каждый из них только и обретает свою отличную от другого сущность.
К тому же этот процесс, который, наконец, приводит к появлению нашей интеллектуальной картины мира, совершается и в практике воления. И здесь разделение на вожделеющий, наслаждающийся, оценивающий субъект и считающийся ценностью объект тоже не охватывает ни всех состояний души, ни всей вещественной систематики практической сферы. Когда человек лишь пользуется каким-либо предметом, [тогда] имеет место сам по себе совершенно единый акт. В такое мгновение у человека есть восприятие, которое не содержит ни сознания противостоящего нам объекта как такового, ни сознания «Я», которое было бы обособлено от своего моментального состояния. Здесь встречаются самые глубокие и самые высшие явления. Грубое влечение, особенно безлично-всеобщей природы, желает только исчерпать себя в предмете, только удовлетворить себя - все равно, чем; сознание наполнено одним только наслаждением и не акцентирует, обращаясь к ним по отдельности, ни, с одной стороны, свой носитель, ни, с другой стороны, свой предмет. Но вместе с тем, та же форма обнаруживается и у эстетического наслаждения, когда оно достигает наивысшей интенсивности. Также и здесь «мы сами себя забываем», однако, и произведение искусства мы уже не воспринимаем как нечто, противостоящее нам, ибо душа полностью слита с ним, оно столь же включено в нее, как и она отдает себя ему. И в том, и в другом случае психологическое состояние еще не или уже не затрагивается противоположностью субъекта и объекта, лишь вновь начинающийся процесс сознания исторгает из непосредственного единства этого состояния указанные категории и затем уже только рассматривает чистое наслаждение содержанием как, с одной стороны, состояние противостоящего объекту субъекта, а с другой стороны, - как воздействие объекта, независимого от субъекта. Это напряжение, которое разнимает наивно-практическое единство субъекта и объекта, только и создавая и то, и другое (одно в другом) для сознания, производится сначала простым фактом вожделения. Поскольку мы вожделеем то, чем еще не обладаем и не наслаждаемся, содержание его выступает перед нами. Правда, в развитой эмпирической жизни готовый предмет сначала предстоит нам и только затем оказывается вожделен - уже потому, что- помимо событий воления, объективацию душевных содержаний вызывают многие другие [события], теоретические и чувственные; только в пределах практического мира самого по себе, с точки зрения его внутреннего порядка и возможности понимать его, возникновение объекта как такового и вожделение объекта субъектом суть соотносительные понятия, две стороны процесса дифференциации, рассекающего непосредственное единство процесса наслаждения.
Утверждают, что наши представления об объективной действительности берут начало в том сопротивлении, которое мы испытываем со стороны вещей <Dinge>, в особенности при посредстве осязания. Это можно без оговорок перенести на практическую проблему. Мы вожделеем вещи лишь вне их непосредственной самоотдачи нашему потреблению и наслаждению, т. е. именно постольку, поскольку они ему как-то сопротивляются; содержание становится предметом, коль скоро оно противостоит нам, причем не только в своей воспринимаемой непроницаемости, но и в дистанцированности еще-не-наслаждения, субъективной стороной которого является вожделение. Кант говорил: возможность опыта есть возможность предметов опыта - потому что познавать на опыте означает, что наше сознание образует из чувственных восприятий предметы. Точно так же и возможность вожделения есть возможность предметов вожделения. Возникающий таким образом объект, характеризуемый дистанцией по отношению к субъекту, чье вожделение равно фиксирует эту дистанцию и стремится преодолеть ее, - [такой объект] мы называем ценностью. Сам миг наслаждения, когда субъект и объект смиряют свои противоположности, как бы поглощает <konsumiert> ценность, и она снова возникает только при отделении субъекта - как противоположности - от объекта. Простейшие наблюдения: что то, чем мы владеем, становится нам дорого как ценность по-настоящему лишь при утрате его; что один только отказ в [получении] вожделеемой вещи часто сообщает ей ценность, которой лишь в весьма малой степени соответствует достигнутое наслаждение; что удаленность от предметов наших наслаждений - ив самом непосредственном, и в любом переносном смысле слова «удаление» - показывает их преображенными и более возбуждающими, - все это производные, модификации, смешанные формы того основополагающего факта, что ценность берет начало не в цельном единстве момента наслаждения, но [возникает лишь постольку,] поскольку содержание его отрывается как объект от субъекта и выступает перед ним как только теперь вожделеемое, добыть которое можно только преодолением расстояний, препятствий, трудностей. Воспользуемся аналогией, к которой мы уже прибегли выше: в конечном счете, быть может, не реальности вторгаются в наше сознание, благодаря создаваемым ими для нас препятствиям, но те представления, с которыми связаны восприятия сопротивлений и ощущения помех, называются у нас объективно реальными, независимо существующими вне нас. Поэтому не из-за того, что они ценны, трудно заполучить эти вещи, но ценными мы называем те из них, которые выставляют препятствия нашему вожделению заполучить их. Поскольку в них это вожделение как бы надламывается или застопоривается, у них появляется такая значительность, для признания которой беспрепятственная воля никогда не видела повода.
Ценность, которая, таким образом, выступает одновременно с вожделеющим Я и как его коррелят в одном и том же процессе дифференциации, относится кроме того еще к одной категории, той же самой, которая имела силу и для объекта, обретаемого на пути теоретического представления. В этом последнем случае оказывалось, что содержания, которые, с одной стороны, реализованы в объективном мире, а с другой, - живут в нас как субъективные представления, обладают, помимо всего этого, еще и своеобразным идеальным достоинством. Понятие треугольника или организма, каузальность или закон гравитации имеют логический смысл, значимость <Gultigkeit> внутренней структуры, благодаря которой они, правда, определяют свое осуществление в пространстве и сознании, но даже если бы дело никогда и не дошло до такого осуществления, они все равно относились бы к уже не поддающейся дальнейшему членению категории значимого <Gultigen> или значительного <Bedeutsamen> и безусловно отличались бы от фантастических или противоречивых понятийных образований, которым они, однако же, были бы совершенно тождественны в аспекте физической или психической нереальности. Аналогично (хотя и с модификациями, обусловленными различием самих областей) обстоит дело и с ценностью, возникающей у объектов субъективного вожделения. Подобно тому, как мы представляем себе некоторые предложения истинными, причем это сопровождается осознанием того, что истинность их не зависит от этого представления, так и по отношению к вещам, людям, событиям мы воспринимаем, что они не только воспринимаются нами как ценные, но были бы ценны, даже если бы их не ценил никто. Самый простой пример - это ценность, которую мы приписываем убеждениям людей - нравственным, благородным, сильным, прекрасным. Выражаются ли когда-нибудь эти внутренние свойства в деяниях, которые позволят или даже вынудят признать их ценность; даже то, рефлектирует ли над ними с ощущением своей ценности сам их носитель, - все это применительно к факту самой их ценности не только нам безразлично, но как раз это безразличие относительно их признанности или осознанности придает этим ценностям особую окраску. Возьмем другой пример: [вот -] интеллектуальная энергия и тот факт, что она выводит на свет сознания сокровеннейшие силы и порядки природы; [вот -] сила и ритм тех чувств, которые в узком пространстве индивидуальной души все-таки бесконечно превосходят по своему значению весь внешний мир, даже если верно пессимистическое утверждение о преизбытке страдания; [вот, затем, - тот факт,] что вообще природа вне человека совершает движение в надежных рамках прочных норм, а множество ее форм тем не менее оставляет пространство для глубинного единства целого, что ее механизм и поддается истолкованию согласно идеям, и способен к производству красоты и грации*, - [пусть так], мы же на все это заявим, что мир именно ценностей, все равно, воспринимаются ли эти ценности сознанием или нет.
* В оригинале - совершенно неудобопонятная по-русски форма двойного отрицания: «sich weder der Deutung nach Ideen entzieht, noch sich weigert, Schonheit und Anmut zu erzeugen».
И то же самое будет иметь силу, опускаясь вплоть до уровня экономического количества ценности, которое мы приписываем некоторому объекту обмена <Tauschverkehrs>, даже если никто не готов, например, дать за него соответствующую цену .и даже если он вообще остается нежеланным и непродажным. Также и в этом направлении утверждает себя фундаментальная способность духа: одновременно противопоставлять себя содержаниям, которые он в себе представляет, представлять их так, словно бы они были независимы от того, что они представляемы. Конечно, всякая ценность, поскольку мы ее чувствуем, есть именно чувство; но вот что мы подразумеваем под этим чувством, есть в себя и для себя значащее содержание, которое, правда, психологически реализуется чувством, но не тождественно ему и не исчерпывается им. Эта категория явственным образом оказывается по ту сторону спорного вопроса о субъективности или объективности ценности, ибо она отвергает соотносительность <Korrelativitat> с субъектом, без которой невозможен объект; она есть, напротив, нечто третье, идеальное, что, правда, сопрягается с этим двойством <Zweiheit>, но не растворяется в нем. Практическому характеру той области, к которой она принадлежит, отвечает и особенная форма отношения к субъек^ ту, которая недоступна в случае сдержанного теоретического представления сугубо абстрактно «значимых» содержаний. Эту форму можно назвать требованием или притязанием. Ценность, которая прилепилась <haftet> к какой-либо вещи, личности, отношению, событию, жаждет признания. Конечно, это стремление как событие можно обнаружить только в нас, субъектах; но только вот исполняя его, мы ощущаем, что тем самым не просто удовлетворяем требованию, которое поставили себе мы сами, - и уж тем более не воспроизводим некоторую определенность объекта. Значение какого-либо телесного символа, состоящее в возбуждении у нас религиозного чувства; нравственное требование со стороны определенной жизненной ситуации революционизировать ее или оставить, как есть, развивать далее или направить движение назад; ощущение того, что долг наш - не быть равнодушными перед лицом великих событий, но реагировать на них всей душой; право наглядно созерцаемого быть не просто принятым к сведению, но включенным во взаимосвязи эстетической оценки - все это притязания, которые, правда, воспринимаются и осуществляются только внутри Я и для которых в самих объектах нельзя обнаружить никакого соответствия, никакой вещественной точки приложения, но которые, как притязания, столь же мало могут быть размещены в Я, как и в предметах, коих они касаются. С точки зрения естественной вещественности, такое притязание может казаться субъективным, с точки зрения субъекта, - объективным; в действительности же это третья категория, которую нельзя составить из первых двух, это как бы нечто между нами и вещами. Я говорил, что ценность вещей относится к тем образам содержания, которые мы, представляя их, одновременно воспринимаем как нечто самостоятельное, хотя именно представляемое, нечто оторванное от той функции, благодаря которой оно живет в нас; в том же случае, когда ценность образует содержание этого «представления», оно, если присмотреться внимательнее, оказывается именно восприятием притязания, данная «функция» есть требование, не существующее как таковое вне нас, но, по своему содержанию, берущее начало в идеальном царстве, которое находится не в нас, которое также не присуще <anhaftet> объектам ценностной оценки как их качество; напротив, оно есть <besteht> значение, которое эти объекты имеют для нас как субъектов благодаря своему расположению в порядках этого идеального царства. Ценность, которую мы мыслим независимой от ее признанности, есть метафизическая категория; как таковая она находится по ту сторону дуализма субъекта и объекта, подобно тому, как непосредственное наслаждение находилось по сию сторону этого дуализма. Последнее есть конкретное единство, к которому еще не приложены эти дифференциальные категории, первое же - это абстрактное, или идеальное единство, в для-себя-сущем значении которого этот дуализм снова исчез - подобно тому, как во всеохватности сознания, которую Фихте называет «Я», исчезает противоположность эмпирического Я и эмпирического He-Я. Как наслаждение в момент полного слияния функции со своим содержанием нельзя назвать субъективным, ибо нет никакого противостоящего объекта, который бы оправдывал понятие субъекта, так и эта сущая для себя, значимая в себе ценность не объективна, ибо она мыслится именно как независимая от субъекта, который ее мыслит; она выступает, правда, внутри субъекта как требование признания, однако ничего не утрачивает в своей сущности и при неисполнении этого требования.
При восприятии ценностей в повседневной практике жизни, эта метафизическая сублимация понятия не учитывается. Здесь речь идет только о ценности, живущей в сознании субъектов, и о той объективности, которая возникает в этом психологическом процессе оценивания как его предмет. Выше я показал, что этот процесс образования ценности происходит с увеличением дистанции между наслаждающимся и причиной его наслаждений. А поскольку величина этой дистанции варьирует (не по мере наслаждения, в котором она исчезает, но по мере вожделения, которое появляется одновременно с дистанцией и которое пытается преодолеть наслаждающийся), то постольку лишь и возникают те различия в акцентировании ценностей, которые можно рассматривать как разницу между субъективным и объективным. По меньшей мере, что касается тех объектов, на оценке которых основывается хозяйство, ценность, правда, является коррелятом вожделения (подобно тому, как мир бытия есть мое представление, так мир ценности есть мое вожделение) однако, несмотря на логико-физическую необходимость, с которой всякое вожделеющее влечение ожидает удовлетворения от некоторого предмета, оно во многих случаях, по своей психологической структуре, направляется на одно лишь это удовлетворение, так что сам предмет при этом совершенно безразличен, важно только, чтобы он утихомиривал влечение. Если мужчину может удовлетворить любая баба без индивидуального выбора; если он ест все, что только может прожевать и переварить; если спит на любой койке, если его культурные потребности можно удовлетворить самым простым, одной лишь природой предлагаемым материалом, - то [здесь] практическое сознание еще совершенно субъективно, оно наполнено исключительно собственным состоянием субъекта, его возбуждениями и успокоениями, а интерес к вещам ограничивается тем, что они суть непосредственные причины этих действий. Правда, это скрывает наивная проективная потребность примитивного человека, его направленная вовне жизнь, принимающая интимный мир как нечто самоочевидное. Одно только осознанное желание нельзя всегда считать вполне достаточным показателем действительно эффективного восприятия ценности. Легко понятная целесообразность в дирижировании нашими практическими силами достаточно часто представляет нам предмет как ценный, тогда как возбуждает нас, собственно, вовсе не он сам в своем вещественном значении, но субъективное удовлетворение потребности, которое он должен для нас создать. Начиная с этого состояния - которое, конечно, не всегда должно иметь значение первого по времени, но всегда должно считаться самым простым, фундаментальным, как бы систематически первым - сознание бывает направлено на сам объект двумя путями, которые, однако, снова соединяются. А именно, коль скоро одна и та же потребность отвергает некоторое количество возможностей удовлетворения, может быть, даже все, кроме одной, то есть там, где желаемо не просто удовлетворение, но удовлетворение определенным предметом, там открыт путь к принципиальному повороту от субъекта к объекту. Конечно, можно было бы возразить, что речь идет в каждом случае лишь о субъективном удовлетворении влечения, только в последнем случае само по себе влечение уже настолько дифференцировано, что удовлетворить его может лишь точно определенный объект; иными словами, и здесь тоже предмет ценится лишь как причина восприятия, но не сам по себе. Конечно, такое возражение могло бы свести на нет это сомнительное различие, если бы дифференциация влечения заостряла его на одном единственном удовлетворяющем ему объекте действительно столь исключительным образом, что удовлетворение посредством других объектов было бы вообще исключено. Однако это - весьма редкий, уникальный случай. Более широкий базис, на котором развиваются даже самые дифференцированные влечения, изначальная всеобщность потребности, содержащей в себе именно действие влечения <Getriebenwerden>, но не особенную определенность цели, обычно и впоследствии остается той подосновой, которая только и позволяет суженным желаниям удовлетворения осознать свою индивидуальную особенность. Поскольку все большая утонченность субъекта ограничивает круг объектов, удовлетворяющих его потребностям, он резко противопоставляет предметы своего вожделения всем остальным, которые сами по себе тоже могли бы утихомирить его потребность, но которые он, тем не менее, теперь уже не ищет. Это различие между объектами, как показывают известные психологические наблюдения, в особенно высокой степени направляет на них сознание и заставляет их выступить в нем как предметы самостоятельной значимости. На этой стадии кажется, что потребность детерминирована предметом; по мере того, как влечение уже не кидается на любое, лишь бы только возможное удовлетворение, уже не terminus a quo*, но terminus ad quern** все более и более направляет практическое восприятие, так что увеличивается пространство, которое занимает в сознании объект как таковой. Взаимосвязь здесь еще и следующая. Покуда влечения насилуют человека, мир образует для него, собственно, неразличимую массу; ибо, пока они означают для него только само по себе иррелевантное средство удовлетворения влечений (а этот результат к тому же может быть также вызван множеством причин), до тех пор с предметом в его самостоятельной сущности не бывает связано никакого интереса. Но то, что мы нуждаемся в совершенно особенном, уникальном объекте, позволяет более четко осознать, что мы вообще нуждаемся в каком-либо объекте. Однако это сознание известным образом более теоретично, оно понижает слепую энергию влечения, стремящегося только к самоисчерпанию.
* Исходный пункт (лат.).
** Конечный пункт (лат.).
В то время как дифференцирующее заострение потребности идет рука об руку с ослаблением ее стихийной силы, в сознании освобождается больше места для объекта. То же получается, если посмотреть с другой стороны: поскольку утончение и специализация потребности вынуждает сознание ко все большей самоотдаче объекту, у солипсистской потребности отнимается некоторое количество силы. Повсюду ослабление аффектов, т.е. безусловной самоотдачи Я моментальному содержанию своего чувства, взаимосвязано с объективацией представлений, с выведением их в противостоящую нам форму существования. Так, например, возможность выговориться является одним из мощнейших средств притупления аффектов. В слове внутренний процесс как бы проецируется вовне и противостоит [говорящему] как воспринимаемый образ, а тем самым уменьшается резкость аффекта. Смирение страстей и представление объективного как такового в его существовании и значении суть лишь две стороны одного и того же основного процесса. Очевидно, что отвратить внутренний интеpec от одной только потребности и ее удовлетворения и посредством сужения возможностей последнего обратить этот интерес на объект можно с тем же и даже большим успехом также и со стороны объекта - поскольку он делает удовлетворение трудным, редким и достижимым только обходными путями и благодаря специальному приложению сил. То есть если мы предположим наличие даже очень дифференцированного, направленного лишь на самые избранные объекты вожделения, то и оно все-таки будет воспринимать свое удовлетворение как нечто относительно самоочевидное, покуда это удовлетворение будет обходиться без трудностей и сопротивления. Дело в том, что для познания собственного значения вещей необходима дистанция, образующаяся между ними и нашим восприятием. Таков лишь один из многих случаев, когда надо отойти от вещей, положить пространство между нами и ними, чтобы обрести объективную картину их. Конечно, и она определена субъективно-оптически не в меньшей степени, чем нечеткая или искаженная картина при слишком большой или слишком малой дистанции, однако по внутренним основаниям целесообразности познания именно в этих крайних случаях субъективность оказывается особенно акцентированной. Изначально объект существует только в нашем к нему отношении, вполне слит с [этим отношением] и противостоит нам лишь в той мере, в какой он уже не во всем подчиняется этому отношению. Дело точно так же лишь там, где желание не совпадает с исполнением, доходит и до подлинного вожделения вещей, которое признает их для-себя-бытие, именно поскольку пытается преодолеть его. Возможность наслаждения, как образ будущего, должна быть сначала отделена от нашего состояния в данный момент, чтобы мы вожделели вещи, которые сейчас находятся на дистанции от нас. Как в области интеллектуального изначальное единство созерцания, которое можно еще наблюдать у детей, лишь постепенно расчленяется на сознание Я и осознание противостоящего ему объекта, так и наивное наслаждение лишь освободит место осознанию значения вещи, как бы уважению к ней, когда вещь ускользнет от него. Также и здесь проявляется взаимосвязь между ослаблением аффектов вожделения и началом объективации ценностей, поскольку усмирение стихийных порывов воления и чувствования благоприятствует осознанию Я. Покуда личность еще отдается, не сдерживаясь, возникающему в данный момент аффекту, совершенно преисполняется и увлекается им, Я еще не может образоваться; напротив, сознание Я, пребывающее по ту сторону отдельных своих возбуждений, может обнаружиться как нечто постоянное во всех изменениях этих последних только тогда, когда уже ни одно из них не увлекает человека целиком; напротив, они должны оставить нетронутой какую-то его часть, которая образует точку неразличенности их противоположностей, так что, таким образом, только определенное их умаление и ограничение позволяет возникнуть Я как всегда тождественному носителю нетождественных содержаний. Но подобно тому, как Я и объект суть во всех возможных областях нашего существования понятия соотносительные, которые еще не различены в изначальной форме представления и только вы-дифференцируются из нее, одно в другом, - так и самостоятельная ценность объектов могла бы развиться лишь в противоположности ставшему самостоятельным Я. Только испытываемые нами отталкивания от объекта, трудности получения его, время ожидания и труда, отодвигающее желание от исполнения, разнимают Я и объект, которые в неразвитом виде и без специального акцентирования покоятся в непосредственном примыкании друг к другу потребности и удовлетворения. Пусть даже объект определяется здесь одной только своей редкостью (соотносительно с вожделенностью) или позитивными трудами по его присвоению, - во всяком случае, он сначала полагает тем самым дистанцию между собой и нами, которая, в конце концов, позволяет сообщить ему ценность, потустороннюю для наслаждения этим объектом.
Таким образом, можно сказать, что ценность объекта покоится, правда, на том, что он вожделеем, но вожделение это потеряло свой абсолютный характер влечения. Однако точно так же и объект, если он должен оставаться хозяйственной ценностью, не может повысить количество своей ценности настолько, чтобы практически иметь значение абсолютного. Дистанция между Я и предметом его вожделения может быть сколь угодно велика - будь то из-за реальных трудностей с его получением, будь то из-за непомерной цены, будь то из-за сомнений нравственного или иного рода, которые противодействуют стремлению к нему, - так что дело не заходит о реальном акте воли, но вожделение либо затухает, либо превращается в смутные желания. Таким образом, дистанция между субъектом и объектом, с увеличением которой возникает ценность, по меньшей мере, в хозяйственном смысле, имеет нижнюю и верхнюю границы, так что формулировка, согласно которой мера ценности равна мере сопротивления, оказываемого получению вещей сообразно естественным, производственным и социальным шансам, - эта формулировка не затрагивает существа дела. Конечно, железо не было бы хозяйственной ценностью, если бы получение его не встречало больших трудностей, чем, например, получение воздуха для дыхания; с другой стороны, однако, эти трудности должны были стать ниже определенного уровня, чтобы путем обработки железа вообще можно было изготовить инструменты в таком количестве, что и сделало его ценным. Другой пример: говорят, что творения плодовитого живописца, при том же художественном совершенстве, будут менее ценны, чем у менее продуктивного; но это правильно только в случае превышения определенного количества. Ведь требуется некоторое множество произведений художника, чтобы он вообще мог однажды добиться той славы, которая поднимает цену его картин. Далее, в некоторых странах, где имеют хождение бумажные деньги, редкость золота приводит к тому, что простой народ вообще не хочет принимать золота, если оно ему случайно предлагается. Именно в отношении благородных металлов, которые из-за своей редкости считаются обычно особенно пригодным материалом для денег, теория не должна упустить из виду, что такое значение редкость обретает только после превышения довольно значительной частоты распространения, без которой эти металлы вообще не могли бы служить практической потребности в деньгах и, таким образом, не могли бы обрести той ценности, которой они обладают как денежный материал. Быть может, только практическое корыстолюбие, которое вожделеет превыше всякого данного количества благ и которому поэтому кажется малой всякая ценность, заставляет забыть, что не редкость, но нечто среднее между редкостью и не редкостью образует в большинстве случаев условие ценности. Нетрудно догадаться, что редкость - это момент, который важен для восприятия различий, а частота распространения - это момент, важность которого связана с привыканием. А поскольку жизнь всегда определяется пропорциональным соотношением обоих этих фактов, т. е. тем, что мы нуждаемся и в различии и перемене ее содержаний, и в привыкании к каждому из них, то эта общая необходимость выражается здесь в особой форме: с одной стороны, ценность вещей требует редкости, т. е. некоторого отрыва от них, особого к ним внимания, а с другой стороны, - известной широты, частоты распространения, длительности, чтобы вещи вообще переходили порог ценности.
Всеобщее значение дистанцирования для представляющегося объективным оценивания я намерен показать на примере, который весьма далек от ценностей экономических и как раз поэтому годится, чтобы отчетливее показать также и их принципиальную особенность. Я говорю о ценностях эстетических. То, что мы теперь называем радостью по поводу красоты вещей, развилось относительно поздно. Ведь сколько бы непосредственного физического наслаждения ни приносила нам она в отдельных случаях даже теперь, однако же специфика заключается именно в сознании того, что мы отдаем должное вещи <Sache> и наслаждаемся ею, а не просто состоянием чувственной или сверхчувственной возбужденности, которое, например, она нам доставляет. Каждый культурно развитый <kultivierter> мужчина, в принципе, весьма уверенно различит эстетическую и чувственную радость, доставляемую женской красотой, сколь бы мало ни мог он разграничить в отдельном явлении эти компоненты своего совокупного чувства. В одном аспекте мы отдается объекту, в другом - он отдается нам. Пусть эстетическая ценность, как и всякая другая, будет чужда свойствам самих вещей <Dinge>, пусть она будет проекцией чувства в вещи, однако для нее характерно, что эта проекция является совершенной, т. е. что содержание чувства, так сказать, целиком входит в предмет и являет себя как противостоящая субъекту значимость со своей собственной нормой, как нечто такое, что есть предмет. Но как же, [с точки зрения] историко-психологиче-ской, дело могло дойти до этой объективной, эстетической радости от вещей <Dinge>, если примитивное наслаждение ими, из которого только и может исходить более высокое наслаждение, прочно связано с их способностью быть предметами наслаждения и их полезностью? Быть может, ключ к разгадке даст нам очень простое наблюдение. Если какого-либо рода объект доставил нам большую радость или весьма поощряет нас, то всякий следующий раз, глядя на этот объект, мы испытываем чувство радости, причем даже тогда, когда об использовании его или наслаждении им речь уже не идет. Эта радость, отдающаяся в нас подобно эху, имеет совершенно особенный психологический характер, определяемый тем, что мы уже ничего не хотим от предмета; на место конкретного отношения, которое прежде связывало нас с ним, теперь приходит просто его созерцание как причины приятного ощущения; мы не затрагиваем его в его бытии, так что это чувство связывается только с его явлением, но не с тем, что здесь можно в каком-либо смысле употребить. Короче говоря, если предмет прежде был для нас ценен как средство для наших практических или эвдемонистических целей, то теперь один только его образ созерцания доставляет нам радость, тогда как мы ему противостоим при этом более сдержанно, более дис-танцированно, вовсе не касаясь его. Мне представляется, что здесь уже преформированы решающие черты эстетического, что недвусмысленно обнаруживается, как только это преобразование ощущений прослеживают далее, от индивидуально-психологического - к родовому развитию. Уже с давних пор красоту пытались вывести из полезности, однако из-за чрезмерного сближения того и другого, как правило, застревали на пошлом огрублении прекрасного. Избежать этого можно, только если достаточно далеко отодвинуть в историю рода внешнюю целесообразность и чувственно-эвдемонистическую непосредственность, так, чтобы с образом этих вещей в нашем организме было связано подобное инстинкту или рефлексу чувство удовольствия, которое действует в унаследовавшем эту физико-психическую связь индивиде, даже если полезность предмета для него самого не осознается им или [вообще] не имеет места. Мне нет нужды подробно останавливаться на спорах о наследовании приобретенных таким образом связей, потому что для нашего изложения достаточно и того, что явления протекают так, как если бы приобретенные свойства были унаследованы. Таким образом, прекрасным для нас было бы первоначально то, что обнаружило свою полезность для рода, а восприятие его потому и доставляет нам удовольствие, хотя мы как индивиды не имеем конкретной заинтересованности в этом объекте - что, конечно, не означает ни униформизма, ни прикованности индивидуального вкуса к среднему или родовому уровню. Отзвуки этой всеобщей полезности воспринимаются всем многообразием индивидуальных душ и преобразуются далее в особенности, заранее отнюдь не предрешенные, - так что, пожалуй, можно было бы сказать, что этот отрыв чувства удовольствия от реальности изначального повода к нему стал, наконец, формой нашего сознания, независимой от первых содержаний, вызвавших ее образование, и готовой воспринять в себя любые другие содержания, врастающие в нее в силу [той или иной] душевной констелляции. В тех случаях, когда у нас еще есть и повод для реалистического удовольствия, наше чувство по отношению к вещам - не специфически эстетическое, но конкретное, которое лишь благодаря определенному дистанцированию, абстрагированию, сублимации испытывает метаморфозу, [превращаясь именно в] эстетическое. Здесь происходит то, что случается, в общем-то, довольно часто: после того, как некоторое отношение устанавливается, связующий элемент выпадает, потому что его услуги больше уже не требуются. Связь между определенными полезными объектами и чувством удовольствия стала у [человеческого] рода, благодаря наследственному или какому-то иному механизму передачи традиции, столь прочной, что уже один только вид этих объектов, хотя бы мы ими и не наслаждались, оказывается для нас удовольствием. Отсюда - то, что Кант называет эстетической незаинтересованностью, безразличие относительно реального существования предмета, когда дана только его «форма», т. е. его зримость; отсюда - преображение и надмирность прекрасного - она есть результат временной удаленности реальных мотивов, в силу которых мы теперь воспринимаем эстетически; отсюда - и представление о том, что прекрасное есть нечто типическое, надындивидуальное, общезначимое - ибо родовое развитие уже давно вытравило из этого внутреннего движения все специфическое, сугубо индивидуальное, что относилось к отдельным мотивам и опыту; отсюда - частая невозможность рассудочно обосновать эстетическое суждение, которое к тому же нередко оказывается противоположным тому, что полезно или приятно нам как индивидам. Все это развитие вещей от их ценности-полезности к ценности-красоте есть процесс объективации. Поскольку я называю вещь прекрасной, ее качество и значение совершенно иначе независимы от диспозиций и потребностей субъекта, чем когда она просто полезна. Покуда вещи только полезны, они функциональны, т. е. каждая иная вещь, которая имеет тот же результат, может заменить каждую. Но коль скоро они прекрасны, вещи обретают индивидуальное для-себя-бытие, так что ценность, которую имеет для нас одна из них, не может быть заменена иною вещью, которая, допустим, в своем роде столь же прекрасна. Не обязательно прослеживать генезис эстетического, начиная с его едва заметных признаков и кончая многообразием развитых форм, чтобы понять: объективация ценности возникает в отношении дистанцированности, образующейся между субъективно-непосредственным истоком оценки объекта и нашим восприятием его в данный момент. Чем дальше отстоит по времени и как таковая забывается полезность для рода, которая впервые заставляет связать с объектом заинтересованность и оценку, тем чище эстетическая радость от одной лишь формы и созерцания объекта, т. е. он тем более противостоит нам со своим собственным достоинством, и мы тем более придаем ему то значение, которое не растворяется в случайном субъективном наслаждении им, а наше отношение к вещам, когда мы оцениваем их лишь как средства для нас, тем более уступает место чувству их самостоятельной ценности.
Я выбрал этот пример, потому что объективирующее действие того, что я называю дистанцированием, оказывается особенно наглядным в случае временной удаленности. Конечно, это более интенсивный и качественный процесс, так что количественная характеристика с указанием на дистанцию является только символической. И поэтому тот же самый эффект может быть вызван рядом других моментов, как это фактически уже и обнаружилось: редкостью объекта, трудностями его получения, необходимостью отказа от него. Пусть в этих случаях, которые существенны для хозяйства, важность вещей всегда будет важностью для нас и потому останется зависимой от нашего признания - однако решающий поворот состоит в том, что в результате этого развития вещи противостоят нам как сила <Macht> противостоит силе, как мир субстанций и энергий <Krafte>, которые своими свойствами определяют, удовлетворяют ли они, и насколько именно, наши вожделения, и которые, прежде чем отдаться нам, требуют от нас борьбы и трудов. Лишь если встает вопрос об отказе - отказе от ощущения (а ведь дело, в конце концов, в нем), появляется повод направить сознание на предмет такового. Стилизованное представлением о рае состояние, в котором субъект и объект, вожделение и исполнение еще не разделились, отнюдь не есть состояние исторически ограниченной эпохи и выступает повсюду и в самых разных степенях; это состояние, конечно, предопределено к разложению, но тем самым опять-таки и к примирению: смысл указанного дистанцирования заключается в том, что оно преодолевается. Страстное желание, усилие, самопожертвование, вмещающиеся между нами и вещами, как раз и должны нам их доставить. «Дистанцирование» и приближение также и практически суть понятия взаимообразные, каждое из них предполагает другое, и оба они образуют стороны того отношения к вещам, которое мы субъективно называем своим вожделением, а объективно - их ценностью. Конечно, мы должны удалить от себя предмет, от которого мы получили наслаждение, дабы вожделеть его вновь; что же касается дальнего, то это вожделение есть первая ступень приближения, первое идеальное отношение к нему. Такое двойственное значение вожделения, т. е. то, что оно может возникнуть только на дистанции к вещам, преодолеть которую оно как раз и стремится, но что оно при этом все-таки предполагает уже какую-то близость между нами и вещами, дабы имеющаяся дистанция вообще ощущалась, - это значение прекрасно выразил Платон, говоривший, что любовь есть среднее состояние между обладанием и необладанием. Необходимость жертвы, уяснение в опыте, что вожделение успокоено не напрасно, есть только заострение или возведение в степень этого отношения: тем самым мы оказываемся принуждены осознать удаленность между нашим нынешним Я и наслаждением вещами, причем именно благодаря тому, что та же необходимость и выводит нас на путь к преодолению удаленности. Такое внутреннее развитие, приводящее одновременно к возрастанию дистанции и сближения, явственно выступает и как исторический процесс дифференциации. Культура вызывает увеличение круга интересов, т. е. периферия, на которой находятся предметы интереса, все дальше отодвигается от центра, т. е. Я. Однако это удаление возможно только благодаря одновременному приближению. Если для современного человека объекты, лица и процессы, удаленные от него на тысячи миль, имеют жизненное значение, то они должны быть сначала сильнее приближены к нему, чем к естественному человеку, для которого ничего подобного вообще не существует; поэтому для последнего они еще находятся по ту сторону позитивного определения, [т. е. определения их] близости или удаленности. И то, и другое начинает развиваться из такого состояния неразличенности только во взаимодействии. Современный человек должен работать совершенно иначе, чем естественный человек, прилагать усилия совершенно иной интенсивности, т. е. расстояние между ним и предметами его воления несравнимо более дальнее, между ними стоят куда более жесткие условия, но зато и бесконечно более велико количество того, что он приближает к себе - идеально, через свое вожделение, а также реально, жертвуя своим трудом. Культурный процесс - тот самый, который переводит субъективные состояния влечения и наслаждения в оценку объектов - все резче разводит между собой элементы нашего двойного отношения близости к вещам и удаленности от них.
Субъективные процессы влечения и наслаждения объективируются в ценности, т. е. из объективных отношений для нас возникают препятствия, лишения, появляются требования [отдать] какую-то «цену», благодаря чему причина или вещественное содержание влечения и наслаждения только и удаляется от нас, а благодаря этому, одним и тем же актом, становится для нас подлинным «объектом» и ценностью. Таким образом, отвлеченно-радикальный вопрос о субъективности или объективности ценности вообще поставлен неправильно. Особенно сильно вводит в заблуждение, когда его решают в духе субъективности, основываясь на том, что нет такого предмета, который мог бы задать совершенно всеобщий масштаб ценности, но этот последний меняется - от местности к местности, от личности к личности и даже от часа к часу. Здесь путают субъективность и индивидуальность ценности. Что я вожделею наслаждения или наслаждаюсь, есть, конечно, нечто субъективное постольку, поскольку здесь, в себе и для себя, отнюдь не акцентируется осознание предмета как такового или интерес к предмету как таковому. Однако, в дело вступает совершенно новый процесс, процесс оценки: содержание воли и чувства обретает форму объекта. Объект же противостоит субъекту с некоторой долей самостоятельности, довольствуя его или отказывая ему, связывая с получением себя требования, будучи возведен изначальным произволом выбора себя в законосообразный порядок, где он претерпевает совершенно необходимую судьбу и обретает совершенно необходимую обусловленность. То, что содержания, принимающие эту форму объективности, не суть одни и те же для всех субъектов, здесь совершенно не важно. Допустим, все человечество совершило бы одну и ту же оценку; тем самым у этой последней не приросло бы нисколько «объективности» свыше той, какой она уже обладает в некотором совершенно индивидуальном случае; ибо, поскольку содержание вообще оценивается, а не просто функционирует как удовлетворение влечения, как наслаждение, оно находится на объективной дистанции от нас, которая устанавливается реальной определенностью помех и необходимой борьбы, прибылей* и потерь, соображений [о ценности] и цен.
* В оригинале: «Gewinn». В сочетаниях «GewinndesGegenstandes»,«Gewinn desObjekts» и т. д. мы до сих пор переводили его как «получение» (предмета, объекта и т. п.). В сочетаниях «Gewinn und Verlust», «Gewinnund Verzicht», «Gewinn und Opfer» и т. д. оно будет переводиться как «прибыль» («и потеря», «и отказ», «и жертва» и т. п.).
Основание, в силу которого снова и снова ставится ложный вопрос относительно объективности или субъективности ценности, заключается в том, что мы преднаходим в развитом эмпирическом состоянии необозримое число объектов, которые стали таковыми исключительно по причинам, находящимся в сфере представления. Однако уж если в нашем сознании есть готовый объект, то кажется, будто появляющаяся у него ценность помещается исключительно на стороне субъекта; первый аспект, из которого я исходил, - включение содержаний в ряды бытия и ценности, - кажется тогда просто синонимичным их разделению на объективность и субъективность. Однако при этом не принимают во внимание, что объект воли есть как таковой нечто иное, чем объект представления. Пусть даже оба они располагаются на одном и том же месте пространственного, временного и качественного рядов: вожделенный предмет противостоит нам совершенно иначе, означает для нас нечто совсем иное, чем представляемый. Вспомним об аналогичном случае - любви. Человек, которого мы любим, - совсем не тот же образ, что и человек, которого мы представляем себе в соответствии с познанием [о нем]. Я при этом не имею в виду те смещения или искажения, которые привносит, например, аффект в образ познания. Ведь этот последний все равно остается в области представления и в рамках интеллектуальных категорий, как бы ни модифицировалось его содержание. Однако то, как является для нас объектом любимый человек, - это, по существу, иной род, чем интеллектуально представляемый, он означает для нас, несмотря на все логическое тождество, нечто иное, примерно, так, как мрамор Венеры Милосской означает нечто иное для кристаллографа, чем для эстетика. Таким образом, элемент бытия, удостоверяемый, в соответствии с некоторыми определенностями бытия, как «один и тот же», может стать для нас объектом совершенно различными способами: [способом] представления и [способом] вожделения. В пределах каждой из этих категорий противопоставление субъекта и объекта имеет разные причины и разные действия, так что если практические отношения между человеком и его объектами ставят [нас] перед такого рода альтернативой: [либо] субъективность, либо объективность, которая может быть значима лишь в области интеллектуального представления, то это ведет только к путанице. Ибо даже если ценность предмета объективна и не в том самом смысле, в каком объективны его цвет или тяжесть, то от этого она отнюдь еще не субъективна в том смысле, который соответствует этой объективности; такая субъективность присуща, скорее, например, окраске, возникающей из-за обмана чувств, или какому-либо качеству вещи, которое приписывает ей ложное умозаключение, или некоторому бытию, реальность которого внушает нам суеверие. Напротив, практическое отношение к вещам создает совершенно иной род объективности - благодаря тому, что реальные обстоятельства оттесняют содержание вожделения и наслаждения от самого этого субъективного процесса и тем самым создают для объективности специфическую категорию, которую мы называем ее ценностью.
В хозяйстве же этот процесс происходит таким образом, что содержание жертвы или отказа, становящихся между человеком и предметом его вожделения, одновременно является предметом вожделения кого-то другого: первый должен отказаться от владения или наслаждения, вожделеемых другим, чтобы подвигнуть его на отказ от того, чем он владеет и что вожделеет первый. Ниже я покажу, что и хозяйство изолированного производителя, ориентированного на собственное потребление, может быть сведено к той же формуле. Итак, два ценностных образования <Wertbildungen> переплетаются между собой: необходимо вложить ценность, чтобы получить ценность. Поэтому все происходит так, как если бы вещи обоюдно определяли свои ценности. Ведь в процессе обмена одной на другую практическое осуществление и меру своей ценности каждая ценность обретает в другой. Это - решающее следствие и выражение дистанцирования предметов от субъекта. Пока они находятся в непосредственной близости к нему, пока дифференцированность вожделений, редкость предметов, трудности и сопротивления при их получении не оттесняют их от субъекта, они остаются для него, так сказать, вожделением и наслаждением, но еще не являются предметом ни того, ни другого. Указанный процесс, в ходе которого они становятся [именно предметом], завершается тем, что дистанцирующий и одновременно преодолевающий дистанцию предмет, собственно, и производится для этой цели. Тем самым обретается чистейшая хозяйственная объективность, отрыв предмета от субъективного отношения к личности, а поскольку это производство совершается для кого-то другого, кто предпринимает соответствующее производство для первого, то предметы вступают в обоюдное объективное отношение. Форма, которую ценность принимает в обмене, включает ее в уже описанную выше категорию по ту сторону субъективности и объективности в строгом смысле слова; в обмене ценность становится надсубъектной*, надындивидуальной, не становясь, однако, вещественным <sachlich> качеством и действительностью самой вещи <Ding>: она выступает как требование вещи, как бы выходящее за пределы ее имманентной вещественности, которое состоит в том, чтобы быть отданной, быть полученной лишь за соответствующую ценность с противоположной стороны.
* В оригинале: «ubersubjektiv». Немецкое «subjektiv» может быть передано по-русски и как «субъективный», и как «субъектный», соответственно варьируют и производные от него.
Будучи всеобщим истоком ценностей вообще, Я, тем не менее, настолько далеко отступает от. своих созданий, что они теперь могут мерить свои значения друг по другу, не обращаясь всякий раз снова к Я. Цель этого сугубо вещественного взаимоотношения ценностей, которое совершается в обмене и основано на обмене, явно состоит в том, чтобы, наконец, насладиться ими, т. е. в том, чтобы к нам было приближено больше более интенсивных ценностей, чем это было бы возможно без такой самоотдачи и объективного выравнивания в процессе обмена. Подобно тому, как о божественном начале говорили, что оно, сообщив силы мировым стихиям, отступило на задний план и предоставило их взаимной игре этих сил, так что мы теперь можем говорить об объективном, следующем своим собственным отношениям и законам мире; но также и подобно тому, как божественная власть избрала такое исторжение из себя мирового процесса как самое пригодное средство для наиболее совершенного достижения своих целей касательно мира, - так и в хозяйстве мы облачаем вещи в некоторое количество ценности, как будто это - их собственное качество, и затем предоставляем их движению обмена, объективно определенному этими количествами механизму, некоторой взаимности безличных ценностных действий - откуда они, умножившись и делая возможным более интенсивное наслаждение, возвращаются к своей конечной цели, которая была их исходным пунктом: к чувствованию субъектов. Таковы исток и основа хозяйственного образования ценностей, последствия которого выступают носителем смысла денег. К демонстрации этих последствий мы сейчас и обратимся.
II
Техническая форма хозяйственного общения создает [настоящее] царство ценностей, которое в большей или меньшей степени совершенно оторвалось от своего субъективно-личностного базиса. Индивид совершает покупку, потому, что он ценит предмет и желает его потребить, однако это вожделение индивид эффективно выражает только посредством того предмета, который он обменивает на [желаемый]; тем самым субъективный процесс дифференциации и растущего напряжения между функцией и содержанием, в ходе которого последнее становится «ценностью», превращается в вещественное, надличное отношение между предметами. Личности*, которые побуждаются своими желаниями и оценками к совершению то одного обмена, то другого, реализуют тем самым для своего сознания только ценностные отношения, содержание которых уже заключено в самих вещах: количество одного объекта соответствует по ценности определенному количеству другого объекта, и эта пропорция как нечто объективно соразмерное и словно бы законосообразное столь же противоположна личным мотивам (своему истоку и завершению), как мы это видим в объективных ценностях нравственной и других областей. По меньшей мере, так должно было бы выглядеть вполне развитое хозяйство. В нем предметы циркулируют соответственно нормам и мерам, устанавливающимся в каждый данный момент; индивиду они противостоят, таким образом, как некое объективное царство, к которому он может быть причастным либо непричастным, но если он желает первого, то это для него возможно лишь как для носителя или исполнителя внеположных ему определенностей. Хозяйство стремится (это никогда не бывает совершенно нереальным и никогда не реализуется полностью) достигнуть такой ступени развития, на которой вещи взаимно определяют меры своей ценности, словно бы посредством самодеятельного механизма, - невзирая на то, сколько субъективного чувствования вобрал в себя этот механизм в качестве своего предварительного условия или своего материала. Но именно благодаря тому, что за один предмет отдается другой, ценность его обретает всю ту зримость и осязаемость, какая здесь вообще возможна. Взаимное уравновешение, благодаря которому каждый из объектов хозяйствования выражает свою ценность в ином предмете, изымает их из области сугубо чувственного значения: относительность определения ценности означает его объективацию. Тем самым предполагается основное отношение к человеку, в чувственной жизни которого как раз и совершаются все процессы оценивания, оно, так сказать, вросло в вещи, и они, будучи оснащены им, вступают в то взаимное уравновешение, которое является не следствием их хозяйственной ценности, но уже ее носителем или содержанием.
* В оригинале: «Personen». Немецкие слова «Person» и «Personlichkeit» строго и адекватно передаются русскими «лицо» и «личность». Однако это терминологическое различие не выдержано в данном тексте Зиммеля, и потому мы предлагаем, как представляется, более удобочитаемый перевод.
Таким образом, факт хозяйственного обмена изымает вещи из состояния слитности с сугубой субъективностью субъектов, а поскольку в них тем самым инвестируется их хозяйственная функция, это заставляет их взаимно определять друг друга. Практически значимую ценность предмету сообщает не одно только то, что он вожделен, но и то, что вожделен другой [предмет]. Его характеризует не отношение к воспринимающему субъекту, а то, что это отношение обретается лишь ценой жертвы, в то время как с точки зрения другой стороны, эта жертва есть ценность, которой возможно насладиться, а та первая ценность - жертва. Тем самым объекты взаимно уравновешиваются, а потому и ценность может совершенно особенным образом выступить как объективно присущее им самим свойство. Поскольку по поводу предмета торгуются - а это означает, что представляемая им жертва фиксируется - его значение выступает для обоих контрагентов как нечто гораздо более внеположное им, чем если бы индивид воспринимал его только в отношении к себе самому; ниже мы увидим, что изолированное хозяйство, поскольку оно противопоставляет хозяйствующего требованиям природы, с той же необходимостью заставляет его жертвовать [чем-то] для получения объекта, так что и здесь то же самое отношение, которое только сменило одного носителя, может сообщить предмету столь же самостоятельное, зависимое от его собственных объективных условий значение. Конечно, за всем этим стоит вожделение и чувство субъекта как движущая сила, однако в себе и для себя она не смогла бы породить эту форму ценности, которая подобает только взаимному уравновешению объектов. Хозяйство проводит поток оценок сквозь форму обмена, создавая как бы междуцарствие между вожделениями, истоком всякого движения в человеческом мире, и удовлетворением наслаждения, его конечным пунктом. Специфика хозяйства как особой формы общения и поведения состоит (если не побояться парадоксального выражения) не столько в том, что оно обменивает ценности, сколько в том, что оно обменивает ценности. Конечно, значение, обретаемое вещами в обмене и посредством обмена, никогда не бывает вполне изолировано от их субъективно-непосредственного значения, напротив, они необходимо предполагают друг друга, как форма и содержание. Однако объективный процесс, достаточно часто господствующий над сознанием индивида, так сказать, абстрагируется о того, что его материал образуют именно ценности; здесь наиболее существенным оказывается их равенство - вроде того, как задачей геометрии оказываются пропорции величин, безотносительно к субстанциям, в которых эти пропорции только и существуют реально. Что не только рассмотрение хозяйства, но и само хозяйство, так сказать, состоит в реальном абстрагировании из объемлющей действительности процессов оценки, не столь удивительно, как может показаться на первый взгляд, если только уяснить себе, насколько человеческая деятельность [вынуждена] внутри каждой провинции души считаться с абстракциями. Силы, отношения, качества вещей, к которым в этой связи принадлежит и наше собственное существо - объективно образуют единое нерасчлененное <Ineinander>, которое, чтобы мы могли иметь с ним дело, рассекается на множество самостоятельных рядов или мотивов лишь нашим привходящим интересом. Так, любая наука изучает явления, которые только с ее точки зрения обладают замкнутым в себе единством и совершенно отграничены от проблем других наук, тогда как действительность нимало не озабочена этими разграничениями и, более того, каждый фрагмент мира представляет собой конгломерат задач для самых разнообразных наук. Равным образом и наша практика вычленяет из внешней или внутренней комплексности вещей односторонние ряды и лишь так создает большие системы интересов культуры. То же самое обнаруживается и в деятельности чувства. Если наше восприятие религиозно или социально, если мы настроены меланхолично или радуемся миру, то абстракции, извлеченные из целого действительности, наполняют нас именно как предметы нашего чувства - то ли потому, что наша реактивная способность выхватывает из предлагаемых впечатлений лишь те, которые могут быть подведены под то или иное общее понятие интереса; то ли потому, что она самостоятельно сообщает каждому предмету некоторую окраску, причем это оправдано самим предметом, поскольку в его целостности основание для подобной окраски переплетается в объективно неразличенном единстве с основаниями для иных окрасок. Так что вот еще одна формула для описания отношения человека к миру: из абсолютного единства и взаимной сращенности вещей, где каждая есть основа для другой и все существуют равноправно, наша практика не менее, чем теория, непрерывно извлекает отдельные элементы, чтобы сомкнуть их в относительные единства и целостности. У нас, не считая самых общих чувств, нет отношения к тотальности бытия: лишь поскольку, исходя из потребностей нашего мышления и действования, мы извлекаем из явлений продолжительно существующие абстракции и наделяем их относительной самостоятельностью сугубо внутренней взаимосвязи, [той самостоятельностью,] в которой их объективному бытию отказывает непрерывное мировое движение, - мы обретаем определенное в своих частностях отношение к миру. Таким образом, хозяйственная система, конечно, основана на абстракции, на отношении обоюдности обмена, балансе между жертвой и прибылью, тогда как в реальном процессе эта система неразрывно слита со своим основанием и своим результатом: вожделениями и наслаждениями. Но эта форма существования не отличается от других областей, на которые мы, сообразно своим интересам, разлагаем совокупность явлений.
Чтобы хозяйственная ценность была объективна и тем самым служила определению границ хозяйственной области как самостоятельной, главное - принципиальная зап-редельность этой значимости для отдельного субъекта. Благодаря тому, что за предмет следует отдавать другой, оказывается, что он чем-то ценен не только для меня, но и в себе, т. е. и для другого. В хозяйственной форме ценностей уравнение «объективность = значимость для субъектов вообще» находит одно из своих самых ясных оправданий. Благодаря эквивалентности, которая вообще только в связи с обменом привлекает к себе сознание и интерес, ценность обретает специфические характерные черты объективности. Пусть даже каждый из элементов будет только личностным или только субъективно ценным - но то, что они равны друг другу, есть момент объективный, не заключенный ни в одном из этих элементов как таковом, но и не внеположный им. Обмен предполагает объективное измерение субъективных ценностных оценок, но не в смысле временного предшествования, а так, что и то, и другое существуют в едином акте.
Здесь необходимо уяснить себе, что множество отношений между людьми может считаться обменом; он представляет собой одновременно самое чистое и самое интенсивное взаимодействие, которое, со своей стороны, и составляет человеческую жизнь, коль скоро она намеревается получить материал и содержание. Уже с самого начала часто упускают из виду, сколь многое из того, что на первый взгляд есть сугубо односторонне оказываемое воздействие, фактически включает взаимодействие: кажется, что оратор в одиночку влияет на собрание и ведет его за собой, учитель - класс, журналист - свою публику; фактически же каждый из них в такой ситуации воспринимает определяющие и направляющие обратные воздействия якобы совершенно пассивной массы; в политических партиях повсеместно принято говорить: «раз я ваш вождь, то должен следовать за вами», - а один выдающийся гипнотизер даже подчеркивал недавно, что при гипнотическом внушении (явно представляющем собой самый определенный случай чистой активности, с одной стороны, и безусловной подверженности влиянию, - с другой) имеет место трудно поддающееся описанию воздействие гипнотизируемого на гипнотизера, без которого не был бы достигнут эффект. Однако всякое взаимодействие можно рассматривать как обмен: каждый разговор, любовь (даже если на нее отвечают другого рода чувствами), игру, каждый взгляд на другого. И если [кому-то] кажется, что здесь есть разница, что во взаимодействии отдают то, чем сами не владеют, а в обмене - лишь то, чем сами владеют, то это мнение ошибочно. Ибо, во-первых, во взаимодействии возможно пускать в дело только свою собственную энергию, жертвовать своей собственной субстанцией; и наоборот: обмен совершают не ради предмета, который прежде был во владении другого, но ради своего собственного чувственного рефлекса, которого прежде не было у другого; ибо смысл обмена - т. е. что сумма ценностей после него должна быть больше, чем сумма ценностей прежде него, - означает, что каждый отдает другому больше, чем имел он сам. Конечно, «взаимодействие» - это понятие более широкое, а «обмен» - более узкое; однако в человеческих взаимоотношениях первое в подавляющем большинстве случаев выступает в таких формах, которые позволяют рассматривать его как обмен. Каждый наш день слагается из постоянных прибылей и потерь, прилива и отлива жизненных содержаний - такова наша естественная судьба, которая одухотворяется в обмене, поскольку тут одно отдается за другое сознательно. Тот же самый духовно-синтетический процесс, который вообще создает из рядополож-ности вещей их совместность и [бытие] друг для друга; то же самое Я, которое, пронизывая все чувственные данности, сообщает им форму своего внутреннего единства, благодаря обмену овладевает и естественным ритмом нашего существования и организует его элементы в осмысленную взаимосвязь. И как раз обмену хозяйственными ценностями менее всего можно обойтись без окраски жертвенности. Когда мы меняем любовь на любовь, то иначе вообще не знали бы, что делать с открывающейся здесь внутренней энергией; отдавая ее, мы (с точки зрения внешний последствий деятельности) не жертвуем никаким благом; когда мы в диалоге обмениваемся духовным содержаниями, то количество их от этого не убывает; когда мы демонстрируем тем, кто нас окружает, образ своей личности и воспринимаем образ другой личности, то у нас от этого обмена отнюдь не уменьшается владение собою как тем, что нам принадлежит*. В случае всех этих обменов умножение ценностей происходит не посредством подсчета прибылей и убытков; напротив, каждая сторона <Partei> либо вкладывает что-то такое, что вообще находится за пределами данной противоположности, либо одна только возможность сделать это вложение уже есть прибыль, так что ответные действия партнера мы воспринимаем - несмотря на наше собственное даяние - как незаслуженный подарок. Напротив, хозяйственный обмен - все равно, касается ли он субстанций или труда или инвестированной в субстанции рабочей силы - всегда означает жертвование благом, которое могло бы быть использовано и по-другому, насколько бы в конечном счете ни перевешивало эвдемонистическое умножение [ценностей].
* В оригинале более сжато: «Besitz unser selbst», однако, столь же сжатый русский перевод мог навести на мысль о том, что речь здесь идет о самообладании как сдержанности.
Утверждение, что все хозяйство есть взаимодействие, причем в специфическом смысле жертвующего обмена, должно столкнуться с возражением, выдвинутым против отождествления хозяйственной ценности вообще с меновой ценностью*.
* Здесь мы должны впервые оговорить перевод слова «Wert». Установившийся у нас способ перевода, в частности, работ К. Маркса навязывает здесь замену «ценности» «стоимостью». Однако это полностью нарушило бы единство текста, так как нередко пришлось бы все-таки оставлять «ценность». Мы исходим из того, что, по уверению самого Зиммеля, текст его не экономический, а философский, а значит, уже одним этим, в принципе, может быть оправдан сквозной перевод «Wert» как «ценность».
Говорят, что даже совершенно изолированный хозяин - то есть тот, который ни покупает, ни продает, - должен все-таки оценивать свою продукцию и средства производства, то есть образовать независимое от всякого обмена понятие ценности, чтобы его затраты и результаты находились в правильной пропорции друг к другу. Но этот факт как раз и доказывает, однако, именно то, что должен был опровергнуть. Ведь все соображения хозяйствующего субъекта насчет того, оправданы ли затраты определенного количества труда или иных благ для получения определенного продукта, и оценивание при обмене того, что отдают, в соотношении с тем, что получают, суть для него совершенно одно и то же. Нечеткость в понимании отношений, особенно частая, когда речь идет о понятии обмена, приводит к тому, что о них говорят как о чем-то внешнем для тех элементов, между которыми они существуют. Однако ведь отношение - это только состояние или изменение внутри каждого из элементов, но не то, что существует между ними, в смысле пространственного обособления некоего объекта, находящегося между двумя другими. При сопряжении в понятии обмена двух актов, или изменений состояния, совершающихся в действительности, легко поддаться искушению представить себе, будто в процессе обмена что-то совершается над и наряду с тем, что происходит в каждом из контрагентов, - подобно тому, как если бы понятие поцелуя (ведь поцелуями тоже «обмениваются») было субстанциализировано, так что соблазнительно было бы считать его чем-то таким, что существует где-то вне обеих пар губ, вне их движений и восприятий. С точки зрения непосредственного содержания обмена, он есть только каузальное соединение двукратно совершающегося факта: некий субъект имеет теперь нечто такое, чего у него прежде не было, а за это он не имеет чего-то такого, что у него прежде было. Но тогда тот изолированный хозяин, который должен принести определенные жертвы для получения определенных плодов, ведет себя точно так же, как и тот, кто совершает обмен; только его контрагентом выступает не второй волящий субъект, а естественный порядок и закономерность вещей, обычно столь же мало удовлетворяющий наши вожделения без [нашей] жертвы, как и другой человек. Исчисления ценностей изолированным хозяином, согласно которым он определяет свои действия, в общем, совершенно те же самые, что и при обмене. Хозяйствующему субъекту как таковому, конечно, совершенно все равно, вкладывает ли он находящиеся в его владении субстанции или рабочую силу в землю или он отдает их другому человеку, лишь бы только результат для него оставался одним и тем же. В индивидуальной душе этот субъективный процесс жертвования и получения прибыли отнюдь не является чем-то вторичным или подражательным по сравнению с обменом, происходящим между индивидами. Напротив: обмен отдачи на достижение <Errungenschaft> в самом индивиде есть основополагающая предпосылка и как бы сущностная субстанция всякого двустороннего обмена. Этот последний есть просто подвид первого, а именно, такой, при котором отдача бывает вызвана требованием со стороны другого индивида, в то время как с тем же результатом для субъекта она может быть вызвана вещами и их технически-естественными свойствами. Чрезвычайно важно совершить редукцию хозяйственного процесса к тому, что действительно происходит, т. е. совершается в душе каждого хозяйствующего. Хотя при обмене этот процесс является обоюдным и обусловлен тем же самым процессом в Другом, это не должно вводить в заблуждение относительно того, что естественное и, так сказать, солипсистское хозяйство сводится к той же самой основной форме, что и двусторонний обмен: к процедуре выравнивания двух субъективных процессов в индивиде; этого выравнивания в себе и для себя совершенно не касается второстепенный вопрос, исходило ли побуждение к нему от природы вещей или от природы человека, имеет ли оно характер только натурального хозяйства или хозяйства менового. Таким образом, почувствовать ценность объекта, доступного для приобретения, можно, в общем, лишь отказавшись от других ценностей, причем такой отказ имеет место не только тогда, когда мы, опосредованная работа на себя выступает как работа для других, но и тогда, что бывает достаточно часто, когда мы совершенно непосредственно работаем ради своих собственных целей. Ясно поэтому, что обмен является в точности столь же производительным и образующим ценность, что и производство в собственном смысле. В обоих случаях речь идет о том, чтобы принять отдаваемые нам блага за ту цену, которую назначают другие, причем таким образом, что конечным состоянием будет преизбыток чувств удовлетворения по сравнению с состоянием до этих действий. Мы не можем заново создать ни материала, ни сил, мы способны только переместить данные материалы и силы так, чтобы как можно больше из них взошли из ряда действительности в ряд ценностей. Однако обмен между людьми осуществляет это формальное перемещение внутри данного материала точно так же, как и обмен с природой, который мы называем производством, т. е. оба они подпадают под одно и то же понятие ценности: и там, и тут речь идет о том, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся на месте отданного, объектом более высокой ценности, и только в этом движении объект, прежде слитый с нуждающимся и наслаждающимся Я, отрывается от него и становится ценностью. На глубокую взаимосвязь между ценностью и обменом, благодаря которой не только второе обусловлено первым, но и первое - вторым, указывает уже равенство обоих в создании основы для практической жизни. Как бы сильно ни была наша жизнь определена механикой вещей и их объективностью, мы в действительности не можем сделать ни шага, ни помыслить мысли, не оснащая свое чувствование вещей ценностями и не направляя соответственно этим ценностям нашу деятельность. Но сама эта деятельность совершается по схеме обмена: начиная с удовлетворения низших потребностей и кончая обретением высших интеллектуальных и религиозных благ, всегда требуется вложить ценность, чтобы получить ценность. Что здесь исходный пункт, а что - следствие, определить, видимо, невозможно. Либо в фундаментальных процессах одно невозможно отделить от другого, ибо они образуют единство практической жизни, которое мы, будучи не в состоянии ухватить его как таковое, разнимаем на указанные моменты, либо между ними совершается бесконечный процесс такого рода, что хотя каждый обмен и восходит к ценности, но зато эта ценность восходит к некоторому обмену. Однако, по меньшей мере, для нас более плодотворен и больше дает в смысле объяснения подход от обмена к ценностям, так как обратное кажется более известным и более очевидным. - Ценность представляется нам результатом процесса жертвования, а тем самым нам открывается бесконечное богатство, которым наша жизнь обязана этой основной форме. Стремление по возможности сделать жертву меньше и болезненное ее ощущение заставляют нас поверить, что только полное прекращение жертв подняло бы жизнь к высочайшим вершинам ценности. Но при этом мы упускаем из виду, что жертва отнюдь не всегда является внешним барьером, но что она - внутреннее условие самой цели и пути к ней. Загадочное единство нашего практического отношения к вещам мы разлагаем на жертву и прибыль, помеху и достижение, а поскольку жизнь с ее дифференцированными стадиями часто отделяет по времени одно от другого, мы забываем, что если цель достанется нам без такого препятствия, которое следует преодолевать, то это уже не будет та же самая цель. Сопротивление, которое должна уничтожить наша сила, только позволяет ей удостоверить себя самое; грех, преодолевая который душа восстает к блаженству, только и обеспечивает ей ту «радость на небесах», которую там отнюдь не связывают с изначально праведными; всякий синтез нуждается в одновременно столь же эффективном аналитическом принципе, каковой он как раз и отрицает (а без аналитического принципа это был бы уже не синтез многих элементов, но абсолютное Одно), а равным образом и всякий анализ нуждается в синтезе, в снятии которого он состоит (потому что он все еще требует некоторой сопряженности [элементов], без которой она была бы сугубой несвязностью: даже самая ожесточенная вражда есть еще взаимосвязь в большей степени, чем просто безразличие, а безразличие - больше, чем просто незнание друг о друге). Короче говоря, препятствующее противодействие, устранение которого как раз и означает жертву, часто (а с точки зрения элементарных процессов, даже всегда) является позитивной предпосылкой самой цели. Жертва отнюдь не относится к категории «не-должного», как это совершенно ложно пытаются внушить поверхностность и алчность. Жертва есть условие не только отдельных ценностей, более того, в рамках хозяйственной жизни, о которой здесь идет речь, она является условием ценности вообще; это не только цена, которую приходится платить за отдельные, уже фиксированные ценности, но и цена, благодаря которой они вообще появляются.
Обмен происходит в двух формах, которых я здесь коснусь лишь применительно к трудовой ценности. Поскольку имеется желание праздности или совершенно самодостаточной игры сил, или желание избежать чисто обременительных усилий, всякий труд*, бесспорно, является жертвованием. Однако, наряду с этими побуждениями, имеется еще некоторое количество скрытой трудовой энергии, с которым, как таковым, мы не знаем что делать, либо же оно обнаруживается благодаря влечению к добровольному, не вызываемому ни нуждой, ни этическими мотивами труду. На это количество рабочей силы, отдача которой не является в себе и для себя жертвованием, [притязают,] конкурируя между собой, многочисленные требования, для удовлетворения которых ее недостаточно. Итак, при всяком употреблении силы приходится жертвовать одним или несколькими возможными ее употреблениями. Если бы ту силу, посредством которой мы совершаем работу А, мы бы не могли использовать и для работы В, то первая не стоила бы нам никакой жертвы; но то же самое имеет силу и для работы В, в том случае, например, если бы мы совершили ее вместо работы А. Итак, с уменьшением эвдемонизма, отдается отнюдь не труд, но именно нетруд; в уплату за А мы не приносим в жертву труд, - потому что, как мы здесь предположили, это совсем нас не тяготит, - нет, мы отказываемся от В. Таким образом, жертва, которую мы отдаем в обмен при труде, во-первых, абсолютна, а во-вторых, относительна: страдание, которое мы принимаем, с одной стороны, непосредственно связано с трудом - когда труд для нас есть тягость и наказание; с другой же стороны, [это страдание] косвенно - в тех случаях, когда мы можем заполучить один объект, лишь отказавшись от другого, причем сам труд [оказывается] эвдемонистически иррелевантен или даже имеет позитивную ценность. Но тогда и те случаи, когда труд совершается с удовольствием, сводятся к форме самоотверженного обмена, всегда и повсюду характерного для хозяйства.
* В оригинале: «Arbeit». Переводится как «труд» или как «работа» в зависимости от контекста.
То, что предметы вступают в отношения хозяйства, имея определенного уровня ценность, поскольку каждый из двух объектов любой трансакции для одного контрагента означает прибыль, к которой тот стремится, а для другого - жертву, которую он приносит, - все это, видимо, имеет силу для сформировавшегося хозяйства, но не для основных процессов, которые только его и образуют. Кажется, будто есть логическая сложность, которая, правда, обнаруживается благодаря аналогии: две вещи могли бы иметь равную ценность, только если каждая из них сначала имела бы ценность сама по себе, подобно тому, как две линии могли бы быть равны по длине, только если бы каждая из них уже до сравнения имела определенную длину. Но если присмотреться внимательнее, то выяснится, что на самом деле длина у линии имеется только в момент сравнения. Ведь определение своей длины - потому что она же не просто «длинна» - линия не может получить от себя самой, но получает его только благодаря другой, относительно которой она себя мерит и которой она тем самым оказывает точно такую же услугу, хотя результат измерения зависит не от самого этого акта, но от каждой линии, существующей независимо от другой. Вспомним о категории, которая сделала для нас понятным объективное ценностное суждение, названное мною метафизическим: [речь шла о том, что] в отношении между нами и вещами появляется требование совершить определенное суждение, содержание которого, между тем, не заключено в самих вещах. Подобным же образом совершается и суждение относительно длины: от вещей исходит к нам как бы притязание осуществить некое содержание, но это содержание не предначертано самими вещами, а может быть реализовано лишь нашим внутренним актом. То, что длина вообще только и создается в процессе сравнения и, таким образом, заказана объекту как таковому, о которого она зависит, легко укрывается от нас только потому, что из отдельных относительных длин мы абстрагировали общее понятие длины - исключив при этом, таким образом, именно определенность, без которой не может быть никакой конкретной длины, - а теперь проецируем это понятие внутрь вещей, полагая, будто они должны были все-таки сначала вообще иметь длину, прежде чем она могла быть путем сравнения определена для единичного случая. Сюда еще добавляется, что из бесчисленных сравнений, образующих длину, выкристаллизовались прочные масштабы, через сравнение с которыми определяются длины всех отдельных пространственных образований, так что эти длины, будучи как бы воплощениями абстрактного понятия длины, кажутся уже не относительными, потому что все измеряется по ним, они же совсем не измеряются - заблуждение не меньшее, чем уверенность в том, что падающее яблоко притягивается землей, а она им - нет. Наконец, ложное представление о том, что отдельной линии самой по себе присуща длина, внушается потому, что для нас в отдельных частях линии уже имеется множество элементов, в отношениях которых состоит длина. Подумаем, что было бы, если бы во всем мире имелась бы только одна линия: она вообще не была бы «длинна», так как у нее отсутствовало бы соотношение с какой-либо другой, - потому-то и признается, что невозможно говорить об измерениях мира как целого, ибо вне мира нет ничего, в соотношении с чем он мог бы иметь некую величину. Но фактически так обстоит дело с каждой линией, покуда она рассматривается без сравнения с другими или без сравнения ее частей между собой: она ни коротка, ни длинна, но еще внеположна всей этой категории. Итак, эта аналогия, вместо того чтобы опровергнуть относительность хозяйственной ценности, только делает ее еще яснее.
Если нам приходится рассматривать хозяйство как особый случай всеобщей жизненной формы обмена, при которой отдают, чтобы получить, то уже с самого начала мы будем предполагать ситуации, когда и внутри него ценность полученного не бывает доставлена, так сказать, в готовом виде, но возрастает у вожделеемого объекта отчасти или даже всецело по мере для этого, как для [его получения] требуется жертва. Такие случаи, столь же частые, сколь и важные для учения о ценностях, таят в себе, правда, одно внутреннее противоречие: получается, что мы должны приносить в жертву ценность ради вещей, которые по себе ценности не имеют. Однако ведь разумным образом никто не отдает ценность, не получая за нее нечто по меньшей мере столь же ценное, а так, чтобы цель, наоборот, обретала свою ценность лишь благодаря цене, которую мы должны за нее отдать, может случаться лишь в извращенном мире. Это [рассуждение] правильно уже применительно к непосредственному сознанию, причем даже в большей мере, чем, с точки зрения этого популярного подхода, считается в других случаях. Фактически та ценность, которую субъект отдает за другую, при фактических сиюминутных обстоятельствах никогда не может для самого субъекта превышать ту, которую он на нее выменивает. И если кажется, что все обстоит наоборот, то это всегда происходит оттого, что действительно воспринимаемую субъектом ценность путают с той, которая присуща соответствующему предмету обмена согласно средней или представляющейся объективной оценке. Так, в крайней нужде некто отдает драгоценность за кусок хлеба, потому что последний при данных обстоятельствах важнее для него, чем первая. Но чтобы с некоторым объектом было связано некоторое чувство ценности всегда нужны определенные обстоятельства, потому что носителем каждого такого чувства является весь многочленный, находящийся в постоянном движении, приспособлении и преобразовании комплекс нашего чувствования; а уникальны ли эти обстоятельства или относительно постоянны, в принципиальном смысле явно безразлично. Отдавая драгоценность, голодный однозначно доказывает, что хлеб для него более ценен. Итак, нет сомнения, что в момент обмена, принесения жертвы, ценность выменянного предмета образует ту границу, выше которой не может подняться ценность отдаваемого предмета. И совершенно независимо от этого ставится вопрос, откуда же получает свою столь необходимую ценность тот первый объект, не из тех ли жертв, которые надо принести, чтобы получить его, так что эквивалентность полученного и его цены устанавливается как бы a posteriori и с точки зрения последней. Мы сейчас увидим, сколь часто ценность психологически возникает именно таким, кажущимся нелогичным, образом. Но если уж она однажды появилась, то, конечно, и по отношению к ней - не меньше, чем по отношению к ценности, конституированной любым другим образом, - психологически необходимо, чтобы она считалась позитивным благом, по меньшей мере, таким же большим, как и негативное, - приносимая ради нее жертва. В действительности уже поверхностному психологическому рассмотрению известен целый ряд случаев, когда жертва не просто повышает, но именно только и создает ценность цели. Прежде всего, в этом процессе находит выражение радость от доказательства своей силы, от преодоления трудностей, а часто и противодействия. Необходимость идти обходным путем для достижения определенных вещей часто является поводом, но часто - и причиной, чтобы почувствовать их ценность. Во взаимоотношениях людей, прежде всего и яснее всего в эротических, мы замечаем, как сдержанность, равнодушие или отказ возбуждают как раз самое страстное желание победить, несмотря на препятствия, и побуждают нас к усилиям и жертвам, которых эта цель, не будь такого противодействия, казалась бы, не заслуживает. Для многих людей эстетическое потребление альпийских восхождений не стоило бы внимания, если бы его ценой не были чрезвычайные усилия и опасности, которые только и придают ему важность, притягательную силу и достоинство. Очарование древностей и редкостей нередко заключено в том же; если с ними не связан никакой эстетический или исторический интерес, то заменой ему служит одна только трудность их получения: они настолько ценны, сколько они стоят, и только затем уже оказывается, что они стоят столько, насколько они ценны. Далее, нравственные заслуги всегда означают, что для совершения нравственно желательного деяния сначала было необходимо побороть противоположно направленные влечения и желания и пожертвовать ими. Если же оно совершается без какого бы то ни было преодоления, как само собой разумеющийся результат беспрепятственных импульсов, то сколь бы ни было объективно желательно его содержание, ему тем не менее не приписывается в том же смысле субъективная нравственная ценность. Напротив, только благодаря жертвованию низшими и все-таки столь искусительными благами достигается вершина нравственных заслуг, тем более высокая, чем соблазнительнее были искушения и чем глубже и обширнее было жертвование ими. Наивысший почет и наивысшую оценку получают такие дела людей, которые обнаруживают или, по крайней мере, кажется, что обнаруживают, максимум углубленности, затраты сил, постоянной концентрации всего существа, - а тем самым также и отречения, жертвования всем посторонним, отдачи субъективного объективной идее. А если несравненную привлекательность демонстрирует, напротив, эстетическая продукция и все легкое, приятное, источаемое самоочевидным влечением, то и эта особенность объясняется подспудным ощущением, что обычно-то аналогичный результат обусловлен тяготами и жертвами. Подвижность наших душевных содержаний и неисчерпаемая их способность вступать в комбинации часто приводит к тому, что важность некоторой связи переносится на прямую ее противоположность, так, примерно, как ассоциация двух представлений совершается и потому, что они согласуются между собой, и потому, что они друг другу противоречат. Полученное без преодоления трудностей и словно подарок счастливого случая мы воспринимаем как совершенно особенную ценность только благодаря тому, какое значение имеет для нас достигаемое с трудом, измеряемое жертвами - это та же самая ценность, но с обратным знаком, и первична именно она, а другая может быть только выведена из нее, но никак не наоборот.
Таковы, конечно, скорее, крайние или исключительные случаи. Но если мы хотим выявить их тип в широкой области хозяйственных ценностей, требуется, видимо, сначала отделить понятие хозяйственности как специфического различия, или формы, от ценностей как всеобщего, или их субстанции. Примем, что ценность есть нечто данное и теперь уже не подлежащее дискуссии, и тогда, после всего, что уже было сказано, не подлежит сомнению, по меньшей мере, то, что хозяйственная ценность как таковая присуща не изолированному предмету в его для-себя-бытии, а только затрате другого предмета, который отдается за первый. Дикорастущий плод, сорванный без труда, не отдаваемый в обмене и вкушаемый непосредственно, не есть хозяйственное благо; таковым он может считаться в лучшем случае лишь тогда, когда его потребление избавляет, скажем, от иных хозяйственных затрат; но если бы все требования жизни <Lebenshaltung> удовлетворялись таким образом, чтобы ни один момент не был связан с жертвой, то и люди уже не хозяйствовали бы, как птицы, рыбы или жители страны дураков. Каким бы способом ни стали ценностями оба объекта, А и В, но хозяйственной ценностью А становится лишь потому, что я должен отдать за него В, а В - лишь потому, что я могу получить за него А; причем, как уже сказано, принципиально все равно, совершается ли жертвование путем отдачи ценности другому человеку, то есть путем обмена между индивидами, или в пределах круга интересов самого индивида, путем подсчета усилий и результатов. В объектах хозяйства невозможно найти совершенно ничего, кроме того значения, которое каждый из них прямо или косвенно имеет для нашего потребления, и обмена, совершающегося между ними. А так как признается, что первого как такового еще недостаточно, чтобы сделать предмет хозяйственным, то последнее только и способно добавить к нему специфическое различие, которое мы называем хозяйственным. Однако это разделение между ценностью и ее хозяйственной формой движения искусственно. Если хозяйство поначалу представляется только формой в том смысле, что оно уже предполагает ценности как свои содержания, чтобы иметь возможность включить их в движение уравнивания жертвы и прибыли, то все-таки в действительности тот же самый процесс, который из ценностей как предпосылок образует хозяйство, можно обрисовать как производство самих ценностей следующим образом.
Хозяйственная форма ценности находится между двух границ: с одной стороны, вожделение объекта, которое подсоединяется к предвосхищаемому чувству удовлетворения от обладания и наслаждения им; с другой стороны, - само это наслаждение, которое, строго говоря, не есть хозяйственный акт. Ведь если согласиться с тем, о чем мы только что говорили (а это достаточно общепринятый взгляд), то есть что непосредственное потребление дикорастущих плодов не является хозяйственной деятельностью, а сами эти плоды, таким образом, не являются хозяйственной ценностью, то и потребление собственно хозяйственных ценностей тогда уже не является хозяйственным: ибо акт потребления в этом последнем случае абсолютно не отличается от акта потребления в первом случае: для того, кто ест плод, в акте еды и его прямых последствиях нет никакой разницы, случайно ли он нашел этот плод, вырастил сам или купил. Но предмет, как мы видели, -вообще еще не ценность, пока он, как непосредственный возбудитель чувств, еще непосредственно слит с субъективным процессом, составляя как бы самоочевидную компетенцию нашей чувственной способности. Он должен быть сначала отделен от нее, чтобы получить для нас то подлинное значение, которое мы называем ценностью. Дело не только в том, что в себе и для себя вожделение, конечно, вообще не могло бы выступать основанием какой бы то ни было ценности, если бы не наталкивалось на препятствия - ведь если бы всякое вожделение удовлетворялось без борьбы и без остатка, то не только никогда не возникло бы хозяйственного обращения ценностей, но и само вожделение при беспрепятственном удовлетворении никогда не достигало бы сколько-нибудь значительных высот. Только отсрочка удовлетворения из-за препятствий, опасения, что объект может ускользнуть, напряжение борьбы за [обладание] им, суммирует моменты вожделения: интенсивность воления и непрерывность обретения. Но если бы даже наивысшее по силе вожделение имело сугубо внутреннее происхождение, то и тогда, как это неоднократно подчеркивалось, за объектом, который его удовлетворяет, не признавалось бы никакой ценности, если бы он доставался нам без ограничений. Тогда для нас был бы важен, конечно, весь род [объектов], существование которого гарантирует нам удовлетворение наших желаний, а не то ограниченное количество, которым мы фактически обладаем, потому что его точно так же можно было бы без труда заменить другим, причем, однако, и вся эта совокупность осознавалась бы как ценная только при мысли о том, что ее могло бы не быть. Наше сознание в этом случае было бы просто наполнено ритмом субъективных вожделений и удовлетворений, не уделяя внимания посредствующему объекту. Сами по себе потребность и удовлетворение не содержат ни ценности, ни хозяйства. И то, и другое осуществляется одновременно только благодаря обмену между двумя субъектами, каждый из которых делает для другого условием чувства удовлетворения некоторый отказ, или благодаря аналогу [такого обмена] в солипсистском хозяйстве. Благодаря обмену, то есть хозяйству, одновременно возникают ценности хозяйства, потому что оно является носителем или создателем дистанции между субъектом и объектом, которая переводит субъективное состояние чувства в объективное оценивание. Я уже приводил выше слова Канта, суммировавшего свое учение о познании следующим образом: условия опыта суть одновременно условия предметов опыта, то есть процесс, который мы называем опытом, и представления, которые образуют его содержания или предметы, подлежат одним и тем же законам рассудка. Предметы могут входить в наш опыт, постигаться нами на опыте потому, что они суть наши представления, и та же самая сила, которая образует и определяет опыт, обнаруживается и в образовании предметов. И в том же самом смысле мы можем здесь сказать, что возможность хозяйства есть одновременно возможность предметов хозяйства. Именно процесс, происходящий между двумя собственниками объектов (субстанций, рабочей силы, прав, вообще всего, что только можно передать), который устанавливает среди них отношение «хозяйства», то есть [процесс] - взаимной - отдачи, в то же самое время возвышает каждый из этих объектов, относя его к категории ценности. Трудность, угрожавшая нам со стороны логики, а именно, что сначала ценности должны были бы существовать, существовать как ценности, прежде чем вступить в форму в хозяйства и его движение, теперь преодолена, благодаря уясняемому значению того психического отношения, которое мы назвали дистанцией между нами и вещами. Дистанция дифференцирует изначально субъективное состояние чувств на вожделеющий субъект, только антиципирующий чувства, и противостоящий ему объект, который теперь содержит в себе ценность, - тогда как дистанция создается в области хозяйства благодаря обмену, т. е. благодаря обоюдному установлению границ, препятствий, отказов. Таким образом, для производимых ценностей хозяйства, равно как и для хозяйственного характера <Wirtschaftlichkeit> ценностей свойственны одна и та же взаимность и относительность.
Обмен - это не сложение процесса отдачи и процесса принятия, но некое новое третье, которое возникает, поскольку каждый из них есть в одно и то же время и причина другого, и его результат. Благодаря этому ценность, которую сообщает объекту необходимость отказа, становится хозяйственной ценностью. Если, в общем, ценность возникает в интервале, который препятствия, отказы, жертвы устанавливают между волей и ее удовлетворением, то раз уж процесс обмена состоит в такой взаимообусловленности принятия и отдачи, то нет нужды в предшествующем процессе оценивания, который бы делал ценностью один только данный объект для одного только данного субъекта. Все что здесь необходимо, совершается ео ipso* в акте обмена. В эмпирическом хозяйстве вещи, вступающие в обмен, обычно уже снабжены, конечно, знаками ценности. Мы же здесь имеем в виду только внутренний, так сказать, систематический смысл понятия ценности и обмена, от которого в исторических явлениях остались лишь рудименты или идеальное значение, не та форма, в которой эти явления живут как реальные, но та, которую они обнаруживают в проекции на уровень объективно-логического, а не историке-генетического понимания.
* Само собой (лат.).
Перевод хозяйственного понятия ценности, имеющего характер изолированной субстанциальности, в живой процесс соотнесения, можно, далее, объяснить тем, что обычно рассматривается как конституирующие ценность моменты: нужностью и редкостью. Нужность здесь выступает как первое условие, заложенное в самой организации <Verfassung> хозяйственных субъектов, лишь при соблюдении которого объект вообще может иметь значение для хозяйства. А вот чтобы обрести конкретную высоту отдельной ценности, к нужности должна добавиться редкость как определенность самого ряда объектов. Если бы решили устанавливать хозяйственные ценности путем спроса и предложения, то спрос соответствовал бы нужности, а предложение - моменту редкости. Пригодность играла бы решающую роль при определении того, есть ли у нас вообще спрос на предмет, а редкость - в вопросе о том, с какой ценой предмета мы были бы вынуждены согласиться. Пригодность выступает как абсолютная составляющая хозяйственных ценностей, величина которой должна быть определена, чтобы с нею она и вступала в движение хозяйственного обмена. Правда, редкость с самого начала следует признать чисто негативным моментом, так как она означает исключительно то - количественное - отношение, в котором соответствующий объект находится с наличной совокупностью себе подобных, иначе говоря, [редкость] вообще не затрагивает качественную сущность объекта. Однако, нужность, как кажется, существует до всякого хозяйства, до сравнения, соотнесения с другими объектами и, будучи субстанциальным моментом хозяйства, делает зависимыми от себя его движения.
Но, прежде всего, указанное обстоятельство неправильно обозначать понятием нужности (или полезности). В действительности здесь имеется в виду вожделенноетъ объекта. Сколь бы ни был нужен предмет, само по себе это не может стать причиной хозяйственных операций с ним, если из его нужности не следует вожделенность. Так и получается. Любое представление о нужных нам вещах может сопровождать какое-нибудь «желание», однако подлинного вожделения, которое имеет хозяйственное значение и предваряет нашу практику, не возникает и по отношению к ним, если ему противодействуют продолжительная нужда, инертность конституции, уход к другим сферам интересов, равнодушие чувства по отношению к теоретически признанной пользе, очевидная невозможность [ее] достижения, а также другие позитивные и негативные моменты. С другой стороны, мы вожделеем и, следовательно, хозяйственно оцениваем многие вещи, которые невозможно обозначить как нужные или полезные, разве только произвольно расширяя словоупотребление. Но если допустить такое расширение и все хоз.яйственно вожделеемое подводить под понятие нужности, тогда логически необходимо (а иначе не все полезное будет также и вожделее-мо), чтобы решающим моментом хозяйственного движения считалась вожделенность объектов. Однако и этот момент, даже с такой поправкой, отнюдь не абсолютен и не избежал относительности оценивания. Во-первых, как мы уже видели, само вожделение не получает сознательной определенности, если между объектом и субъектом не помещаются препятствия, трудности, жертвы; мы подлинно вожделеем лишь тогда, когда мерой наслаждения предметом выступают промежуточные инстанции, когда, во всяком случае, цена терпения, отказа от других стремлений и наслаждений отодвигают от нас предмет на такую дистанцию, желание преодолеть которую и есть его вожделение. А во-вторых, хозяйственная ценность предмета, возникающая на основании его вожделенности, может рассматриваться как усиление или сублимация уже заложенной в вожделении относительности. Ибо практической, то есть вступающей в движение хозяйства ценностью вожделее-мый предмет становится лишь благодаря тому, что его вожделенность сравнивается с вожделенностью иного и только так вообще обретает некую меру. Только если есть второй объект, относительно которого мне ясно, что я хочу его отдать за первый или первый - за второй, можно указать на хозяйственную ценность обоих объектов. Изначально для практики точно так же не существует отдельной ценности, как для сознания изначально не существует единицы. Двойка, как это подчеркивали разные авторы, древнее единицы. Если палка разломана на куски, требуется слово для обозначения множества, целая - она просто «палка», и повод назвать ее «одной» появляется, только если дело уже идет о двух как-то соотнесенных палках. Так и вожделение объекта само по себе еще не ведет к тому, чтобы у него появилась хозяйственная ценность, - для этого здесь нет необходимой меры: только сравнение вожделений, иными словами, обмениваемость их объектов фиксирует каждый из них как определенную по своей величине, т. е. хозяйственную ценность. Если бы в нашем распоряжении не было категории равенства (одной из тех фундаментальных категорий, которые образуют из непосредственно [данных] фрагментов картину мира, но только постепенно становятся психологически реальными), то «нужность» и «редкость», как бы велики они ни были, не создали бы хозяйственного общения. То, что два объекта равно достойны вожделения или ценны, при отсутствии внешнего масштаба можно установить лишь таким образом, что в действительности или мысленно их обменивают друг на друга, не замечая разницы в (так сказать, абстрактном) ощущении ценности. Поначалу же, видимо, не обмениваемость указывала на равноценность как на некоторую объективную определенность самих вещей, но само равенство было не чем иным, как обозначением возможности обмена. В себе и для себя интенсивность вожделения еще не обязательно повышает хозяйственную ценность объекта. Ведь, поскольку ценность выражается только в обмене, то и вожделение может определять ее лишь постольку, поскольку оно модифицирует обмен. Даже если я очень сильно вожделею предмет, ценность, на которую его можно обменять, тем самым еще не определена. Потому что или у меня еще нет предмета - тогда мое вожделение, если я не выражаю его, не окажет никакого влияния на требования нынешнего владельца, напротив, он будет предъявлять их в меру своей собственной или некоторой средней заинтересованности в предмете; или же, [если] у меня самого есть предмет, мои требования будут либо столь завышены, что предмет окажется вообще исключен из процесса обмена, или мне придется их подстраивать под меру заинтересованности в этом предмете потенциального покупателя. Итак, решающее значение имеет следующее: хозяйственная, практически значимая ценность никогда не есть ценность вообще, но - по своей сущности и понятию - всегда есть определенное количество ценности; это количество вообще может стать реальным только благодаря измерению двух интенсивностей вожделения, служащих мерами друг для друга; форма, в которой это совершается в рамках хозяйства, есть форма обмена жертвы на прибыль; вожделенность предмета хозяйства, следовательно, не содержит в себе, как это кажется поверхностному взгляду, момента абсолютной ценности, но исключительно как фундамент или материал - действительного или мыслимого - обмена сообщает предмету некую ценность. Относительность ценности - вследствие которой данные вожделеемые вещи, возбуждающие чувство, только в процессе взаимной отдачи и взаимного обмена становятся ценностями - заставляет, как кажется, сделать вывод, что ценность есть не что иное, как цена, и что по величине между ними нет никаких различий, так что частыми расхождениями между ценой и ценностью теория якобы оказывается опровергнута. Однако, теория утверждает, что первоначально ни о какой ценности вообще не было бы речи, если бы не то всеобщее явление, которое мы называем ценой. То, что вещь чисто экономически чем-то ценна, означает, что она чем-то ценна для меня, т. е. что я готов что-то за нее отдать. Всю свою практическую эффективность ценность как таковая может обнаружить лишь настолько, насколько она эквивалентна другим, т. е. насколько она обмениваема. Эквивалентность и обмениваемость суть понятия взаимозаменимые, оба они выражают в разных в формах одно и то же положение дел, [одно -] как бы в состоянии покоя, а [другое -] в движении. Да и что же, скажите, вообще могло бы подвигнуть нас не только наивно-субъективно наслаждаться вещами, но еще и приписывать им ту специфическую значимость <Bedeutsamkeit>, которую мы называем их ценностью? Во всяком случае, это не может быть их редкость как таковая. Потому что если бы она существовала просто как факт и мы совершенно не могли бы ее модифицировать (а ведь это возможно, причем не только благодаря производительному труду, но и благодаря смене обладателя), то мы, пожалуй, примирились бы с тем, что это - естественная определенность внешнего космоса, пожалуй, даже не осознаваемая из-за отсутствия различий, которая не добавляет к содержательным качествам вещей никакой дополнительной важности. Эта важность появляется лишь тогда, когда за вещи приходится что-то платить: терпением ожидания, трудами поиска, затратами рабочей силы, отказом от чего-то другого, что тоже достойно вожделения. Итак, без цены (поначалу мы говорим о цене в этом более широком смысле) ни о какой ценности речи не идет. Весьма наивно это выражено в вере, бытующей на некоторых островах южных морей, будто если не заплатить врачу, то не подействует и предписанное им лечение. То, что из двух объектов один более ценен, чем другой, как внешне, так и внутренне выглядит таким образом, что субъект готов отдать второй за первый, но не наоборот. В практике, которая еще не стала сложной и многосоставной, большая или меньшая ценность может быть только следствием или выражением этой непосредственной воли к обмену. А если мы говорим, что обменяли одну вещь на другую, потому что они равноценны, то это тот нередкий случай, когда понятия, язык все выворачивают наизнанку и мы думаем, будто любим кого-то за то, что он обладает определенными качествами, - тогда как это мы сообщили ему эти качества только потому, что любим его; - или же мы выводим нравственные императивы из религиозных догм, тогда как в действительности мы в них верим именно потому, что они живут в нас.
Итак, по своей сущности, как она схватывается в понятии, цена совпадает с экономически объективной ценностью; без цены вообще не удалось бы отграничить эту последнюю от субъективного наслаждения предметом. Выражение же, что обмен предполагает равную ценность, неправильно именно с точки зрения субъектов-контрагентов. А и В хотят обменяться между собой предметами своего владения се и р, так как оба они равноценны. Однако у А не было бы повода отдавать свой а, если бы он действительно получал за него равную по величине ценность р. Р должен означать для него большее количество ценности, нежели то, которым он прежде обладал как а; а равным образом и В должен больше приобретать, чем терять при обмене, чтобы вступить в него. Итак, если для А р более ценен, чем а, а для В, напротив, - а более ценен, чем р, то, конечно, с точки зрения наблюдателя, объективно это уравнивается. Однако этого равенства ценности нет для контрагента, который больше получает, чем отдает. И если он все-таки убежден, что поступил с другим по праву и справедливости и выменял у него [нечто] равноценное, то применительно к А это следует выразить так: конечно, объективно он отдал В равное за равное, цена (а) эквивалентна предмету (Р), однако субъективно ценность р для него, конечно, больше, чем ценность а. Но чувство ценности, связывающее А с Р, есть само по себе некое единство, а в нем уже невозможно различить даже мельчайшей черточки, которая бы разделяла объективное количество ценности и его субъективное признание. Итак, исключительно тот факт, что объект обменивается, то есть является некой ценой и стоит некую цену, задает эту границу, определяет в пределах субъективного количества его ценности ту часть [объекта], которая вступает в общение как встречная ценность.
Другое наблюдение ничуть не менее поучительно. [Оно заключается в том,] что обмен отнюдь не обусловлен предшествующим представлением об объективной равноценности. Присмотримся к тому, как совершают обмен ребенок, человек импульсивный и (как по всему кажется) человек примитивный. Они что угодно отдадут за предмет, который страстно вожделеют именно в данный момент, даже если, по общему мнению, цена его слишком высока, да и сами они, спокойно поразмыслив, думают так же. Однако это не противоречит результату наших предшествующих рассуждений, что всякий обмен должен представляться выгодным для сознания субъекта именно потому, что субъективно такие действия в целом еще не имеют отношения к вопросу о равенстве или неравенстве объектов обмена. Как раз для рационализма, [подходящего к вопросу] столь непсихологически, кажется, между прочим, самоочевидным, будто каждый обмен предполагает, что уже взвешены все жертвы и прибыли, и в результате, по меньшей мере, одно было приравнено к другому. А к тому же еще [полагают, будто участник обмена] объективен по отношению к своему вожделению, что вовсе не характерно для душевных конституций, о которых только что шла речь. Неразвитый или пристрастный дух не отступает от своего интереса, обострившегося в данный момент, так далеко, чтобы затевать сравнение, он хочет в данный момент именно лишь одного и, отдавая другое, не считает поэтому, что умаляет желанное удовлетворение, то есть отдача не воспринимается как цена. Мне-то, напротив, в виду той бездумности, с какой ребячливые, неопытные, порывистые люди «любой ценой» заполучают то, что является предметом их сию-минутного вожделения, кажется вероятным, что суждение о тождестве является только результатом опыта и мно-жества перемен во владении, совершившихся без каких бы то ни было соображений, [взвешивающих жертвы и прибыли]. Совершенно одностороннее, полностью оккупирующее дух вожделение должно сначала успокоиться благодаря обладанию [предметом], чтобы [оно могло] вообще допустить другие объекты к сравнению с ним. Не вышколенный и необузданный дух, между тем, придает одно значение своим интересам в данный момент, и совершенно другое - всем остальным представлениям и оценкам. Поэтому он пускается на обмен прежде, нежели дело дойдет до суждений о ценности, т. е. об отношении между собой различных количеств вожделения. Не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что в случае развитого по-нятия ценности и достаточного самообладания суждение о равной ценности предшествует обмену. Вполне вероятно, что и здесь, как это нередко бывает, рациональное отношение развилось только из психологически противоположного отношения (также и в области души то рсут змЬт есть последнее, что цэуей* есть первое), а перемена владения, ставшая результатом чисто субъективных импульсов, только впоследствии демонстрирует нам относительную ценность вещей.
* [То] для нас [есть последнее, что] по природе [есть первое]. (Греч.). (См.: Аристотель. Физика. Кн. первая, Гл. первая: «...надо попытаться определить прежде всего то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе...». Пер. В. П. Карпова). - Указано Т. Ю. Бородай.
Если, таким образом, ценность является как бы эпигоном цены, то кажется тождественным положение, что величины обеих должны быть одинаковы. Я здесь имею в виду указанную выше постановку вопроса: в каждом индивидуальном случае ни один контрагент не платит цены, которая слишком высока для него в данных обстоятельствах. Если в стихотворении Шамиссо разбойник приставляет пистолет и вынуждает жертву продать ему часы и кольцо за три гроша, то при таких обстоятельствах для последнего (ибо только так он может спасти свою жизнь) полученное в обмен действительно стоит свою цену; никто не стал бы работать за нищенское жалованье, если бы в том положении, в котором он фактически находится, это жалованье не было бы для него все-таки предпочтительнее, чем отсутствие работы. Видимость парадокса в утверждении об эквивалентности ценности и цены в каждом индивидуальном случае возникает только потому, что в это утверждение привносятся определенные представления о другого рода эквивалентности ценности и цены. Сравнительная стабильность отношений, которыми определяется множество действий, ас другой стороны, - аналогии, которые также фиксируют еще колеблющееся отношение ценности соответственно норме уже существующих [отношений ценности], вызывают представление о том, что с определенным объектом сопряжен по своей ценности именно такой-то и такой-то иной объект как его обменный эквивалент, оба эти объекта или круга объектов обладают ценностью одинаковой величины, а если ненормальные обстоятельства заставляют нас обменивать этот объект на другие ценности, которые находятся выше или ниже этого уровня, то ценность и цена здесь расходятся, хотя в каждом отдельном случае, с учетом конкретных обстоятельств, они совпадают. Не следует только забывать, что объективная и справедливая эквивалентность ценности и цены, которую мы делаем нормой для фактически существующей и единичной эквивалентности, имеет силу тоже только при совершенно определенных исторических и правовых условиях, а с изменением их сразу же исчезает. Итак, между самой нормой и теми случаями, которые она характеризует как отклоняющиеся или адекватные, различие здесь не принципиальное <genereller>, а, так сказать, нумериче-ское - что-то вроде того, как об индивиде, стоящем необыкновенно высоко или [упавшем] необыкновенно низко говорят, что это, собственно, уже не человек, тогда как такое понятие человека есть лишь среднее, которое потеряло бы свой нормативный характер в тот момент, когда большинство людей либо поднялось столь же высоко, либо опустилось столь же низко, и тогда уже именно эта его конституция считалась бы единственно человеческой. Но чтобы понять это, требуется самым энергичным образом освободиться от укоренившихся и практически совершенно справедливых представлений о ценностях. Ведь при сколько-нибудь более развитых отношениях эти представления располагаются друг над другом двумя слоями: один [слой] образуют традиции общественного круга, основная часть опыта, кажущиеся чисто логическими требования; другой же [слой] составляют индивидуальные констелляции, то, что требуется в данное мгновение и к чему принуждает случайное окружение. В противоположность скорым переменам, происходящим на этом последнем уровне, медленная эволюция, совершающаяся на первом, и его образование через сублимацию второго оказывается скрытым от нашего восприятия, так что он кажется объективно <sachlich> оправданным, выражением некоторой объективной <objektiven> пропорции. Итак, если при обмене в данных обстоятельствах ощущения ценности жертвы и ценности прибыли, по меньшей мере, выступают как равные, - потому что иначе ни один субъект, который вообще производит сравнение, не стал бы этот обмен совершать, - но, с точки зрения указанных общих характеристик, между ними обнаруживаются различия, тогда говорят о разрыве между ценностью и ценой. Самым решительным образом это проявляется при наличии двух предпосылок, которые, впрочем, почти всегда образуют единое целое: во-первых, одно-единственное ценностное качество считается хозяйственной ценностью вообще, и два объекта, таким образом, лишь постольку считаются равно ценными, поскольку в них заложено равное количество <Quan-tum> этой фундаментальной ценности; а во-вторых, определенная пропорция между двумя ценностями выступает как должная, с акцентом не только на объективное, но и на моральное требование. Например, представление о том, что собственно ценностным моментом во всех ценностях является опредмеченное, общественно необходимое рабочее время, используется в обоих отношениях и задает, таким образом, масштаб (применимый прямо или косвенно), заставляя ценность, как маятник, колебаться по отношению к цене, с переменным интервалом отличаясь от нее в большую или меньшую сторону. Однако поначалу сам факт единого масштаба ценности совершенно оставляет в стороне [вопрос о том,] как же рабочая сила стала ценностью.
Вряд ли это произошло бы, если бы она, действуя на различные материалы и создавая различные продукты, не получила бы тем самым возможность обмена или если бы ее применение не было воспринято как жертва, которую приносят для получения результата. Также и рабочая сила лишь благодаря возможности и реальности обмена включается в категорию ценностей, невзирая на то, что затем она в рамках этой категории может задавать масштаб для других ее содержаний. Итак, пусть даже рабочая сила будет содержанием всякой ценности, форму ценности она получает лишь благодаря тому, что вступает в отношение жертвы и прибыли или цены и ценности (в узком смысле). Согласно этой теории получается, что в случае расхождения цены и ценности один контрагент отдает некое количество непосредственно опредмеченной рабочей силы за некоторое меньшее количество того же самого, причем с этим количеством таким образом сопряжены иные, не относящиеся ни к какой рабочей силе обстоятельства, что этот контрагент, тем не менее, совершает обмен, удовлетворяя, например, какую-то неотложную потребность, из любительского интереса, ради обмана, монополии и тому подобного. Итак, в более широком и субъективном смысле и здесь ценность эквивалентна другой ценности, тогда как единая норма рабочей силы, которая делает возможным их расхождение, все равно обязана генезисом своего ценностного характера обмену.
Качественная определенность объектов, которая субъективно означает их вожделенность, теперь уже больше не может претендовать на то, что именно она создает абсолютную величину их ценности: только осуществляемое в обмене отношение вожделений друг к другу делает предметы этих вожделений хозяйственными ценностями. Это определение непосредственно выступает на передний план в другом моменте ценности, который считается конститутивным для нее - в недостаточности или относительной редкости. Ведь обмен есть не что иное, как межиндивидная попытка улучшения скверных обстоятельств, возникающих из-за недостаточности благ, т. е. попытка по возможности уменьшить количество субъективных лишений путем распределения имеющихся запасов. Уже отсюда вытекает прежде всего общая соотнесенность между тем, что называют (это, впрочем, справедливо подвергается критике) ценностью редкости, и тем, что называют меновой ценностью. Однако здесь более важна обратная взаимосвязь. Выше я уже подчеркивал, что следствием недостаточности благ вряд ли было бы приписыванием им ценности <Wertung>, если бы мы не могли модифицировать эту недостаточность. А это возможно двумя способами: либо отдачей рабочей силы, объективно умножающей запас благ, либо отдачей уже имеющихся во владении объектов, потому что при смене владений для субъекта устраняется редкость того объекта, который он более всего вожделеет. Таким образом, можно поначалу, видимо, утверждать, что недостаточность благ сравнительно с ориентированным на них вожделением объективно обусловливает обмен, однако только обмен, в свою очередь, делает редкость одним из моментов ценности. Ошибочно во многих теориях ценности то, что они, беря полезность и редкость как данные, рассматривают экономическую ценность, т. е. движение обмена, как нечто само собой разумеющееся, как необходимо вытекающее из самих этих понятий следствие. Но здесь они совершенно не правы. Если бы, например, в ряду этих предпосылок находилось также аскетическое самоотречение или если бы они вызывали только борьбу и разбой (что часто и случается), то не возникло бы ни экономической ценности, ни экономической жизни.
Этнология учит нас, какими удивительно произвольными, изменчивыми, несоразмерными бывают понятия ценности в примитивных культурах, коль скоро речь идет о чем-то большем, нежели самых настоятельных повсе-днев-ных нуждах. Не вызывает сомнения, что причина этого (во всяком случае, таков один из взаимодействующих [моментов]) - в другом явлении: в отвращении первобытного человека к обмену. Основания такого отвращения назывались разные. Поскольку у примитивного человека отсутствует объективный и всеобщий масштаб ценностей, он всегда должен бояться, что при обмене его обманут; поскольку продукт труда всегда производится им самим для себя самого, он отчуждает от себя в обмене часть своей личности и дает власть над собой злым силам. Быть может, здесь же берет начало и отвращение естественного человека к труду. Здесь у него тоже нет надежного масштаба для обмена усилий на результат, он боится, что его обманет даже природа, объективность которой непредсказуема и ужасающа для него, пока он не зафиксирует также и свою деятельность на некоторой дистанции и не включит ее в категорию объективности. Итак, из-за того, что он погружен в субъективность своего отношения <Verhaltens> к предмету, обмен - как природный, так и межиндивидный, - который идет рука об руку с объективацией вещи и ее ценности, выступает для первобытного человека как нечто неподходящее. И действительно, кажется, будто первое осознание объекта как такового приносит с собой чувство страха, словно бы человек чувствует, что от его Я тем самым отрывается часть. А отсюда сразу же следует мифологическое и фетишистское толкование объекта, которое, с одной стороны, гипостазирует это чувство страха, сообщая объекту единственно возможную для первобытного человека понятность, а с другой, - ослабляет его, очеловечивая объект, ближе подводя его к примирению с субъективностью. Тем самым объясняются многие явления. Прежде всего то, что грабеж, субъективный и ненормированный захват того, чего только что захотелось, рассматривался как нечто само собой разумеющееся и почетное. Не только в гомеровскую эпоху, но и много позже морской разбой считался в отсталых областях Греции законным промыслом, а у многих примитивных народов насилие и разбой считаются даже делом более благородным, чем честная оплата. И это тоже совершенно понятно: при обмене и оплате подчиняются объективной норме, перед которой вынуждена отступить сильная и автономная личность, к чему она как раз часто не склонна. Отсюда же - презрение к торговле вообще со стороны весьма аристократических и своевольных натур. Но по той же причине обмен также поощряет мирные отношения между людьми, поскольку они признают в нем межсубъектную*, в равной мере стоящие над всеми ними объективность и нормирование.
* В оригинале: «intersubjektive». Перевод этого термина радикально испорчен традицией переложения феноменологических текстов. Во всяком случае, мы можем быть уверены, что Зиммель в 1900 г. далек от «интерсубъективности ».
Следует с самого начала предположить, что существует целый ряд опосредствующих явлений между чистой субъективностью смены владений, с чем мы имеем дело в случаях грабежа и дарения, и ее объективностью в форме обмена, когда вещи обмениваются в соответствии с равными количествами содержащихся в них ценностей. Сюда относится традиционная взаимность дарения. У многих народов имеется представление о том, что дар позволительно принять лишь тогда, когда возможно ответить на него встречным даром, так сказать, заслужить задним числом. А отсюда уже прямой путь к полноценному обмену, если он, как это часто бывает на Востоке, происходит таким образом, что продавец «дарит» объект покупателю - но горе тому, кто не сделает соответствующего «встречного дара». Сюда относится так называемая работа «всем миром» <Bitt-arbeit> которая встречается повсеместно: соседи или друзья собираются для взаимопомощи при выполнении неотложной работы, не получая за это жалованья. Однако, обычным делом при этом является, по меньшей мере, хорошенько угостить работников и, по возможности, устроить для них маленький праздник, так что, например, о сербах сообщают, что у них только состоятельные люди могли себе позволить собрать такое товарищество добровольных работников. Конечно, и сегодня на Востоке, а по большей части даже в Италии не существует понятия соразмерной цены, которое ограничивает и фиксирует субъективные предпочтения и покупателя, и продавца. Каждый продает настолько дорого и покупает настолько дешево, насколько это удается применительно к противоположной стороне, обмен есть исключительно субъективная акция, происходящая между двумя лицами и ее исход зависит только от хитрости, жадности, настойчивости сторон, но не от самой вещи и не от ее надындивидуально обоснованного отношения к цене. В том то и состоит гешефт, объяснял мне один римский антиквар, что продавец требует так много, а покупатель предлагает так мало, и постепенно они сближаются друг с другом, доходя до приемлемой позиции. Итак, здесь ясно видно, каким образом объективно соразмерное оказывается результатом встречного и соревновательного движения <Gegeneinander> субъектов - в целом, это вторжение дообменных отношений в обменное хозяйство, которое проникло уже повсюду, но еще не выявило всех своих последствий. Обмен уже тут, он уже представляет собой объективный процесс, происходящий между ценностями, но совершается он вполне субъективно, его модус и его количества связаны исключительно с взаимоотношением личных качеств. - В этом, видимо, состоит также и конечный мотив [существования] сакральных форм, закрепления в законе, гарантий со стороны общественности и традиции, которые сопутствуют торговому делу во всех ранних культурах. Все это позволяло достичь над-субъектности, необходимой по самой сути обмена, создать которую еще не умели посредством объективного соотнесения самих объектов. До тех пор, пока обмен, а также идея, что между вещами существует нечто вроде ценностного равенства, были еще чем-то новым, ни о каком согласии не было бы и речи, если бы достигать его приходилось всякий раз двум индивидам между собой. Поэтому повсеместно, вплоть до самого средневековья мы обнаруживаем, что обмен не просто совершается публично, но прежде всего, что существуют точные определения относительно обмениваемых количеств употребительных товаров и не подчиниться этим определениям, заключив приватное соглашение, не может ни одна пара контрагентов. Конечно, это - объективность механическая и внешняя, она опирается на мотивы и силы вне отдельного акта обмена. Соразмерная самой вещи <sachlich> объективность свободна от такого априорного закрепления и включает в расчеты всю совокупность особых обстоятельств, которыми насильственно овладевает эта форма. Однако намерения и принцип здесь те же самые: надсубъектное фиксирование ценности в обмене, которое только позже пошло более вещественным, более имманентным путем. Свободно и самостоятельно совершаемый индивидами обмен предполагает ценовую оценку <Taxiemng> в соответствии с масштабами, которые заложены в самой вещи, и потому на предшествующей стадии обмен должен быть содержательно фиксирован, а эта фиксация обмена должна быть социально гарантирована, потому что иначе у индивида не было бы никакой точки опоры для оценки <Schatzung> предметов. Видимо, благодаря тому же самому мотиву и примитивный труд повсеместно приобрел социально упорядоченную направленность и стал совершаться в соответствии с социальными правилами, также и здесь обнаруживая сущнос-тное тождество обмена и труда, точнее говоря, принадлежность последнего к первому как более высокому понятию. Впрочем, многообразные отношения между объективно значимым <Gultigen> - как в практическом, так и в теоретипеском аспекте - и его социальным значением <Bedeutung> и признанием часто исторически проявляются таким образом, что социальное взаимодействие, распространение, нормирование гарантируют индивиду то достоинство и ту прочность некоторого жизненного содержания, которые позже ему дают вещественное право и доказуемость этого содержания. Так, ребенок верит всему, [что ему говорят,] но не по внутренним основаниям, а поскольку доверяет [данным] людям; он верит не чему-то, а кому-то. Так и наши вкусы зависят от моды, т. е. от социального распространения некоторой деятельности и оценок, прежде чем, достаточно поздно, мы не научимся сами эстетически судить о вещах. Так индивид оказывается перед необходимостью превзойти себя самого, но одновременно обрести какую-то опору и поддержку вовне: в праве, в познании, в нравственности - как силе традиции; постепенно это поначалу необходимое нормирование, которое, правда, стоит над отдельным субъектом, но не субъектом вообще, превращается в нормирование, исходящее из знания вещей <Dinge>H постижения идеальных норм. То, что [находится] вне нас, [что] нужно нам для ориентации, принимает более доступную форму социальной всеобщности, пока не начинает выступать для нас как объективная определенность реальности и идей. Таким образом, в этом смысле, что характерно для всего развития культуры, обмен изначально является делом социального установления, пока индивиды в достаточной мере не ознакомятся с объектами и своими собственными оценками, чтобы от случая к случаю самостоятельно фиксировать норму обмена. Здесь напрашивается то возражение, что эти зафиксированные обществом и законами оценки цен <Preistaxen>, в соответствии с которыми обычно идет общение во всех полуразвитых культурах <Halbkulturen>, являются, возможно, всего лишь результатом многих предшествующих обменов, которые поначалу состоялись между индивидами в единичной и еще нефиксированной форме. Однако это возражение имеет здесь силу не больше, чем стародавние попытки объяснять возникновение языка, нравов, права, религии, короче говоря, всех основополагающих форм жизни, возникающих и господствующих в группе как целом, только тем, что их изобрели отдельные индивиды, хотя они, безусловно, с самого начала возникали как межиндивидные образования, как взаимодействие между отдельными и многими, так что приписать их происхождение нельзя ни одному индивиду как таковому. Я считаю вполне возможным, что предшественником социально фиксированного обмена явился не индивидуальный обмен, а некий род смены владений, который вообще не был обменом, например, грабеж. Тогда межиндивидный обмен был бы не чем иным, как мирным договором, а возникновение обмена было бы также и возникновением фиксированного обмена. Как аналогию этому можно было бы рассматривать похищение женщин в примитивных обществах, предшествовавшее экзогамному мирному договору с соседями, который служит основой для покупки женщин и обмена ими и регулирует этот процесс. Вводимая тем самым принципиально новая форма супружества сразу же устанавливается так, чтобы фиксировать ее предрешенность для индивида. Нет никакой нужды в том, чтобы [такому супружеству] предшествовали свободные специальные договоры того же рода между отдельными людьми, поскольку тип супружества и социальное регулирование даны одновременно. Считать, что всякое социально регулируемое отношение исторически развилось из тождественной по содержанию, но только индивидуальной, социально не отрегулированной формы, - это предрассудок. Такому отношению предшествовало, скорее, то же самое содержание, но в совершенно иной по своему роду форме отношения. Обмен выходит за субъективные формы присвоения чужого владения - грабеж и дарение, - в полном соответствии с тем, что подарки вождю и налагаемые им денежные штрафы являются предшественниками налогов, - и на этом пути у него обнаруживается первая надсубъектная возможность социального регулирования, которая только и подготавливает объективность в смысле вещности; только вместе с этим общественным нормированием в свободную смену владений врастает та объективность, которая составляет сущность обмена.
Результат всего этого таков: обмен есть социологическое образование sui generis, изначальная форма и функция межиндивидной жизни, которая отнюдь не вытекает как логическое следствие из тех качественных и количественных свойств вещей, которые называются их полезностью и редкостью. Как раз наоборот: и полезность, и редкость обнаруживают свое значение для образования ценности только в тех случаях, когда предпосылкой является обмен. Если по каким-либо причинам обмен, жертвование в целях получения прибыли, прекращается, то никакая редкость вожделенного объекта не может сделать его хозяйственной ценностью, пока такое отношение не станет вновь возможным. - Значение предмета для субъекта заключено всегда только в его вожделенности; в том, что он может нам дать, решающую роль играет его качественная определенность, а если мы его имеем, то в позитивном отношении к нему совершенно неважно, существуют ли еще другие экземпляры того же рода, будь то в большем или меньшем количестве, или их вообще нет. (Я не рассматриваю здесь по отдельности те случаи, когда сама редкость вновь становится родом качественной определенности, делающей предмет для нас достойным вожделения, подобно тому, как это происходит со старым почтовыми марками, диковинами, древностями, которые не имеют эстетической или исторической ценности, и т. п.). Впрочем, ощущение различия, которое необходимо для наслаждения в узком смысле слова, может быть повсеместно обусловлено редкостью объекта, т. е. тем, что наслаждаются им как раз не везде и не всегда. Однако это внутреннее психологическое условие наслаждения не становится практическим уже потому, что должно было бы повлечь за собой не преодоление, а консервацию и даже усиление редкости, чего, как показывает опыт, не происходит. Практически помимо прямого, зависящего от качества вещей наслаждения, речь может идти только о пути к получению такового. Коль скоро этот путь долог и труден, если требуется приносить жертвы, затрачивать терпение, испытывать разочарования, вкладывать труд, переносить неудобства, идти на отречения и т. д., то этот предмет мы называем «редким» . Непосредственно это можно выразить так: вещи труднодостижимы не потому, что они редки, напротив, они редки потому, что труднодостижимы. Сам по себе тот жесткий внешний факт, что запас определенных благ слишком мал, дабы удовлетворить все наши вожделения, направленные на них, не имел бы никакого значения. Есть много объективно редких вещей, которые не редки в хозяйственном смысле; а для хозяйственной редкости решающим обстоятельством является то, в какой мере для ее получения ее через обмен нужны силы, терпение, самоотдача - те жертвы, которые, конечно, предполагают вож-деленность объекта. Трудности с получением [вещи], т. е. величина приносимой в обмене жертвы есть подлинно конститутивный момент ценности, а редкость - лишь внешнее его проявление, лишь объективация в форме количества. Часто не замечают, что редкость как таковая является все-таки лишь негативным определением, сущим, характеризуемым через несущее. Однако несущее не может быть действенным, всякое позитивное следствие должно исходить от позитивного определения и силы, а это негативное [определение] есть как бы только тень позитивного. Но этими конкретными силами очевидно являются лишь те, которые вложены в обмен. Только нельзя полагать, будто характер конкретности принижается от того, что здесь он не связан с индивидом* как таковым. [Господствующая] среди вещей относительность занимает уникальное положение: она выходит за пределы индивида, существует <subsistiert> только в множестве как таковом и все-таки не является всего лишь понятийным обобщением и абстракцией.
В этом тоже выражается глубинная связь относительности с обобществлением, самым непосредственным образом делающая относительность наглядной на материале человечества: общество есть надъединичное, но не абстрактное образование. Благодаря обществу историческая жизнь оказывается избавленной от альтернативы: либо совершаться в одних лишь в индивидах <Individuen>, либо протекать в абстрактных всеобщностях; оно есть то всеобщее, которое одновременно имеет конкретную жизненность. Отсюда - и уникальное значение обмена для общества как хозяйственно-исторического осуществления относительности вещей: он выводит отдельную вещь <Ding> и ее значение для отдельного человека из ее единичности, но не в сферу всеобщего, а в живое взаимодействие, являющееся как бы телом хозяйственной ценности. Как бы точно ни были исследованы сущие сами по себе определения предмета, обнаружить хозяйственную ценность тем самым не удастся, так как она состоит исключительно во взаимоотношении, возникающем между многими предметами на основе этих определений, [причем] каждый предмет обусловливает другой и возвращает ему то значение, которое от него получает.
* В оригинале: «Einzelwesen» (буквально: «отдельная сущность»), что может означать и отдельную вещь, и человека как индивида.
Роберт Парк ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
I. ТКАНЬ ЖИЗНИ
Натуралисты прошлого века были чрезвычайно заинтригованы своими наблюдениями взаимосвязей и взаимосоответствий в царстве живой природы - многочисленностью и разнообразием повсюду распространившихся видов. Их последователи - сегодняшние ботаники и зоологи - обратили свое внимание к более специфичным исследованиям, и «царство природы», как и понятие эволюции, стало для них чем-то далеким и умозрительным.
«Ткань жизни», в которой все живые организмы (растения и животные) связаны воедино в обширной системе взаимозависимых жизней, все же является, по выражению Артура Томпсона, «одним из фундаментальных биологических понятий» и «столь же характерно дарвиновским, как и борьба за существование»*.
Знаменитый пример Дарвина с кошками и клевером - классическая иллюстрация этой взаимозависимости. Он обнаружил, как он говорит, что шмели просто необходимы для опыления анютиных глазок, так как другие пчелы не посещают этот цветок. То же самое происходит и с некоторыми видами клевера. Только шмели садятся на красный клевер; другие пчелы не могут добраться до его нектара. Вывод заключается в том, что если шмели станут редки или вообще исчезнут в Англии, редкими станут или же вовсе исчезнут и анютины глазки и красный клевер. Однако, численность шмелей в каждом отдельном районе в большой степени зависит от численности полевых мышей, которые разоряют их норы и гнезда. Подсчитано, что более двух третей из них таким образом уже разрушено по всей Англии. Гнезд шмелей гораздо больше возле деревень и малых городов, чем в других местах, и это благодаря кошкам, которые уничтожают мышей**. Таким образом, будущий урожай красного клевера в некоторых частях Англии зависит от численности шмелей в этих районах; численность шмелей зависит от количества полевых мышей, численность мышей - от числа и проворности кошек, а количество кошек, как кто-то добавил, - от числа старых дев, проживающих в окрестных деревнях, которые и держат кошек.
Эти длинные цепочки пищи, как их называют, каждое звено в которых поедает другое, имеют своим прототипом детское стихотворение «Дом, который построил Джек». Помните:
А это корова безрогая, Лягнувшая старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота. Который пугает и ловит синицу. Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится, В доме, Который построил Джек***.
*J. Arthur Thompson. The System of Animate Nature (Gifford Lectures, 1915-16), II (New York, 1920), 58.
** J. Arthur Thompson. Darvinism and Human Life. New York 1911 P. 52-53.
*** Перевод С. Маршака. (Прим, перев.).
Дарвина и его современников-натуралистов особенно интересовали наблюдения и описания подобных любопытных иллюстраций взаимной адаптации, взаимосвязи растений и животных, поскольку это, как им представлялось, проливает свет на происхождение видов. И виды, и их взаимозависимость в едином обиталище являются, по всей видимости, результатом все той же дарвиновской борьбы за существование.
Примечательно, что именно приложение к органической жизни социологического принципа, а именно - принципа «соревновательной кооперации» - дало Дарвину.первую возможность сформулировать его эволюционную теорию.
«Он перенес на органическую жизнь, - пишет Томпсон, - социологическую идею» и «тем самым доказал уместность и полезность социологических идей в области биологии»*.
* Ibid., P. 72.
Действующим принципом упорядочивания и регулирования жизни в царстве живой природы является, по Дарвину, «борьба за существование». С ее помощью регулируется жизнь многих организмов, контролируется их распределение и поддерживается равновесие в природе. Наконец, при помощи этой изначальной формы конкуренции существующие виды, те, кто выжил в этой борьбе, находят свои ниши в физической окружающей среде и в существующей взаимозависимости, или разделении труда между различными видами. Дж. Артур Томпсон приводит впечатляющее подтверждение тому в своей «Системе живой природы»:
«Множества живых организмов - ...не изолированные создания, ибо каждая жизнь переплетена с другими в сложной ткани... Цветы и насекомые пригнаны друг к другу, как рука к перчатке. Кошки так же имеют отношение к чуме в Индии, как и к урожаю клевера здесь... Так же, как взаимосвязаны органы тела, взаимосвязаны и организмы в мире жизни. Когда мы что-нибудь узнаем о подспудном обмене, спросе и предложении, действии и реакции между растениями и животными, цветами и насекомыми, травоядными и плотоядными, между другими конфликтующими, но взаимосвязанными интересами, мы начинаем проникать в обширную саморегулирующуюся организацию».
Эги проявления живого, изменяющегося, но устойчивого порядка среди конкурирующх организмов - организмов, воплощающих в себе «конфликтующие, но взаимосвязанные интересы» - являются, по всей видимости, основой для понятия социального порядка, относящегося к отдельным видам, и к обществу, покоящемуся, скорее, на биотическом, нежели культурном основании; это понятие позднее было разработано экологами применительно к растениям и животным.
В последние годы географы растений первыми возродили свойственный предшествующим естествоиспытателям определенный интерес к взаимосвязям видов. Геккель в 1878 году первым назвал такого рода исследования «экологией» и, тем самым, придал им характер отдельной самостоятельной науки, науки, которую Томпсон описывает как «новую естественную историю»*. Взаимосвязь и взаимозависимость видов, естественно, более очевидны и более тесны в привычном окружении, чем где бы то ни было еще. Более того, по мере увеличения числа взаимосвязей и уменьшения конкуренции в последовательности взаимных адаптации конкурирующих видов, окружающая среда и ее обитатели стремились принять характер более или менее совершенно закрытой системы.
В пределах этой системы индивидуальные единицы популяции вовлечены в процесс соревновательной кооперации, которая придает их взаимосвязям характер естественной экономии. Такого рода среду и ее обитателей - растения ли, животных или человека - экологи называют «сообществом».
Существенными характеристиками интерпретируемого таким образом сообщества являются: 1) популяция, территориально организованная, 2) более или менее полностью укорененная на земле, которую она занимает, 3) причем ее индивидуальные единицы живут в состоянии взаимозависимости, которая более симбиотична, нежели социеталь-на в том смысле, в каком этот термин применим к людям.
Эти симбиотические сообщества - не просто неорганизованные собрания растений и животных, которые по случайности сосуществуют в одной среде. Напротив, они взаимосвязаны самым замысловатым образом. У каждого сообщества есть что-то от органического образования. Оно обладает более или менее определенной структурой и «историей жизни, в которой прослеживаются периоды юности, зрелости и старости»**. Если это организм, то он - один из органов, какими являются и другие организмы. Это, выражаясь словами Спенсера, - суперорганизм.
* «Экология», - пишет Элтон, - соответствует ранее употреблявшимся терминам «естественная история» и «биономика», однако ее методы теперь более тщательны и точны». См. статью «Ecology» // Encyclopaedia Вгиапгаса (14th ed.)
** Edward J. Salisbury. Plants// Encyclopaedia Britannica (14th ed.).
Более чем что бы то ни было придает симбиотическому сообществу характер организма тот факт, что оно обладает механизмом (конкуренцией) для того, чтобы 1) регулировать свою численность и 2) сохранять равновесие между составляющими его конкурирующими видами. Именно благодаря поддержанию этого биотического равновесия сообщество сохраняет свою тождественность и целостность как индивидуальное образование и переживает все изменения и чередования, которым оно подвержено в процессе движения от ранних к поздним стадиям своего существования.
II. РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ
Равновесие в природе, как его понимают экологи животных и растений, во многом является вопросом численности. Когда давление популяции на природные ресурсы среды обитания достигает определенной степени интенсивности, неизбежно что-то должно произойти. В одном случае популяция может схлынуть и ослабить давление, мигрируя в другое место. В другом случае, когда нарушение равновесия между популяцией и природными ресурсами является результатом некоторого внезапного или постепенного изменения в условиях жизни, существовавшие до него отношения между видами могут быть полностью нарушены.
Причиной изменения может быть голод, эпидемия, вторжение в среду обитания чуждых видов. Результатом такого вторжения может быть резкое увеличение численности вторгшейся популяции и внезапное уменьшение численности изначально обитавшей в этой среде популяции, если не полное ее исчезновение. Определенного рода изменение является продолжительным, хотя иногда и варьирует существенно по времени и скорости. Чарльз Элтон пишет:
«Впечатление, возникающее у любого исследователя популяций диких животных, таково, что «равновесие в природе» вряд ли существует, разве что - в головах ученых. Кажется, что численность животных всегда стремится достичь слаженного и гармоничного состояния, но всегда что-нибудь случается и препятствует достижению этого счастья»*.
* «Animal Ecology», Ibid.
В обычных условиях эти малозначительные отклонения от биотического баланса опосредуются и поглощаются, не нарушая существующего равновесия и обыденности жизни. Но когда происходят внезапные и катастрофические изменения - война ли, голод или мор, - тогда нарушается биотический баланс, вдребезги разбиваются все традиции, и высвобождаются силы, доселе подконтрольные. Тогда могут последовать многие внезапные и даже губительные изменения, которые глубоко преобразуют существующую организацию коммунальной жизни и зададут другое направление развитию дальнейших событий.
Так, появление коробочного долгоносика на южных хлопковых плантациях - случай незначительный, но прекрасно иллюстрирующий принцип. Коробочный долгоносик пересек Рио Гранде в районе Браунсвилля летом 1892 года. К 1894 году он распространился уже на десяток графств в Техасе, поражая хлопковые коробочки и нанося огромный ущерб плантаторам. Его распространение продолжалось каждый сезон вплоть до 1928 года, когда он поразил практически все хлопкопроизводящие области Соединенных Штатов. Это распространение приняло форму территориальной сукцессии. Последствия для сельского хозяйства были катастрофическими, но не бывает худа без добра - это нашествие послужило толчком для начала уже давно назревших преобразований в организации производства хлопка. Оно также способствовало и переселению на север негритянских фермеров-арендаторов.
Случай с коробочным долгоносиком типичен. В нашем подвижном современном мире, где пространство и время сведены на нет, не только люди, но и все низшие организмы (включая микробы), кажется, как никогда, находятся в движении. Торговля, поступательно разрушая замкнутость, на которой основывался древний порядок в природе, усилила борьбу за существование и расширила арену этой борьбы в обитаемом мире. В результате этой борьбы появляется новое равновесие и новая система живой природы, новое биотическое основание для нового мирового общества.
Как отмечает Элтон, именно «колебания численности» и происходящие время от времени «сбои в механизме регуляции прироста численности животных» как правило прерывают установленный порядок вещей и, тем самым, начинают новый цикл изменений. По поводу этих колебаний численности Элтон пишет:
«Эти сбои в механизме регуляции прироста численности животных - обусловлены ли они (1) внутренними изменениями, вроде внезапно зазвонившего будильника или взорвавшегося парового котла, или же какими-либо факторами внешней среды - растительностью или чем-то в этом роде?»*.
* Ibid.
и добавляет:
«Оказывается, что эти сбои происходят и из-за внутренних, и из-за внешних факторов, но последние являются более существенными и обычно играют решающую роль».
Условия, воздействующие на передвижения и численность популяций и контролирующие их, в человеческих обществах более сложны, чем в растительных и животных сообществах, но обнаруживают и поразительные сходства с последними.
Коробочный долгоносик, перемещающийся из своей давным-давно обжитой среды на Мексиканское нагорье и на девственную территорию южных хлопковых плантаций и увеличивающий численность своей популяции соответственно новым территориям и их ресурсам, не так уж отличается от буров из Южноафриканской Капской провинции, прокладывающих себе путь на вельды (пастбища) Южноафриканского нагорья и заселяющих ее своими потомками в течение каких-нибудь ста лет.
Конкуренция в человеческом (как и в растительном или животном) сообществе стремится привести его к равновесию, восстановить его, когда в результате вторжения внешних факторов или в ходе обычной жизни сообщества это равновесие нарушается.
Таким образом, любой кризис, дающий начало периоду быстрых перемен и усиления конкуренции, в конце концов переходит в фазу более или менее стабильного равновесия и нового разделения труда. Таким способом конкуренция создает условие, при котором ее сменяет кооперация. Только когда конкуренция ослабевает (и только в той степени, в какой она ослабевает), можно говорить о существовании того типа порядка, который мы называем обществом. Короче говоря, с экологической точки зрения общество, постольку, поскольку оно является территориальным образованием, является просто областью, в которой биотическая конкуренция уменьшилась и борьба за существование приняла высшие, более сублимированные формы.
III. КОНКУРЕНЦИЯ, ГОСПОДСТВО Я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Существуют и другие, менее очевидные способы, посредством которых конкуренция контролирует отношения индивидов и видов в коммунальной среде. Два экологических принципа - господство и последовательность, - стремящиеся к установлению и поддержанию такого коммунального порядка, являются функциями конкуренции и зависят от нее.
В каждом сообществе живых организмов всегда есть один (или более) господствующий вид. В растительном сообществе такое господство - результат борьбы различных видов за солнечный свет. В климате, благоприятствующем росту леса, господствующим видом, безусловно, будут деревья. В степях и прериях господствующими будут травы.
«В сообществе растений, где солнечный свет является основной потребностью, господствующим будет самое высокое из всех растений, которое сможет вытянуть свои энергетические ловушки поверх голов других. Второстепенное использование может заключаться в использовании тусклого света под сенью более высоких крон. Нечто похожее происходит в любом сообществе живых организмов на земле, в поле, как и в лесу, есть уровни растительности, адаптировавшиеся к существованию с менее интенсивным освещением, чем растения, стоящие на уровень выше. Как правило существует два или три таких уровня; в дубровнике, например, есть уровень мха, над ним - травы, и низкий кустарник, а затем - ничего, до самых крон; на пшеничном поле господствующей формой будет пшеница, а ниже, между ее стеблей, - сорняки. А в тропических лесах все пространство от пола до крыши поделено на зоны и населено»*.
* Н. G. Wells, Julian S. Huxley, and G. P. Wells. The Science of Life. New York, 1934. P. 968-969.
Но принцип господства действует в человеческих сообществах так же, как и в сообществах растений и животных. Так называемые естественные или функциональные области городского сообщества - например, трущоба, район доходных домов, центральные торговые ряды и центральный район банков - каждый из этих районов обязан своим существованием непосредственно фактору господства, и опосредованно - конкуренции.
Борьба производственных и коммерческих институтов за стратегическое местоположение определяет в перспективе и основные очертания городского сообщества. Распределение населения, равно, как и местоположение и границы занимаемых им областей расселения, определяются другой, схожей, но подчиненной системой сил.
Господствующим районом в любом сообществе является, как правило, тот, где самые высокие цены на землю. В любом большом городе есть обычно два таких положения с самыми высокими ценами на землю - это центральный торговый район и центральный район банков. Начиная с этих позиций цены на землю снижаются, сначала резко, а затем - постепенно, по мере приближения к периферии городского сообщества. Именно эти цены на землю определяют местоположение социальных институтов и деловых предприятий. И те, и другие взаимосвязаны в едином своеобразном территориальном комплексе, внутри которого они являются одновременно и конкурирующими, и взаимозависимыми образованиями.
По мере расширения городского сообщества в сторону пригородов давление профессиональных сообществ, деловых предприятий и разного рода социальных институтов, призванных обслуживать весь метрополитенский регион, постепенно усиливает их потребность пространства именно в центре. Таким образом, не только увеличение пригородной зоны, но и любое изменение в способах передвижения, делающее деловой центр города более доступным, увеличивает давление на центр. Отсюда это давление передается и распространяется, как показывает профиль цен на землю, на все остальные части города.
Тем самым принцип доминирования, действующий в границах, обусловленных территорией и другими естественными характеристиками местоположения, в целом определяет и общий социологический тип города и функциональное отношение различных частей города между собой.
Более того, доминирование, поскольку оно стремится стабилизировать биотическое или культурное сообщество, косвенным образом отвечает и за феномен наследственности.
Термин «наследственность» экологи используют для описания и обозначения той упорядоченной последовательности изменений, через которою проходит биотическое сообщество в своем развитии от начальной и сравнительно нестабильной к относительно устойчивой стадии или к высшей стадии. Суть в том, что не только отдельные растения или животные растут в среде сообщества, но и само сообщество - система отношений между видами - как бы вовлечено в упорядоченный процесс изменения и развития.
Тот факт, что в ходе этого развития сообщество проходит через целый ряд более или менее определенных стадий, придает этому развитию циклический характер, как раз и предполагаемый понятием «наследственность».
Объяснением цикличности изменений, составляющих наследственность, может служить тот факт, что на каждой стадии этого процесса достигается более или менее устойчивое равновесие, которое образуется в ходе последовательных изменений в условиях жизни и как результат этих изменений, а равновесие, достигнутое на ранних стадиях тем самым нарушается. В этом случае силы, доселе сдерживаемые равновесием, высвобождаются, конкуренция усиливается, изменение происходит относительно быстро до тех пор, пока не установится новое равновесие.
Наивысшая стадия развития сообщества соответствует поре зрелости в жизни индивида.
«В развивающемся отдельно взятом организме каждая стадия развития самореализуется и дает начало новой стадии: так, головастик отращивает щитовидную железу, которая предназначена для того, чтобы перейти из состояния головастика к состоянию лягушонка. То же самое происходит и в развивающемся сообществе организмов - каждая стадия изменяет свою среду обитания, поскольку изменяет и почти необратимо обогащает почву своего произрастания, тем самым фактически приближаясь к собственному завершению, и создает возможность для новых видов растений с большими потребностями в минеральных солях или каких-либо других свойствах почвы для своего процветания на ней. Соответственно, большие и более прихотливые растения постепенно вытесняют предшествующих им первопроходцев до тех пор, пока, наконец, не установится равновесие - предельная возможность для данного климата.»*
* Ibid., pp. 977-78.
Культурное сообщество развивается сходным с биотическим сообществом образом, однако, несколько сложнее. Изобретения, равно как и внезапные катастрофические изменения, видимо, имеют более важное значение для появления циклических изменений в культурном соообществе, нежели в биотическом. Но сам принцип появления изменений в сущности тот же. Во всяком случае, все, или большинство наиболее существенных процессов функционально связаны с конкуренцией и зависят от нее.
Конкуренция, которая на биотическом уровне функционирует в целях контроля и регулирования отношений между организмами, на социальном уровне стремится принять форму конфликта. На тесную связь между конкуренцией и конфликтом указывает тот факт, что война зачастую, если не всегда, имеет, или предполагает, своим источником экономическую конкуренцию, которая в этом случае принимает более сублимированную форму борьбы за власть и престиж. Социальная функция войны, с другой стороны, судя по всему, расширяет сферу, в пределах которой возможно сохранение мира.
IV. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Если, с одной стороны, давление населения дополняется изменениями локальной и более широкой среды так, что в одночасье нарушается биотический баланс и социальное равновесие, это, в то же время, усиливает и конкуренцию. А это косвенным образом приводит к новому, более сложному и одновременно территориально более экстенсивному разделению труда.
Под влиянием усилившейся конкуренции и увеличившейся активности, предполагаемой этой конкуренцией, все индивиды и все виды, каждый по-своему, стремятся найти свою особую нишу в физической и жилой среде, где он сможет выжить и процветать в наибольшей степени, соответствующей его неизбежой зависимости от своих соседей.
Именно так устанавливается и поддерживается территориальная организация и биологическое разделение труда в среде сообщества. Это объясняет, хотя бы отчасти, тот факт, что биотическое сообщество одно время воспринималось как нечто вроде сверхорганизма, а затем и как экономическая организация для эксплуатации природных ресурсов своей среды обитания.
X. Дж. Уэллс со своими сотрудниками Джулианом Хаксли и Дж. П. Уэллсом в интересном обзоре под названием «Наука жизни» описывают экологию как «биологическую экономику», которая занимается в большей мере «балансами и взаимным давлением друг на друга видов, обитающих в одной среде»*.
* Ibid.
«Экология, - пишут они, - это распространение экономики на все живое». С другой стороны, наука экономики в традиционном смысле, несмотря на то, что она на целое столетие старше экологии, является просто отраслью более общей науки экологии, которая включает человека вместе со всеми живыми существами. В известном смысле то, что традиционно описывалось как экономика и строго привязывалось к деятельности человека, можно вполне описать и как экологию человека, как несколько лет назад Бэрроуз описал географию. Именно в этом смысле и используют этот термин Уэллс и его соавторы.
«Наука экономики - сначала ее называли политической экономией - на столетие старше экологии. Она была и остается наукой о социальном жизнеобеспечении, о потребностях и их удовлетворении, о труде и богатстве. Она стремится прояснить отношения производителя, торговца, потребителя в человеческом сообществе и показать, как держится вся система. Экология расширяет это исследование до всеобщего изучения отдачи и получения, усилия, накопления и потребления во всех уголках жизни. Экономика, поэтому, есть лишь экология человека, это узкое и специальное изучение в рамках экологии весьма своеобразного сообщества, в котором мы живем. Она могла бы, стать лучшей и более ясной наукой, если бы она начиналась с биологических основ»*.
* Н. Н. Barrows. Geography as Human Ecology // Annals Association American Geographers, 13 (1923): 1-14. See H. G. Wells, et al., pp. 961 - 962.
Поскольку экология человека не может быть одновременно и географией, и экономикой, можно принять в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что она не является ни тем, ни другим, но представляет собой нечто независимое от обеих. Но и тогда причины отождествления экологии с географией, с одной сторны, и с экономикой - с другой, достаточно очевидны.
С точки зрения географии растение, животное и популяция людей вместе с ее обиталищем и другими свидетельствами человеческого пребывания на земле являются лишь частью ландшафта, к детальному описанию и представлению которого и стремится географ.
С другой стороны, экология (биологическая экономика), даже когда она включает в себя некую неосознанную кооперацию и естественное, спонтанное и нерациональное разделение труда, представляет собой нечто отличное от коммерческой экономики, нечто не укладывающееся в рамки торговли на рынке. Коммерция, как отметил где-то Зим-мель, - одно из более поздних и наиболее сложных социальных отношений, которые усвоили люди. Человек - это единственное животное, которое торгуется и обменивается.
Экология и экология человека, если она не отождествляется с экономикой на специфически человеческом и культурном уровне, отличается все же и от статического порядка, обнаруживаемого социальным географом, когда тот описывает культурный ландшафт.
Сообщество, описываемое географом отличается от сообщества описываемого экологом, хотя бы по той причине, что закрытая система с сетью коммуникаций, распространенная человеком по всей земле - это не то же, что и «ткань жизни», связывающая живые существа по всему свету жизненными узами.
V. СИМБИОЗ И ОБЩЕСТВО
Экология человека, не отождествляемая ни с экономикой, ни с географией, как таковая отличается во многих отношениях и от экологии растений и животных. Взаимоотношения между людьми и взаимодействие человека со средой обитания сопоставимы, но не тождественны отношениям других форм жизни, живущих совместно и осуществляющих нечто вроде «биологической экономии» в пределах общей среды обитания.
Прежде всего, человек не столь непосредственно зависит от своего физического окружения, как другие животные. Благодаря существующему всеобщему разделению труда, отношение человека к его физическому окружению опосредовано вторжением другого человека. Обмен товарами и услугами способствовал его освобождению от зависимости от его локального окружения.
Более того, человек, благодаря изобретениям и различного рода техническим изыскам развил невероятную способность преобразовывать не только свое непосредственное окружение и реагировать на него, но осваивать свой мир. Наконец, человек воздвиг на основе биотического сообщества институциональную структуру, укорененную в традиции и обычае.
Структура, там, где она существует, сопротивляется изменению, по меньшей мере - изменению, навязываемому извне; тогда как внутренние изменения она, вероятно, стремится накапливать*. В сообществах растений и животных структура предопределена биологически и, в той мере, в какой вообще существует разделение труда, она имеет физиологические и инстинктивные основания. Одним из самых любопытных примеров этого факта могут служить социальные насекомые, а одной из причин изучения их повадок, как отмечает Уилер, является то, что они показывают, до какой степени социальная организация может быть развита начисто физиологическом и инстинктивном основании; то же самое можно отнести и к людям, находящимся в естественной семье, в отличие от институциональной**.
* Это, очевидно, является еще одним свидетельством той органической природы взаимодействий организмов в биосфере, которую отмечают Артур Томпсон и другие. Она указывает на тот способ, каким конкуренция опо-средует влияния извне, приспосабливая вновь и вновь отношения внутри сообщества. В этом случае «внутри» совпадает с траекторией процесса конкуренции, постольку, поскольку результаты этого процесса существенны и очевидны. Сравни также с зиммелевским определением общества и социальной группы в пространстве и времени, приведенном во «Введении в науку социологии» Парка и Бэрджесса (2-е изд.), ее. 348-356.
** William Morton Wheeler. Social life among the Insects. - Lowell Institute Lectures, March, 1922. - pp. 3-18.
Однако в случае человеческого общества эта структура сообщества подкрепляется обычаем и приобретает институциональный характер. В человеческих обществах, в отличие от сообществ животных, конкуренция и индивидуальная свобода ограничиваются обычаем и консенсусом на каждом уровне, следующим за биотическим.
Случайность этого более или менее произвольного контроля, который обычай и консенсус налагают на естественный социальный порядок, усложняет социальный процесс, но не меняет его существенно, а если и меняет, то результаты биотической конкуренции проявят себя в последующем социальном порядке и в ходе последующих событий.
Таким образом, можно считать, что человеческое общество, в отличие от сообществ растений и животных, организовано на двух уровнях - биотическом и культурном. Есть симбиотическое общество, основанное на конкуренции, и культурное общество, основанное на коммуникации и консенсусе. По сути дела эти два общества являются лишь разными аспектами одного общества, они, несмотря на все перипетии и изменения, остаются, тем не менее, в определенной зависимости друг от друга. Культурная над-структура основывается на симбиотической подструктуре, а возникающие силы, которые проявляются на биотическом уровне как передвижения и действия, на высшем, социальном, уровне принимают более утонченные, сублимированные формы.
Однако, взаимоотношения людей гораздо более разнообразны и сложны, они не сводятся к этой дихотомии - симбиотического и культурного. Этот факт находит подтверждение в самых различных системах человеческих взаимоотношений, которые выступают предметом специальных социальных наук. Поэтому следует иметь в виду, что человеческое общество, в его зрелом и более рациональном виде, представляет собой не только экологический, но и экономический, политический и моральный порядки. Социальные науки состоят не только из социальной географии и экологии, но из экономики, политических наук и культурной антропологии.
Примечательно, что эти различного рода социальные порядки организованы в своего рода иерархию. Можно сказать, что они образуют пирамиду, основанием которой служит экологический порядок, а вершиной - моральный. На каждом из последовательно расположенных уровней - на экологическом, экономическом, политическом и моральном - индивид оказывается полнее инкорпорированным в социальный порядок, более подчиненным ему, нежели на предшествующем уровне.
Общество повсюду является организацией контроля. Его функция состоит в том, чтобы организовывать, интегрировать и направлять усилия составляющих его индивидов. Наверное, можно сказать и так, что функцией общества везде является сдерживание конкуренции и, тем самым, установление более эффективной кооперации органических составляющих этого общества.
Конкуренция на биотическом уровне, как это наблюдается в растительных и животных сообществах, представляется относительно неограниченной. Общество, по факту своего существования, является анархичным и свободным. На культурном уровне эта свобода индивида конкурировать сдерживается конвенциями, пониманием и законом. Индивид более свободен на экономическом уровне, чем на политическом, и более свободен на политическом, нежели на моральном.
По мере развития общества контроль все более распространяется и усиливается, свободная коммерческая деятельность индивидов ограничивается, если не законом, то тем, что Джильберт Мюррей называет «нормальным ожиданием человечества». Нравы - это лишь то, чего люди привыкли ожидать в определенного рода ситуации.
Экология человека, в той мере, в какой она соотносится с социальным порядком, основанным более на конкуренции, нежели на согласии, идентична, по крайней мере в принципе, экологии растений и животных. Проблемы, с которыми обычно имеет дело экология растений и животных, - это, по сути, проблемы популяции. Общество, в представлениях экологов, - это популяция оседлая и ограниченная местом своего обитания. Ее индивидуальные составляющие связаны между собой свободной и естественной экономикой, основывающейся на естественном разделении труда. Такое общество территориально организованно, и связи, скрепляющие его, скорее физические и жизненные, нежели традиционные и моральные.
Экология человека, однако, должна считаться с тем фактом, что в человеческом обществе конкуренция ограничивается обычаем и культурой. Культурная надструктура довлеет как направляющая и контролирующая инстанция над биотической субструктурой.
Если человеческое сообщество свести к его элементам, то можно его себе представить как состоящее из населения и культуры, последняя, при этом, включает в себя 1) совокупность обычаев и верований, 2) соответствующую первой совокупность артефактов и технологических изобретений.
К этим трем элементам, или факторам, - населению, артефактам (технологической культуре) и обычаям и верованиям (нематериальной культуре) - составляющим социальный комплекс, следует, наверное, добавить и четвертый, а именно - природные ресурсы среды обитания.
Именно взаимодействие этих четырех факторов - населения, артефактов (технологической культуры), обычаев и верований (нематериальной культуры) и природных ресурсов - поддерживает одновременно и биотический баланс, и социальное равновесие всегда и везде, где они существуют.
Изменения, которые интересны для экологии, - это движение населения и артефактов (товаров), это изменения в местоположении и занятии - фактически любое изменение, которое влияет на сложившееся разделение труда или отношение населения к земле.
Экология человека по сути своей является попыткой исследовать процесс, в котором биотический баланс и социальное равновесие 1) сохраняются, как только они установлены и 2) процесс перехода от одного относительно стабильного порядка к другому, как только биотический баланс и социальное равновесие нарушены.
ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
Основную часть книги образуют переводы работ современных теоретиков.
Библиографическое оформление этих переводов было по возможности унифицировано. Списки используемой литературы размещаются в конце каждой статьи в алфавитном порядке. В ряде случаев они дополнены библиографическими описаниями русских переводов цитируемых произведений. В переводах классических сочинений библиографическое оформление соответствует оригиналу.
В наиболее сложных теоретических работах необходимые для понимания по-русски, но отсутствующие в оригинале слова или фрагменты фраз заключены в квадратные скобки.
Отточия в квадратных скобках означают незначительные сокращения. В угловые скобки заключены слова на языке оригинала, если перевод предполагает возможные разночтения или нуждается в соответствующем уточнении.
ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ
Первоначальный замысел этой книги был связан с публикацией под одной обложкой ряда социологических работ, опубликованных в русских переводах в альманахе THESIS. В конечном счете было отобрано только три из них, вошедших в выпуск № 4 за 1994 г. («Научный метод»):
Р. Коллинз. Социология: наука или антинаука? (CollinsR. Sociology: Pro-science or Antiscience? // American Sociological Review, 1989, vol. 54 (February). P. 124-139), THESIS. № 4. C. 71-96; Г. Терборн. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке (Goran Therborn. Cultural Belonging, Structural Location and Human Action. Explanation in Sociology and in Social Science //Acta Sociologica. 1991. Vol. 34. No 3. P. 177-192). THESIS, № 4. C. 97-118; Дж. Тернер. Аналитическое теоретизирование (Jonathan Turner. Analytical Theorizing// Social Theory Today / Ed. by Giddens A., Turner J. Stanford: Polity Press, 1987. P. 156-194). THESIS. № 4. C. 119-157. Для данного издания эти переводы были заново сверены и отредактированы. Печатаются с разрешения издателей THESIS'а.
РаботаМ Арчер «Реализм и морфогенез» (Realism and Morphogenesis) была получена в рукописи в 1994 г., еще до выхода книги: Archer Margaret S. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, в которой она должна была стать пятой главой. В русском переводе частично опубликована в «Социологическом журнале». 1994. № 4. С. 50-68. Для данного издания редактором были частично переработаны, а частично переведены заново некоторые фрагменты, выпущенные в первой публикации. Весь перевод был сверен и основательно отредактирован.
Статья Г. Вагнера «Социология: к вопросу о единстве дисциплины» (Gerhard Wagner. Soziologie: Uberlegungen zur Einheit des Faches. Ms. 1995) была написана по моей просьбе и предоставлена в рукописи. В русском переводе впервые опубликована в «Социологическом журнале», 1996, № ѕ. С. 60-83 Для настоящего издания перевод заново сверен.
Статья Ф. Макнотена и Дж. Урри «Социология природы» (PhilMacnagh-ten, John Urry. A Sociology of Nature) была предоставлена в рукописи по моей просьбе в 1995 г. специально для данного издания. Перевод публикуется впервые.
Отдельная история связана с публикацией работы Н. Лумана «Теория общества» (Nik/as Luhmann. Theorie der Gesellschaft. Fassung San Foca' 89). Рукопись я получил от Лумана в феврале 1991 г. Он отнюдь не радовался возможной публикации на русском языке, потому что считал свое сочинение еще далеко не доработанном. Луман много раз перерабатывал рукопись, использовал как основу для курсов лекций, читанных, прежде всего, в Билефельде, но также и в других университетах; в частности, он работал над ней в Италии (отсюда подзаголовок: «Вариант San Foca' 89»), с которой вообще связывал в это время много не сбывшихся позже планов. Поддавшись на мои уговоры, он просил только предуведомить читателя, что это далеко еще не зрелый плод его труда. Однако, когда в 1997 г. вышла монументальная монография Лумана «Общество общества» (Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp), я сравнил тексты первой главы имеющейся у меня рукописи и окончательного варианта. Мне показалось, что выбранные для перевода параграфы если и отличаются от книжного текста, то очень незначительно. Таким образом, не нарушая волю автора, я все-таки могу уверить читателя в том, что он держит в руках отнюдь не полуфабрикат теории. К сожалению, известить Лумана о готовящейся публикации я уже не смог. Он скончался в ноябре 1998 г.
Статья Гая Оукса «Прямой разговор об эксцентричной теории» (Guy Oakes. Straight Thinkinh about Queer Theorizing) была предоставлена в рукописи по моей просьбе. Перевод публикуется впервые.
Работу над переводом «Философии денег» Георга Зиммеля я начал очень давно, перспективы ее завершения далеко не ясны. Между тем, интерес именно к этой книге Зиммеля заметно растет. Не имея возможности удовлетворить ожиданиям коллег полным текстом, я все-таки надеюсь, что этот небольшой фрагмент (представляющий собой две трети первой главы книги) окажется небесполезным. Перевод сделан по изданию: Georg Simmel. Philosophic des Geldes. Zweite, vermehrte Auflage. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1907. S. in-ГХ, 3-61. Сверен по изданию: SimmelG. Philosophic des Geldes / Hrsgg. v. David P. Frisby und Klaus Christian Kohnke. Ge-org Simmel Gesamtausgabe / Hrsgg. v. Otthein Rammstedt. Bd. 6. Frankfurt a.M.: Suhrlamp, 1989. S. 9-14, 23-92.
Перевод статьи Робрета Парка «Экология человека» был выполнен специально для настоящего издания и публикуется впервые. Перевод сделан по изданию: Robert E. Park. Human Ecology // Rober E. Park. On Social Control and Collective Behavior. Selected Papers / Edited and with an Introduction by Ralph H. Turner. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1967. P. 69-84.
А. Филиппов
ОБ АВТОРАХ
Маргарет Арчер (Margaret Archer) - профессор университета Уорика (Warwick), Великобритания. Основные публикации: Social Origins of Educational Systems. London: Sage, 1979; Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Герхард Вагнер (Gerhard Wagner) - приват-доцент Билефельдского университета (Bielefeld), ФРГ. Основные публикации: Geltung und normativer Zwang. Freiburg / Milnchen: Karl Alber, 1987; Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwindung der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
Рэндал Коллинз (Randall Collins) - профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: Collins R. Sociology since Midcentury. Essays in Theory Cumulation. N.Y.: Academic Press, 1981; Theoretical Sociology. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
НикласЛуман (NiklasLuhmann) (1927-1998) - в 1968-1993 гг. - профессор Билефельдского университета, ФРГ. Основные публикации: Sozio-logische Aufklarung. Bde. 1-6. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1970-1995; Gesellschaftstruktur und Semantik. Bde. 1-4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1980- 1995; Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984 и др.
Фил Макнотен (PhilMacnaghten) - сотрудник Ланкаширского Центра исследований изменений окружающей среды, Ланкастерский университет (Lancaster), Великобритания. Основная публикация: Contested Natures (соавтор - J. Urry). London: SAGE, 1998.
Гай Оукс (Guy Oakes) - профессор Монмутского (Monmouth) университета, США. Переводчик сочинений Зиммеля и Риккерта. Основные публикации, помимо переводов: Weber and Rickert. Concept Formation in the Cultural Sciences. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1988; The Imaginary War: Civil Defense and American cold war culture. N.Y.: Oxford University Press, 1994; The Soul of the Salesman : The Moral Ethos of Personal Sales. Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press International, 1990.
Гёран Терборн (Goran Therborn) - профессор Уппсальского (Uppsala) университета, Швеция. Основные сочинения: The Ideology of Power and the Power of Ideology. London: NLB, 1980; What Does the Ruling Class Do When It Rules? London: Verso, 1980; European Modernity and Beyond: the Trajectory of European Societies, 1945-2000. London: Sage, 1995
Джонатан Тернер (Jonathan Turner) - Профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: The Body and Society. Oxford: Blackwell, 1986; A Theory of Social Interaction. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1988; The Strcuture of Sociological Theory. 5th ed. Belmont, Ca.: Wadsworth, 1991.
Джон Урри (John Urry) - профессор Ланкастерского университета, Великобритания. Основные публикации: The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society. London: Sage, 1990; Economies of Signs and Space (соавтор - S. Lash). London: Sage, 1994. Consuming Places. London: Routledge, 1995.
Памяти Никласа Лумана
Никлас ЛУМАН 8.12.1927-6.11.1999
Скончался Никлас Луман. Социологов такого масштаба после второй мировой войны было совсем немного, и ничто не предвещает появления в ближайшем будущем фигуры даже не равновеликой, а хотя бы только сопоставимой с ним по дарованию и продуктивности.
Странные чувства вызывает известие о его кончине. Помимо обычных, человеческих - сожаления и горечи - еще и удивление. Кажется почти невероятным, что остановился поток публикаций, что каждый новый год не принесет одну-две новые книги Лумана. За удивлением следует - как бы кощунственно это ни звучало - своеобразное удовлетворение, вроде того, какое высказала Марина Цветаева, узнав что Волошин умер в полдень - «в свой час». Последняя книга Лумана, более чем тысячестраничная монография «Общество общества»*, так и выглядит - как последняя книга, монументальный труд, итог грандиозного проекта, дело всей жизни. Считать ли ее вершиной творчества или отчаянной неудачей (оценки книги сильно разнятся), все равно несомненно, что это - завершение, после которого могло следовать лишь новое, неожиданное начало. Огромный труд исчерпал видимые возможности теории и жизненные силы теоретика. Структурная связка аутопойесиса жизни и аутопойесиса теории была столь совершенна, что завершение труда и завершение жизни не могли не совпасть.
* Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997.
Писать о Лумане безотносительно к его трудам, даже по столь скорбному поводу, кажется, почти невозможно. Но труды остаются с нами - оборвалась жизнь: что мы скажем о ней? То же, что и о любом профессоре: диплом - диссертация - профессура? Случай Лумана, впрочем, несколько особый: то, что у других ученых растягивается на годы, у него спрессовано в наикратчайший период, которому предшествует необыкновенно затянувшееся начало и за которым уже не следует никаких изменений: в 1968 г. Луман получает профессуру в новом, только что основанном Биле-фельдском университете и остается там четверть века до выхода на пенсию. Профессуре предшествует (в 1966 году) защита диссертаций - в высшей степени необычная, а по нынешним представлениям в Германии попросту невозможная: обе диссертации (Promotion, дающая докторскую степень, и Habilitation, открывающая путь к профессуре) защищаются с перерывом всего в полгода. В том, что это удалось, заслуга не только Лумана, но и виднейшего немецкого социолога X. Шельски, основателя Билефельд-ского университета. Шельски замечает Лумана еще раньше - точная дата их знакомства мне неизвестна, но то обстоятельство, что Луман еще до получения ученых степеней становится (в 1965 году) руководителем подразделения Центра социальных исследований в Дортмунде, который возглавляет Шельски, достаточно примечательно. А что до этого? Сотрудничество с Высшей школой наук управления в Шпейере, где в это время профессорствует знаменитый Арнольд Гелен, старший друг и коллега Шельски, в соавторстве с которым он, в частности, написал первый учебник по социологии в послевоенной Германии. Установить, откуда тянется ниточка знакомств и важных связей, невозможно: краткие биографии Лумана только сообщают нам, что в Шпейере он оказывается через год после возвращения из США, где в 1960-61 гг. учится (слово сомнительное: не студентом же он туда поехал! возможно, мы бы назвали это стажировкой) у Толкота Парсонса. В это время Луман уже зрелый человек, за его плечами не только учеба на юридическом факультете Фрайбургского университета, но и почти десяток лет ответственной чиновничьей работы (к 1962 г. он занимает пост старшего правительственного советника в министерстве культов земли Нижняя Саксония). Собственно, как чиновник он и устроил себе стажировку: «Я сидел и оформлял документы для тех, кто собирался учиться в Америке, - рассказывал он впоследствии. - Мне пришло в голову, что я могу сделать то же и для себя». Все просто, если только не принимать в расчет, что преуспевающий чиновник, профессиональный юрист вдруг круто меняет всю свою жизнь. Что должно было произойти, какие предпосылки определили этот выбор? Что там в прошлом, до этого?
Он родился в семье пивовара в Люнебурге, родном городе Генриха Гейне. Впрочем, о последнем обстоятельстве Луман не знал*. Гейне и так-то не очень почитаем в Германии, но тут другое: все сознательное детство Лумана приходится на эпоху нацизма, правда, он посещает классическую гимназию и даже на старости лет не отказывает себе в удовольствии проспрягать для куда менее образованных современных студентов какой-нибудь греческий глагол. Но он не принадлежит по происхождению к образованному бюргерству. Как и многие послевоенные социологи, он чуть ли не первый в своем роду, кто получает университетское образование.
* Я как-то случайно выяснил это в разговоре.
Однако, до университета еще надо просто дожить, хотя, в отличие от Гелена и Шельски, воевавших на Восточном фронте, Лумана война, так сказать, задевает только краем. Шельски в середине 70-х напишет: «Вообще-то меня должны были закопать в Восточной Пруссии». Луман же, которого в 1944 г. забирают в армию, не дав закончить гимназию, служит помощником авиационного техника в самой Германии, остро ощущает абсурд происходящего и в 1945 г., подобно многим сверстникам, ищет только возможности сдаться в плен американцам или англичанам и уцелеть. В конце концов, ему это удается.
Он заканчивает учебу в университете в год образования обеих Германий - Федеративной и Демократической; и всего только за два с небольшим года до выхода на пенсию успевает сказать прощальное слово той старой, «неполной» Федеративной Республике, в которой прошла вся его взрослая жизнь. Луман - социолог ФРГ в самом прямом смысле этого слова. И вместе с тем его интерес к социологии вообще довольно типичен для людей его поколения и его круга. Типичен-то он типичен, но было ли его решение необходимым? Сам Луман, наверное, не удержался бы здесь от ехидных замечаний. Одно из основных понятий его концепции - «Kontingenz», что можно перевести как «ненеобходимость». В мире нет ничего прочного, субстанциального, неизменного. Существование каждого человека контингентно хотя бы потому, что само его появление на свет стало следствием стечения множества обстоятельств.
Какое-то предощущение своего призвания, у него, видимо, сложилось все-таки очень рано. Известно, что Луман уже в 1952- 53 гг. начинает создавать свои знаменитые картотечные ящики. Именно создавать, потому что ничего похожего не было ни раньше, ни позже. Правда, эта первоначальная картотека, видимо, еще не похожа на позднейшую, в ней больше сходства с обычными подборками карточек, которые ведет для себя любой ученый. На карточках - прежде всего цитаты. Картотека служит упорядочиванию чужих идей. «Настоящая» картотека Лумана появляется позже. Своеобразие ее в том, что она служит прежде всего организации идей самого теоретика, а не чьих-то еще. Представьте себе компьютер, в котором каждый текстовый файл содержит лишь небольшое суждение или группу суждений (иногда - вместе с отсылками к литературе) и может находиться лишь на строго определенном месте, в директории (папке), субдиректории и т. п., в соответствии со своим содержанием. При этом он, с одной стороны, подобно гипертексту, содержит «линки», отсылающие к другим файлам и директориям, а с другой, - сам может выступать не только как файл, но и как директория. Изначально количество директорий невелико и хорошо упорядочено, однако затем они начинают наполняться файлами (которые тоже становятся - или не становятся - директориями), члениться все дальше и дальше; здесь образуются новые и новые пересечения и отсылки. Вот это и есть идея картотеки Лумана. Поначалу теория организована только в самом общем виде. С течением времени теоретику приходит в голову больше идей, некоторые старые идеи, казавшиеся лишь элементом рассуждения, влекут за собой целые серии новых рассуждений, каждое суждение, записанное на карточке, снабжено четкой системой отсылок, позволяющей в считанные минуты извлекать и затем снова ставить на место все карточки - повторим еще раз: с собственными суждениями теоретика! - которые имеют отношение к предмету его работы в данный момент. Текст для публикации, по идее, образуется, в основном, из множества мелких фрагментов, работа над которыми занимает основное время. Это компьютер без компьютера, это рабочий инструмент человека, еще в начале 90-х гг. предпочитавшего всем новинкам оргтехники электрическую пишущую машинку. Сама идея не проста, но ее реализация бесконечно сложна. Сложность возникает из-за все увеличивающегося количества карточек и связей между ними. Картотека воплощает одну из основных категорий Лумана - «сложность», «комплексность» («Komplexitat»). Сложна картотека, сложна теория, сложен мир, упростить который пытается сложная теория. Теория и ее картотека, однако, суть составляющие мира, они одновременно и уменьшают («редуцируют») и увеличивают его сложность.
Как можно было додуматься до этого, самое позднее, в конце 50-х? Как можно было, додумавшись, воплотить замысел хотя бы даже в первоначальной форме? Как можно было поддерживать, развивать этот замысел на протяжении почти четырех десятилетий?
Кажется, ответ есть только на последний вопрос. К середине 60-х годов у Лумана, можно сказать, кончается биография. «Биографии, - говорит он, - суть в большей мере цепочки случайностей, которые организуются в нечто такое, что затем постепенно становится менее подвижным». Биография Лумана почти неподвижна с конца 60-х гг. Мы узнаем из посвящения к книге «Функция религии»*, что в 1977 г. скончалась его жена. Вдовец с тремя детьми так и не женится больше, и не один дружелюбный коллега в Билефельде полусочувственно, а скорее осуждающе расскажет вам, что детьми Луман совсем не занимается, предоставив их попечению домработницы. Он живет в Орлингхаузене**, городке, где когда-то был укоренен род Макса Вебера по отцовской линии. Дом Лумана стоит на улице, названной в честь жены Макса, Марианны. На большом участке земли мог бы поместиться еще один дом - так и было задумано, но не состоялось, семейство не разрастается.
* Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977.
** Oerlinghausen, дифтонг в начале произносится как «ё» в имени Гёте.
Луман, подобно Максу Веберу, не хлопочет за своих учеников, не сколачивает школы, больше похожей на мафиозный клан, как это сплошь и рядом случается в современной науке*. Он агрессивен в теории и любезен в жизни. Его атакуют, его идеи вызывают раздражение. Ему указывают на слабости теории, на ошибки в аргументации, на то, что «редукция комплексности» - это переряженное понятие «разгрузки» философской антропологии Гелена. Луман постоянно отбивается, он вступает в жесткую полемику с Хабермасом**, задавшую стиль теоретическим дискуссиям чуть ли не на два десятилетия. Луман постоянно совершенствует, меняет, развивает теорию. Оппоненты выдыхаются. Они не поспевают за Луманом: только что он говорил об открытых системах в духе Берталанфи - и вдруг нечувствительно усваивает феноменологию позднего Гуссерля; только что его феноменологические штудии были подвергнуты критике, а он уже говорит о закрытых системах, аутопойесисе Матураны и Варелы и логике Дж. Спенсера Брауна. Но Луман не ограничивается исследованием философских оснований теории. Он, напротив, не оставляет без внимания ни одной области современной жизни. Он поражает эрудицией. Его называют «Арно Шмидт*** социологии», раздражаясь, указывают на ошибки в цитировании, на сомнительность интерпретаций... Луман кротко замечает, что у него нет памяти на тексты и филологического чутья - и продолжает писать. Оппоненты, в который раз, отступают. Вырабатывается специфический стиль Лумана: энергичный, сжатый, ироничный, предполагающий безумное количество ссылок на литературу, иногда весьма неожиданных. Луман создает своего читателя, потратившего немало сил на овладение его специфической терминологией и убедившегося на практике, что на этом языке профессионалу легко говорить. Луман гипнотизирует читателя, он заметает следы, не давая увидеть подлинные идейные истоки своих рассуждений, он пускает в ход и эрудицию, и самую изощренную логику, и - безупречный прием - намеки на то, что подлинно современный человек должен мыслить именно так, все остальное - предрассудки и отсталость. Постепенно он становится всемирно известен. Его переводят все больше и больше, не всегда, впрочем удачно. «Я говорил ему, - сетует крупный исследователь Вебера американский социолог Г. Рот, - что так писать для американцев нельзя; это перевести невозможно, и читать такие тексты они не будут». Луман не отступает - в конце концов, многие его сочинения находят своего читателя и на английском языке.
* Современные последователи Лумана, безусловно, образуют плотную и основательно организованную, в частности, в Билефельде группу. Однако тенденции к ее оформлению определились сравнительно поздно, всего за несколько лет до выхода Лумана на пенсию.
** См.: Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnolo-gie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1971.
*** Немецкий писатель, знаменитый своей филологической эрудицией.
В 1988 г. Луман получает премию имени Гегеля города Штуттгарта и... и все. Биограф умолкает, сказать больше нечего. Еще десять лет - и «билефельдский мастер» умолкает навсегда. Мировая социология не начала говорить на языке его теории, но и пройти мимо нее трудно. Ближайшие десятилетия покажут, в должной ли мере передалась его сочинениям энергетика его мысли. Во всяком случае, оставляя в стороне маловразумительный вопрос об «истинности» или «неистинности» столь обширной, сложной, претенциозной теории, мы рискнем высказаться о Лумане нарочито архаически, вопреки букве и духу его сочинений:
Он подлинно служил науке, он отдал ей всю жизнь, он пожертвовал для нее очень многим, он умер, свершив свой труд.
 Экономика: Общество - Социология
Экономика: Общество - Социология
- Экономика и общество
- Экономические исследования
- Экономика и общество в России
- Экономика социальная
- Человек и социальная экономика
- Социология
- Государство и социология
- История социологии
- Практическая социология
- Социология в России
(вариант San Foca '89)
Герхард Вагнер. СОЦИОЛОГИЯ: К ВОПРОСУ О ЕДИНСТВЕ ДИСЦИПЛИНЫ
IУтверждения о кризисе социологии входят в обычный репертуар фельетонистов. Не удивительно: ведь такой диагноз неоднократно ставили сами социологи. Наиболее известна в этом отношении, наверное, книга А. Гоулднера «Приближение кризиса западной социологии» [20]. Конечно, в большинстве случаев о кризисе высказываются риторически. Тем не менее, в самой социологии все заметнее становится отсутствие иллюзий по этому поводу. Если еще в середине восьмидесятых годов можно было говорить о штиле (см.: [5]), то уже в конце того же десятилетия обнаружилась необходимость поставить проблему намного радикальнее. Превратится ли социология когда-нибудь в нормальную науку? - ставит вопрос Р. Будон [3]. Р. Коллинз размышляет над тем, можно ли вообще требовать статуса научности для этой дисциплины [6; 6а]. Из-за подобной неуверенности в себе многие социологи были «в исключительной степени подвержены резиньяции и фрустрации» [75, 128]. Понятно, что в 90-е гг. ситуация вновь обострилась. П. Бергер поставил вопрос весьма решительно: «Имеет ли еще смысл социология?» [1]. Это означало, что теперь кризис социологии не просто воспринимается как присущий ей по природе и потому целительный для нее, но что она уже как бы подошла к концу всех своих кризисов. И если в такой форме вопрос все еще мог звучать конструктивно, то Р. Сеннет (что примечательно: в газетной статье) ответил на него весьма категорично, оплакав всего-навсего «конец социологии» [66].
Не обязательно объявлять наш век «веком социологии» [4, 242], чтобы противодействовать этому апокалиптическому настроению. Куда более плодотворно выяснение причин столь удручающего состояния дисциплины, стоит поискать также адекватные средства для борьбы со злом. При этом, вне всякого сомнения, нельзя объяснять кризис монокаузально, т. е. указывая лишь на одну его причину. Поскольку в узких рамках настоящей статьи все причины учесть нельзя, нам приходится ограничиться только некоторыми. На одну из них предлагает обратить внимание Н. Луман. Как известно, во Введении к своей книге «Социальные системы. Очерк общей теории» Луман выносит следующий вердикт: Социология находится в состоянии «теоретического кризиса» (см.: [42, 7]). Правда, продолжает он, в целом, ее действительно успешные эмпирические исследования умножили наши знания, однако до сих пор в рамках социологии не удалось сформулировать «единую для всей специальности теорию» [42, 7]. Итак, одна из причин продолжающегося кризиса - отсутствие единой теории. Ведь без этого социология «не может обосновать своего собственного единства как научной дисциплины. И резиньяция заходит настолько далеко, что никто уже и не пытается ничего предпринять» [42, 7]. Объяснения Лумана вполне очевидны - достаточно бросить взгляд на современный теоретический дискурс в социологии, чтобы обнаружить его, мягко говоря, необозримость. Множество существующих точек зрения в теоретической социологии стало уже почти безграничным. Кроме того, они еще и весьма различаются по уровню абстрактности и сложности понятийного аппарата, так что уже почти не укладываются в привычные рамки. Ввиду такого теоретического разнообразия, попытка обосновать единство дисциплины представляется в данный момент бесперспективной. В глазах Лумана, эту ситуацию усугубляет еще и то, что плюралистическое понимание науки позволяет каждому «согласовывать свои понятия лишь со своими теоретическими интенциями, признавая за другими только свободу делать то же самое, но по-своему» [52, 390]. Помимо этого, в таких условиях постмодерна сюда добавляется еще инфляция истины как значимого для науки средства коммуникации, так как каждая теория, ориентированная на «anythinggoes»*, может формулировать свои собственные критерии истины [52, 181 ff., 238 ff.].
* Все сойдет (англ.).
Однако, если «построить каждому проповеднику по кафедре» [52, 390], то для социологии это будет иметь катастрофические последствия: ее «множественные парадигматазы»* [40, 50] обязательно приведут к разложению [34].
* Иронический неологизм, возможно, требующий пояснения: парадигмы множатся как метастазы опухоли.
Если принять поставленный Лумелом диагноз и согласиться с тем, что отсутствие единой теории является одной из причин кризиса социологии, то внимание далее как бы само собой обращается на его собственную позицию. Действительно, не считая концепции X. Эссера, который намеревается основать социологию в методологическом измерении как объяснительную науку [7], в настоящее время Луман является единственным социологом, который не просто критически высказывается об отсутствии единой теории, но и систематически работает над созданием таковой. Его труды по социологии, основанной на теории систем, особенно публикации последних двух десятилетий, представляют собой попытку «на которую со времени Парсонса более никто не решался» [42, 10]: посредством единой теории содействовать обоснованию единства социологии как научной дисциплины. Вот почему оправдано то внимание, которое уделяется работам Лумана на международном уровне. В Германии же, как формулирует П. Вайнгарт, социология «должна быть всецело либо «за», либо «против» Лумана» [74, 254]. Как бы там ни было, несмотря на всю его популярность, при изучении Лумана рекомендуется осторожность. Существуют серьезные основания предполагать, что его единая социологическая теория, служащая обоснованием единства социологии, мало что может дать этой дисциплине.
Согласно Луману, если следовать критериям теоретического плюрализма, то, в принципе, любая позиция может претендовать на статус единой теории, которая может обосновать единство нашей дисциплины. Чтобы противостоять разложению социологии, с необходимостью следующему из такой позиции, Луман делает ставку на разработку «супертеории», с которой могут быть связаны «притязания на универсальность» [38, 17]. Однако, вырабатывая «универсальную теорию» [42,10] Луман впадает в другую крайность. С первого захода он пытается осуществить жесткую «программу элиминирования» [38, 16], сводя все существующие позиции к одной единственной - установке своей супертеории. Правда, с течение времени Лумансам обнаруживает, что такая «стратегия тотализации» [38, 18] ведет к фатальному тоталитаризму: «Плюрализм, - пишет он, - делает болтливым. Но тоталитаризм делает немым» [52, 390]. Нацеливаясь на создание супертеории, Луман предпринимает второй заход, однако его последствия оказываются не менее фатальными. Во второй половине 80-х гг. он все более интенсивно усваивает теоремы внесоциологиче-ского происхождения, но в силу этого его позиция всего-навсего утрачивает научность. То, что в настоящее время Луман выставляет в качестве супертеории, очень близко «антисоциологии», которую в 70-е годы X. Шельски противопоставлял социологической дисциплине. Это отнюдь не служит ей добрую службу. Я же в рамках предлагаемой статьи намерен подвергнуть критике супертеоретические амбиции Лумана, а также предложить некоторые альтернативы того, как можно мыслить единство дисциплины.
II
Согласно Луману, для обоснования единства социологии необходима единая теория, имеющая характер супертеории. Только супертеория способна противостоять инфляционной тенденции «anythinggoes», предлагая приемлемую для всей дисциплины альтернативу. Представление о том, что «господствует плюрализм, в смысле множества конкурирующих несопоставимых теоретических ориентации» [38, 17f.], в конечном счете, производит столько же конкурирующих, несопоставимых обоснований единства, сколько существует теоретических ориентации. В то же время супертеория открывает возможность обоснования единства с учетом всех теорий, представленных в дискурсе. Итак, это обоснование единства не должно повлечь за собой догмати-зацию социологии. Луман подчеркивает, что при разработке супертеории речь отнюдь не идет о «консолидации всей специальности внутри одной «парадигмы» [38, 98]. Требование, чтобы социология как научная дисциплина представляла собой «когерентное целое, в котором бы в силу причин теоретического и эмпирического характера каждое исследование и каждая публикация вели к накоплению знания» [38, 17], - это требование, по мнению Лумана, ошибочно. Напротив, супертеория обещает обосновать единство таким образом, что при этом будет учитываться многообразие теоретического дискурса. Поскольку супертеория акцентирует существующие между теориями различия, она пытается «реализовать и то, и другое: единство и различие» [38, 18].
Ввиду огромности такой задачи нельзя не задать вопрос: как может быть разработана супертеория? Ее явно невозможно сконструировать exnovo* - вот почему Луман стоит за то, чтобы вычленить такую теорию из состава одной из тех нормальных теорий, которые представлены в дискурсе.
* Заново (лат.).
Хотя, в принципе, Луман готов признать что каждая нормальная теория имеет шанс выступить в качестве супертеории, сам он без колебаний решает дело в пользу своей системно-теоретической социологии. Последняя кажется ему наиболее пригодной для реализации в равной мере единства и различия: «Это может получиться, если в рамках собственной теории удастся найти подобающее место для противника» [38,18]. Согласно Луману, такая конструкция осуществляется благодаря «стратегиям тотализации»; по этой причине он рассматривает свою системно-теоретическую социологию и как «тотализирующую теорию» [38, 18]. Стратегии тотализации могут быть историзирующими либо же проблемно ориентированными. Историзирующая тота-лизация предполагает, что противник «принадлежит к более ранней эпохе в социокультурном развитии, и, таким образом, уже устарел». Проблемно ориентированное тотали-зирование переформулирует «осознание проблемы противником, заново проблематизирует его теорию и подсовывает ему при этом в качестве основной ту проблему, которую, как затем оказывается, лучше может решить собственная теория тотализирующего критика» [38, 19 Г.].
То, что «в аспекте конкурирующих предложений [на рынке] теорий» [38, 17] принимаемые в расчет историзиру-ющие и проблемно ориентированные тотализации не обязательно исключают друг друга [38, 21], Луман вновь и вновь ясно показывает на примере трудов Ю. Хабермаса. Теория Хабермаса, утверждает Луман, столь сильно зависит от староевропейского проекта модерна, что в ней выяснение проблемы коммуникации перекрывается вопросами об основаниях разумного согласия, вместо того чтобы вести к столь же современной, сколь и убедительной теории аутопойесиса [41]. Обращение Лумана к анализу теории коммуникативного действия иллюстрирует понимание им стратегий тота-лизации. Но его аргументы столь же недвусмысленно демонстрируют, что стратегии именно такого рода неспособны отвести другим теориям подобающее место в рамках тотализирующей теории, делая возможной реализацию и единства, и различия обеих позиций. Как формулирует сам Луман, его тотализирующая теория скорее ориантиро-вана на «включение в свой состав [концепции] противника, чтобы вместе с ним принимать решение против него»* [38, 23]. С этой точки зрения (на что, впрочем, указывает уже само использование понятия «противник») представляется вполне последовательным понимание Луманом отношения между его собственной тотализирующей теорией и теорией, которую он включает в свою, как «противоречия» [38,18]. Однако, поскольку Луман все-таки рассматривает включаемую теорию как «отрицание» [38,18] своей тотализирующей теории, которая, в свою очередь, посредством отрицания этой оппонирующей теории должна преобразоваться в супертеорию, он тем самым выступает за такое понимание единства, которое венчается полной элиминацией различия.
* Почти непереводимая игра слов: «Einbeziehung des Gegners, urn sich an «hm gegen ihn zu entscheiden».
Правда, сам Луман утверждает, что он не следует «принципу диалектического отрицания» [38, 23], а предпочитает (ссылаясь на Витгенштейна) говорить о пустых отрицаниях, а также вводит понятие «ограниченности» [Limitationalitat] [38, 14 ff.]. Но, как показывает один из исследователей, рассуждения Лумана на этот счет «достаточно темны» [73, 270]. Можно говорить, что в них имеется какой-то вполне понятный смысл, только если интерпретировать их на фоне гегелевской философии. Как бы ни пытался Луман отмежеваться в этом контексте от Гегеля, влияние последнего неоспоримо (см.: [73, 268]). А если принять это во внимание, то станет ясно, что Луман, включая другую теорию в рамки своей тотализирующей теории, способствует производству той связи, которую Гегель называл «рефлексией в себе» [32, 60 ]. В другом месте я показал, что эта внутренняя рефлексия, в отличие от внешней, или субъективной, указывает на объективный, совершающийся независимо от субъекта процесс (см.: [71, 281 f.]). «Уже сам термин «внутренняя рефлексия» указывает на имманентность движения, поскольку «рефлексия» предполагает отгибание, отклонение назад, отражение, а «в себе» означает тот факт, что отражение направлено на самое себя и, таким образом, пребывает внутри объекта» [19, 137]. Фактически эта взаимосвязь позволяет определить одну из двух «противоположных величин [как] ...лежащее в основании сущее в себе единство* [32, 60 ]. Между тем, издержки для обоснования единства дисциплины, которые возникают из этой гегелевской «рефлексии» [38, 10] весьма велики. Поскольку тота-лизирующая теория включает в свой состав другую теорию, чтобы вместе с нею принимать решение против нее, она, конечно, способна «рефлектировать» лежащее в основании обеих теорий единство [38, 10]. Но эта рефлексия исчерпывается тем, что «формулирует тождество в нетождественности собственной и противной позиций» [38, 20].
Такого рода элиминация различия несет на себе тоталитарные черты, что идет отнюдь не на пользу включаемой теории. Это явствует из того, что тотализирующая теория берется как гарант тождества. Луман понимает отношение обеих теорий строго асимметрично. Включаемая теория в ее инаковости сперва вообще не принимается во внимание. По существу, ей вообще не дают слова. Реконструируя другую теорию «при помощи собственных понятий» [38, 18], тотализирующая теория полагает ее с самого начала как иное самой себя. Легко увидеть, что такого рода реконструкция имплицирует «деструкцию уже имеющегося понимания понятий» [21, 253]. Тем самым поощряется постоянное включение противоположных теорий в одну - тотализирующую, а этот процесс находит свое завершение в той догматизации дисциплины, которой Луман изначально хотел избежать. Системно-теоретическая социология была однажды выведена на этот курс и теперь, ориентируясь в своем понимании единства на логику тождества Гегеля, она жаждет консолидировать в рамках своей парадигмы всю социологию. От Лумана, конечно, не укрылось, что тем самым дьявол плюрализма теорий изгоняется Вельзевулом империализма теории. Луману ясны и последствия его тотализаций: «Нельзя оспорить, таким образом, что и империализм теории и, в особенности, притязания «тотализирующих» теорий на исключительную значимость представляют собой опасность - в противоположность инфляции, опасность дефляции истины как средства коммуникации» [52, 390]. И Луман вполне последователен, когда меняет стратегию, чтобы сделать новый заход и превратить свою системно-теоретическую социологию в супертеорию, которая реализовала бы в равной мере и единство, и различие.
Если присмотреться к публикациям Н. Лумана конца 80-х - 90-х годов, то окажется, что это изменение отнюдь не радикально. Ибо Луман и теперь, как и прежде, остается многим обязан философии Гегеля. Если, предпринимая свой первый заход, он воспользовался гегелевским понятием внутренней рефлексии, то теперь он опирается на его понятие внешней рефлексии. Отграничивая свою системно-теоретическую социологию от других социологических теорий, он пытается не только предотвратить уничтожающую различия тотализацию, но и обрести такую позицию, с которой единство дисциплины могло бы быть обосновано как бы извне. Чтобы с самого начала не дать упрекнуть себя в «староевропеизме», Луман и здесь избегает прямых ссылок на Гегеля. Вместо этого он указывает на работы философа Г. Гюнтера, который долгие годы был сотрудником руководимой X. фон Ферстером Biological Computer Laboratory*, т. е. (можно считать) находился на переднем крае науки. Лума-ну, конечно, известно, что в публикациях Гюнтера (его «главного свидетеля»), выступающего как кибернетик, речь все-таки идет о переформулировании философии Гегеля [44, 37]. В одном автобиографическом тексте сам Гюнтер как раз и подчеркивает, что для него после более чем сорокалетних занятий философией Гегеля «стало почти невозможно разделить, что в его теории принадлежит Гегелю, а что - ему самому» [27, 10]. Как бы там ни было, но то, что Луман перенимает у Гегеля понятие внешней рефлексии в том виде, какой придал ему Гюнтер, имеет катастрофические последствия для замысла супертеории.
* Биологической компьютерной лаборатории.
Концепция Гюнтера - это обширный проект, попытка ответить на «вопрос о сущности субъективности» [25, 17]. В такой постановке вопроса Гюнтер усматривает проблематику, над которой уже две тысячи лет безуспешно бьется западное мышление. Классическая логика показывает, что в онтологической картине мира, сформированной преимущественно Аристотелем, у субъекта нет достойной упоминания функции. «Философская предпосылка классической логики заключается в том, что онтологические основы мира могут быть изображены как чисто объективные структуры. Сам субъект есть нечто потустороннее, пребывающее вне всякого логического анализа» [25, 68]. В этой ситуации, продолжающейся со времен античности, ничего не смогло изменить даже современное мышление «в его развитии от Декарта до Лейбница и Канта» [25, 17]. Правда, вопрос о сущности субъективности ставился со всей решительностью, однако ответ на него оказывался совершенно неплодотворным, поскольку субъект обосновывался «трансценден-тально-метафизически», что послужило еще более отчетливому его пониманию как «потустороннего». Крах попыток трансцендентальной философии найти для субъекта в классической логике «могущее быть обозначенным место», продолжает Гюнтер, с полной очевидностью показывает несовместимость представления об «экстрамунданной интросценденции»* с онтологической картиной мира [25, 18 f.].
* Это можно интерпретировать примерно, как «вхождение-в-себя вне мира».
Имея в виду обрисованную ситуацию, Гюнтер выступает за ревизию онтологической картины мира. Чтобы постигнуть сущность субъективности, говорит он, требуется освободиться от оков классической логики вообще. Речь идет о том, чтобы выработать так называемую трансклассическую логику, которая должна иметь неаристотелевский характер, поскольку будет не двузначной, но как минимум трехзначной [23]. Для Гюнтера несомненно, «что весь мир, пока в нем абстрагируются от всякой субъективности и воспринимают его как чисто объективную связь, является строго двузначным. Для всех целей описания объекта, совершенно оторванного от субъекта, вполне достаточно двузначной логики» [25, 85 f.]. Но если хотят принимать в расчет субъективность, тогда, по его мнению, требуется расширение классической логики минимум на одно значение. Первые попытки «перехода от классической к неклансклассической логике» можно, считает Гюнтер, обнаружить в диалектике Гегеля [24, 92].
Для нас здесь не так важно то, что философы и логики испытывают большие сомнения в связи с такой интерпретацией Гегеля Гюнтером (см.: [65; 36]). Во всяком случае, рассуждения Гюнтера приемлемы постольку, поскольку гегелевское понятие внутренней рефлексии можно приписать онтологической картине мира, а за гегелевским понятием внешней рефлексии можно предположить такую форму субъективности, которая не обязательно должна быть сразу же интерпретирована как нечто «потустороннее». В отличие от трансцендентальной философии Гюнтер действительно заинтересован в том, чтобы понять субъективность как факт «эмпирического мира» [25, 69].
Гюнтер убежден, что субъективность может проявляться только как «поведение» [26, 102]. И если, желая подробнее охарактеризовать это поведение, Гюнтер ссылается на слова «Царство Мое не от мира сего» (Ин, 18, 36), то заинтересован он отнюдь не в христианском благовествовании, но в том отвержении [мира], которое в них выражается [26, 102]. Ибо Гюнтер вообще не может «понимать под субъективностью ничего иного кроме функции, в которой тотальная двузначность объективного вокруг нас, а тем самым и весь мир отвегаются как бытие мира» [25, 86]. Вследствие этого в трансклассической логике отвержение тоже должно «выступать как функтор, который описывает поведение субъективности и которому еще нет места в классической логике» [26, 102]. Тогда как в классической логике даже там, «где вообще возможен выбор», должно быть «принято одно значение из предлагаемых вариантов», трансклассическая логика отличается возможностью «отвергать некоторую альтернативу значений в целом» [26, 102]. Такое «отвержение или отклонение» [26, 103] требует, правда, введения третьего значения, «не включенного в данную двузначную систему» [25, 85]. В отличие от классической логики, которая располагает лишь двумя «значениями приятия», трансклассическая нуждается в дополнительном значении отклонения: «значение отклонения - это индекс субъективности в трансклассическом исчислении» [26, 102 f].
Гюнтер считает, что отвержение - это и есть сущность субъективности, причем он, конечно, оговаривает, что эта Дефиниция в высшей степени скудна [25, 86]. Тем не менее, она все-таки способна дать основу для внешней рефлексии.
В одной из новейших публикаций, посвященных философии и логике Гюнтера, отмечается, что гюнтеровский принцип «отрыва» от альтернативы значений вполне достаточен для того, чтобы рассматривать «два противоположных значения как единство» [35, 51]. Кроме того, следует предположить, что именно эта скудость дефиниции позволяет философии Гюнтера подсоединиться к современным кибернетическим дискуссиям. Ведь Гюнтер не ограничивает субъективность антропоморфными представлениями: «Если формулировать это не вместе с Гегелем, но кибернетически, тогда следует сказать, что в нашем эмпирическом универсуме в определенных местах формируются структурные образования совершенно исключительной сложности, способные создавать для себя отображение своего окружения и рефлективровать это окружение весьма специфическим образом» [25, 69]. Это позволяет понять притягательность философии Гюнтера для лумановского проекта супертеории. Хотя Луман относится к работам Гюнтера не без скепсиса [44, 38], однако он все-таки ориентируется на трансклассическую логику последнего, чтобы открыть позицию внешней рефлексии для своей супертеории.
IV
О постоянном интересе Лумана к гюнтеровскому понятию отклонения неопровержимо свидетельствуют его работы последних лет (см.: [45, 86 ff.; 52, 94, 301 f, 579, 663, 666]). Луман применяет это понятие не только в предметном измерении своей системно-теоретической социологии, но и в ее социальном измерении, т. е. в отношении к другим теориям. В этом последнем измерении Луман тоже «вместе с Г. Гюнтером» исходит из «различения позитивного и негативного значения», дабы подвергнуть эту «форму» «отклонению» [51, 17]. Так он последовательно редуцирует все многообразие теоретического дискурса в социологии к двум противоположным традициям. Чтобы придать форму дисциплине, он проводит различие между «позитивной социологией» и «критической социологией» [53, 257]. Первая задается вопросом: «Что происходит?», а вторая - вопросом: "Что за этим кроется?" [53, 257]. На примере «выдающихся теорий» К. Маркса и Э. Дюркгейма, по мнению Лумана, можно показать, что с самого начала упрочения позиции социологии в университетах она «подходила к своему предмету с двумя установками: позитивистской и критической» [53, 245]. Однако именно из-за того, что в социологии «делается попытка давать ответ на два совершенно различных вопроса», не прекращаются, считает Лу-ман, и проблемы, связанные «с сохранением единства специальности. Иногда, например, в 60-е гг., из этого различия вытекают такие споры, которые грозят вообще взорвать всю дисциплину» [53, 245].
Проблему нельзя разрешить и ситуацию нельзя исправить ни «конструктивистской деконструкцией позитивистской методики», ни «критикой критической социологии» [53, 257] - это для Лумана дело решенное. Когда нет строгости в понятиях, теории, принадлежащие к обеим традициям (и без того слабо разработанные), вряд ли могут считаться перспективными кандидатами на обоснование единства дисциплины [46, 298]. О том, что «принятие» предлагаемой обеими социологиями теоретической альтернативы даже не рассматривается Луманом [48,17], свидетельствует его обильная, демонстративная риторика «насмешливого превосходства» [2, 237]. Так как возможности «классической социологии», по его мнению, исчерпаны, Луман последовательно делает ставку на ее отвержение [49, 277]. Вместо того чтобы ввязываться в «совершенно бессмысленные споры», заполонившие дисциплину, Луман предпочитает противопоставить обеим социологиям третью [46, 292]. Таким образом, социология, основанная на теории систем, противопоставляется позитивной и критической социологии. Ее функция, а следовательно, и логическое значение состоит в отклонении. Для преобразования своей концепции в супертеорию Луман берется «показать те открытия и новые понятия», которые возникли в «обширнейшей сфере теории систем» и «перенести их на область социологии» [46, 292]. При этом более всего он интересуется так называемой кибернетикой второго порядка, потому что она кажется ему принципиально совместимой с понятием отклонения: «Лишь благодаря наблюдению наблюдения «субъект» дистанцируется от мира и обретает способность рефлексии» [50, 150]. Как бы там ни было, но именно при помощи этих внесоциологических теорем Луман надеется открыть Дисциплине одну из тех «горячих клеток рефлексии, которые, правда, не суть целое, однако рефлектируют целое как различие» [53, 251].
Результат этих усилий Лумана, несомненно, впечатляет своей сложностью. Однако велика и цена, которую ему приходится платить за свою попытку обосновать единство дисциплины как отклонение господствующи теоретической альтернативы. Ни для кого не секрет, что сама по себе рецепция понятий теории систем возбуждает много проблем. Результаты исследований Biological Computer Laboratory небезосновательно «весьма сдержанно ...воспринимаются серьезными естественниками» [7, 534]. Трудности, которые влечет за собой, например, перенос [на социальные явления] понятия аутопойесиса, конечно, еще не так велики по сравнению с теми, которые вытекают из ориентации Лумана на трансклассическую логику Гюнтера. Правда, супертеория Лумана, благодаря отклонению позитивной и критической социологии, оказывается в состоянии занять "позицию, противоположную anything goes" и позволяющую обосновать единство дисциплины [53, 258]. Однако и это новое обоснование влечет за собой тоталитаризм. Как подчеркивается в уже упомянутом выше исследовании, именно отвержение должно пониматься «как новая форма отрицания» [35, 52] (ср. также: [18, 727]). Опираясь на трансклассическую логику Гюнтера, Луман в известной мере усиливает ориентированное на отрицание мышление Гегеля. Если угодно, гегелевский антитезис первого порядка заменяется антитезисом второго порядка, благодаря чему, правда, меняется форма противоположности, посредством которой системно-теоретическая социология Лумана противопоставляет себя другим теориям, однако фундаментальный логический тоталитаризм остается неизменным.
Это не значит, конечно, что нет разницы между тоталитаризмом первой и второй фаз. Тогда как первый только приводит к дефляции истины как средства коммуникации, второй понуждает к коммуникации такого рода, которая вообще избегает истины как средства. Фактически в конце 80-х - начале 90-х гг. [использование] фигуры отклонения лишает супертеорию Лумана научности. Какие бы формулировки для обоснования единства дисциплины ни предлагались в качестве третьей социологии, супертеория не может сопрягать с ними претензию на истинность. Ибо «истинность в конечном счете имплицирует двузначность» [24, 93]. Если в классической логике исходят из того, «что дело идет лишь о высказываниях, которые либо истинны, либо ложны» [36, 125], то в область трансклассической логики удается проникнуть лишь «абстрагируясь от значений «истинное» и «ложное»» [35, 57]. Для социального измерения социологических теорий (именно Луман оформил его как таковое) это означает, что лишь теории позитивной и критической социологии могут быть поняты как носители значений «истинное» и «ложное». Когда речь идет о двух социологиях, то имеются в виду противоположные позиции, а потому высказывания одной из них всегда должны быть истинны, если высказывания другой ложны. Конечно, третья социология, которая отграничивает себя от этих двух, могла бы во всяком случае занять позицию безразличия. Однако Луман вообще отвергает предлагаемую двумя социологиями альтернативу значений «истинное/ ложное». Не принимая их высказываний, он готов принять «разрыв с традицией - имея при этом в виду ограничения, налагаемые (двузначной) логикой истинности» [53, 257]. Тем не менее, основанная на теории систем социология Лумана также и впредь претендует на истинность. Социология, говорит Луман, лишь «как наука» имеет «фундамент для работы». «Трагическая ситуация Хельмута Шельски» показывает, что «в качестве антисоциолога он не сумел найти подходящей формы для своих публикаций» [53, 252]; вот почему Шельски «сознательно» занялся «политической полемикой, выходя за пределы ограничений, характерных именно для науки» [43, 2]. Эта оценка, безусловно, верна. Но столь же верно и то, что Шельски инсценировал свою антисоциологию как отвержение. Шельски - в течение долгих лет близкий друг и покровитель Гюнтера - (см. хотя бы: [28; 29; 60; 61, 73 ff; 44, 90, 101, 274 f, 292 f, 429 f, 446 f, 468 ff; 35, 8 ff; 50, 151]) в своей книге «Локализация немецкой социологии» противопоставлял эмпирическую науку о функциях социально-философской истолковывающей науке. Он рассчитывал при этом обрести такую позицию, с которой «можно будет критически дистанцироваться от «всей социологии»» [64, 87]. Правда, эту позицию, которую он называл «рефлектирующей субъективностью» [61, 105], Шельски намеревался специфицировать при помощи научных средств. Однако, не считая принципиально важных исследований по социологии права, так называемая «трансцендентальная теория общества» так и осталась у Шельски на уровне программных положений (см.: [72, 8 ff]). В результате, как заметил Дарендорф, вместо заявленной теории получилось «полемическое развитие [идеи о] своем собственном месте внутри немецкой социологии как о третьей возможности понимать социологию» [8, 129]. Это развитие завершилось в 70-е гг. бранью по адресу интеллектуалов, которая была представлена как «антисоциология» - не умея определить своих собственных научных основ, «антисоциология» именно поэтому аттестовала социологию как ненаучную [63, 255].
V
Шельски, однако, отнюдь не воспринимал свою ситуацию как трагическую - об этом ясно свидетельствует его оценка последней фазы своего творчества, которую он вполне последовательно квалифицировал как политическую беллетристику [64, 100]. Трагичен как раз случай Лумана. Резко различая позитивную социологию и критическую, он не просто имитирует сделанное Шельски противопоставление Кельнской школы Р. Кёнига, ориентированной на Дюркгейма, и Франкфуртской школы Т. В. Адорно, ориентированной на К. Маркса (см.: [59, 26 ff]). Мало того. Отвергая обе позиции, Луман также повторяет исход Шельски из «научного дискурса» [43, 2]. Фактически он время от времени использует форму публикаций, напоминающую о XVIII в., когда была разработана парадоксальная техника: «формулировать предложение так, чтобы не дать ему исполнить свою цель - означать что-либо для других предложений» [39, 145]. Правда, Луман все-таки не хочет, как в свое время Шельски, «выйти из игры» - в область политики [51, 173]. Он претендует на научность своей автопоэзии. Но, конечно, с вопросом об «истинности» или «ложности» это больше никак не связано. Может быть, на этом фоне станут объяснимыми те трудности в понимании, с которыми сталкиваются в научной среде лумановские публикации последних лет. Не случайно, во всяком случае, уже обнаружилась возможность рассматривать теорию Лумана с эстетической точки зрения [67; 33]. Как бы там ни было, но и к моменту завершения системно-теоретической социологии перед нашей дисциплиной по-прежнему остро стоит вопрос: как должна выглядеть единая теория, с помощью которой, не впадая в произвольность anything goes, можно было бы нетоталитарным образом обосновать ее единство.
Я полагаю, что ответ на этот вопрос возможно отыскать только на пути преодоления Гегеля. Если Луман сначала обращается к Гегелю, а затем еще пытается перекрыть его Гюнтером, то я предлагаю вообще покинуть сферу антитетического мышления. В философии известно несколько попыток критики Гегеля конструктивным (с точки зрения наших целей) способом. Совсем не обязательно при этом обращаться к текстам постмодернистов, скажем, Жака Дер-рида. Я предлагаю то, что лежит совсем рядом. Давайте бросим взгляд на работы неокантианца Г. Риккерта. Конечно, Риккерт достаточно известен социологам как философский поручитель М. Вебера. Но у нас речь не пойдет о его философии ценностей - потому хотя бы, что она постоянно подпитывает теологическое мышление (см.: [69, 108 ff, 122 ff; 70, 200 ff]). Куда более интересны те работы Риккерта, в которых он, в противоположность Гегелю, развивает так называемый гетеротетический принцип: «Гегель брал преднаходимую в самом мышлении двойственность как антитетику; антитезис при этом находится в явной противоположности к тезису, то есть является отрицанием последнего. Место гегелевской антитетики у Риккерта занимает гетеротетический принцип мышления, когда, полагая единое, одновременно полагают и иное. Отношение между двумя этими моментами не есть отношение взаимного исключения, но отношение дополняющей сопряженности в целом синтеза» [16, 13].
Фактически для Риккерта дело состоит в том, чтобы указать на приоритет инаковости перед отрицанием. Он утверждает: «Инаковостъ логически предшествует отрицанию* [57, 20]. Правда, он соглашается с Гегелем в том, что в основе всякого мышления лежит двойственность единого и иного. Однако, в противоположность Гегелю, он подчеркивает, что иное отнюдь не может пониматься просто как отрицание единого. Было бы заблуждением считать, «будто достаточно простого отрицания «не» или подлинно уничтожающего «нет», чтобы иное возникло или было выведено из единого. Такой чудодейственной силы у отрицания как простого «нет» (или уничтожения) никогда не было... Если мы будем мыслить иное единого как не-единое и, тем не менее, некоторым образом позитивно как некое иное, то мы будем постоянно добавлять к отрицанию, которое снимает единое, еще нечто, что происходит не из отрицания. Отрицание делает из нечто только не-нечто или ничто. Оно заставляет предмет вообще, так сказать, исчезнуть» [57, 20]. По Риккерту, «отрицание в качестве только отрицания еще не означает ничего, что хотя бы на малейший шаг продвигало бы нас дальше в том, как мы мыслим мир. Только если мы окажемся в состоянии поставить на место подвергнутого отрицанию позитивное иное, мы продвинемся вперед» [58, 46]. А поскольку, как Риккерт показывает на примере формы и содержания мышления, «уже с первого же своего шага» мышление должно удерживать в наличии « «сразу же» и единое, и иное» [57, 22], то нельзя обойтись без замены гегелевского противопоставления тезиса и антитезиса различением тезиса и гетеротезиса.
Риккерт при этом подчеркивает, что его гетерологию не следует понимать в духе субъективного конструктивизма: «Логически мы мыслим только тогда, когда обнаруживаем нечто такое, что имеется как предмет независимо от нашего мышления. Постепенное развитие нашей идеи предмета не означает развития предмета, но имеет только смысл постепенного уяснения в понятиях того предметного, что уже существовало до начала» (см.: [57, 10], ср.: [16, 14 f]. Придав риккертовской критике Гегеля объективистский оборот, можно будет сформулировать это так: «...иное в точности настолько же «позитивно», насколько «позитивно» и единое; избегая, если угодно, этого выражения, скажем: иное первичным, или изначальным образом находится подле единого» [57, 20]. Итак, поскольку «отрицание... не играет действительно существенной роли», отношение, существующее между единым и иным, не следует, в отличие от Гегеля, понимать как противоположность; по мнению Риккерта, единое и иное не исключают одно другое, но «позитивно дополняют друг друга» [57, 22]. Риккерт даже говорит о «своеобразной взаимозависимости» единого и иного: «Говоря объективно, первое существует как единое только в отношении или в связи со вторым. Говоря субъективно, вместе с единым всегда «полагается» и иное. Мы не можем мыслить безотносительно. Даже чисто логический предмет можно постигнуть в его целостности лишь как соотнесение соотнесенного, как единое и иное, как форму и содержание» [57, 18].
Если рассуждать указанным образом, то и единство, обнимающее собой единое и иное, уже не должно пониматься в смысле гегелевской логики тождества. Рикерт показывает, что единство не обязательно рассматривать как «тождество, как отсутствие различия или простоту», но можно трактовать как «единство многообразия» [57, 24]. Единство многообразия представляет собой «объемлющую связь единого и иного»; она - «как единство синтеза единого... и иного никогда не может означать единства в смысле отсутствия различия, но требует различия или инаковости - подобно тому, как «единство» тождества отторгает различие или инаковость. Необходимо постоянно задаваться вопросом, что имеется в виду, когда говорят о «единстве»: тождественное «единство» как отсутствие различия или как синтетическое «единство» того, что отлично друг от друга и соотносится между собой» [57, 24]. Действительно, предлагаемая Риккертом трактовка единства многообразного уже не фиксирует наше внимание на (говоря словами Лумана) «общем в различном» [53, 254]. Скорее это понятие освобождает зрение, позволяя увидеть различное, причем Риккерт заинтересован не различиями как таковыми, но удостаивает их вниманием лишь постольку, поскольку они взаимно дополняют друг друга, образуя синтез. В противоположность антитетическому «либо - либо» Гегеля, и тем более - в противоположность вдвойне антитетическому «ни - ни» Гюнтера, у Риккерта в его гетеротетическом принципе дополняющей связанности находит выражение «как - так и», что открывает возможности и для обоснования единства социологии как дисциплины. Что дозволено было Веберу, использовавшему философию Риккерта, то должно быть разрешено и нам, сегодняшним.
VI
С полным на то основанием Луману ставили в упрек, что «отрицание не может рассматриваться как наукотворче-ская операция». Как замечает О. Вайнбергер, «одно только отрицание (критика) не позволяет прийти к новым теориям, это возможно только при конструировании новых способов понимания, которые не определяются, однако, одним только отрицанием» [73, 269]. Я бы, со своей стороны, тоже хотел избежать возможного упрека в том, что не предлагаю ничего, кроме критики. Поэтому ниже я намерен показать, как гетерологию Риккерта можно подсоединить к нынешнему состоянию дискурса в социологии. Насколько мне известно, в наше время позиция Риккерта рассматривается как повод для конструктивных рассуждений только в философии, например, в работах В. Флаха [16; 17] и К. Глой [19]. Однако и в других, нефилософских контекстах можно встретиться с его аргументами. Например, в структурной семантике А. Ж. Греймаса отрицание совершенно сознательно дополняется второй операцией; соответственно, из понимания того, что неопределенность простого отрицания должна быть переведена в определенность контрарно противоположного исходному элемента, - из этого здесь делаются очень серьезные выводы (см.: [22, 14 ff; 68, 115]). Рассуждения, аналогичные идеям Риккерта, можно найти также и в постструктурализме Деррида, например, в связи с его понятием supplement»а, которое означает не только «замену», но и «восполнение» (см.: [10, 244 ff; 55, 32]. На мой взгляд, безусловно стоило бы изучить такого рода исследования по логике различия с учетом риккертововского понятия единства многообразия.
Но вернемся к социологии. Прежде всего, здесь это понятие проясняет предметное измерение в образовании социологических теорий. Гетеротетический принцип может способствовать анализу той до сих пор еще недостаточно выясненной связи, которую Дюркгейм, развивая теорию Г. Спенсера, обозначил как органическую солидарность. Как известно, Дюркгейм настаивал на том, что разделение труда прежде всего становится возможным благодаря гетерогенности. При этом, как показал Дюркгейм, проиллюстрировав это примерами дружбы и семьи, под гетерогенностью не следует понимать противоположность: «Лишь различия определенного рода чувствуют... взаимное притяжение, а именно, различия, которые дополняют друг друга, а не противоречат одно другому и не исключают друг друга» [11, 102]. Именно «объединяющее несходство натур» может основать социальную связь, называемую солидарностью: «Как раз потому, что мужчина и женщина отличаются друг от друга, они страстно ищут друг друга. Вместе с тем ...не чистая и не простая противоположность вызывает взаимное тяготение, но только различия, которые взаимно предполагаются и дополняются, могут иметь такое свойство» [11, 103]. Луман сам подчеркивал, что для Дюркгейма дело состояло не в отношении отрицания, но в инаковости иного» [47, 22]. Однако Луман не заполнил это «пустое место» в исследованиях [37, 111] и не сделал отсюда выводов при построении своей собственной теории. Но и здесь есть работы, которые можно было бы использовать в дальнейшем [56; 70, 346 ff].
Что касается социального измерения социологических теорий, то на основе риккертовского единства многообразия можно было бы по-другому выстроить необходимую для обоснования единства дисциплины теорию, чем так, как предлагает Луман. На самом деле, уже существует социологический pendant* к риккертовской гетерологии. Т. Фарра-ро выступает представителем «spirit of unification»**, который обнаруживается в рекурсивных процессах синтеза и основу которого составляет не что иное, как тот самый принцип дополняющей связности, выражающейся, согласно Риккерту, в синтетическом единстве единого и иного.
* Соответствие (фр.).
** Дух унификации (англ.).
«Под унификацией, - говорит Фарраро, - я понимаю не конструкцию отдельной теории отдельным лицом или даже отдельной исследовательской группой, так что под эту теорию подводится все остальное. Скорее, я имею в виду процесс, совершающийся через интегративные эпизоды. Результат любого такого эпизода может войти в другой эпизод позже. Таким образом, этот процесс рекурсивен и конституирует то, что мы можем назвать динамикой унификации» [12, 175]. Фарраро проясняет этот процесс, рассматривая вместе различные теоретические установки [15; 13; 14]. Он отчетливо формулирует, что для него при этом важно не только конструирование эффективных теорий, но и обоснование единства дисциплины: «...дух унификации... может перекинуть мосты между различными теоретическими предприятиями, помогая сломать барьеры обособления внутри социологической теории» [12, 175]. Возможно, тем самым найдена позиция, противоположная плюралистической вседозволенности теорий, к тому же не предполагающая тоталитаризма и не избегающая истины как средства Коммуникации науки.
Чтобы предотвратить недоразумения, подчеркнем: для Фарраро дело отнюдь не в том, чтобы предпринять новое издание «теорий среднего уровня» - концепции предложенной Р. Мертоном в полемике с Т. Парсонсом. Вопросы абстракции и агрегации не играют у Фарраро заметной роли. И если бы для его единой теории, ориентированной на spirit of unification, пожелали найти название, то можно было бы предложить такое - дифференциальная социология. Само это понятие сформулировал Ж. Гурвич [31], для которого также было важно «снять оппозицию определенных односторонних тезисов и соединить их между собой» [30, 113]. Свой труд Гурвич рассматривает как процедуру «резюмирования предшествующей социологии. Следует находить как можно более гибкий понятийный аппарат, чтобы описать и объяснить конкретную социальную действительность. При этом речь не должна идти о системе; напротив, социология всегда может быть только незавершенным воссозданием социальной жизненной связи в действии, в движении, таким воссозданием, которое должно быть предпринято заново всякий раз - в любых [новых] рамках, в любой ситуации, в связи с каждой [новой] конъюнктурой, каждым поворотным пунктом. Понятийный аппарат должен постоянно создаваться заново и может служить лишь точкой опоры, прагматическая значимость которой обнаруживается при последующих вновь и вновь предпринимаемых попытках» [30, 112]. Может ли этот прагматизм содействовать преодолению кризиса дисциплины - это вопрос эмпирический, т. е. открытый. Но, во всяком случае, от попыток такого рода можно было бы ожидать применительно к каждому конкретному случаю обоснования значимого от случая к случаю «более-или-менее-единства» [9, 2].
ЛИТЕРАТУРА
1.Berger P. L. Does Sociology Still Make Sense? // Schweizer Zeitschrift fur Soziologie. 1994. Bd. 20. S. 3-12.
2.Beyme K. V. Theorie der Politik im XX. Jahrhundert. Von der Moderne zur Postmoderne. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1991.
3.Boudon R. Will Sociology Ever Be a Normal Science? // Theory and Societe. 1988. Vol. 17. P. 747-771.
4.Bvde H. 1968 und die Soziologie // Soziale Welt. 1994. Bd. 45. P. 242- 253.
5.Collins R. Is 1980s Sociology in the Doldrums? // American Journal of Sociology. 1986. Vol. 91. P. 1336-1355.
6.Collins R. Sociology: Prescience or Antiscience? // American Sociological Review. 1989. Vol. 54. P. 124-139.
6a. Коллинз Р. Социология: Наука или антинаука? // Наст, издание. С. 37-68.
7.Esser И. Soziologie. Allgemeine Grundlagen. Frankfurt a. M.: Capus, 1993.
8.Dahrendorf R. Die drei Soziologien. Zu Helmut Schleskys «Ortsbe-stimmung der deutshen Soziologie» // Kolner Zeitschrift fur Soziologie und Sozialpsychologie. 196,0. Bd. 12. S. 120-133.
9.Dahrendorf R. Einfiihrung in die Soziologie // Soziale Welt. 1989. Bd. 40. S. 2-10.
10.Derrida J. Grammatologie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.
11.Durkheim E. Uber Soziale Arbeitsteilung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988.
12.Fararo T. J. The Spirit of Unification in Sociological Theory // Sociological Theory. 1989. Vol. 7. P. 175-190.
13.Fararo T. J. The Meaning of General Theoretical Sociology. Tradition and Formalization. Cambridge: Cambridge University Press, 1989.
14.Fararo T. J. General Sociological Equilibrum: Toward Theoretical Synthesis // Sociological Theory. 1993. Vol. 11. P. 291-313.
15.Fararo T. J., Skvoretz J. Unification Research Programs: Integrating Two Structural Theories // American Journal of Sociology. 1987. Vol. 92. P. 1183-1209.
16.Flach W. Kroner und der Weg bis Hegel. Die systematischen Voraus-setzungen der Kronerschen Kantkritik // Zeitschrift fur philosophische For-schung. 1958. Bd. 12. S. 554-579.
17.Flach W. Negation und Andersheit. Ein Beitrag zur Problematik der Letztimplikation. Miinchen: Reinhardt, 1959.
18.Frank U. Rezension von G. Gunther, Idee und GrundriC einer nicht-Aristotelischen Logik // Zeitschrift fur philosophische Forschung. 1963. Bd. 17. S. 725-727.
19.Gloy K. Einheit und Mannigfaltigkeit. Eine Strukturanalyse des «und». Systematische Untersuchungen zum Einheits- und Mannigfaltigkeitsbegriff bei Platon, Fichte, Hegel sowie in der Moderne. Berlin: De Gruyter, 1981.
20.Gouldner A. W. The Coming Cisis of Western Sociology. New York: Basic Books, 1970.
21.Grathoff R. Uber die Einheit der Systeme in der Vielfalt der Lebens-welt. Eine Antwort auf Niklas Luhmann // Archiv fur Rechts- und Sozialphilo-sophie. 1987. Bd. 73. S. 251-263.
22.Greimas A. J. Strukturale Semantik. Braunschweig: Vieweg, 1971.
23.Gunther G. Idee und GrundriB einer nicht-Aristotelischen Logik. Bd. 1: Die Idee und ihre philosophischen Voraussetzungen. Hamburg: Meiner, 1959.
24.Gunther G. Das Problem einer Formalisierung der transzendental-dialektischen Logik. Unter besonderer Berucksichtigung der Logik Hegels // Hegel-Studien. 1962. Beiheft 1. S. 85-123.
25.Gunther G. Logik, Zeit, Emanation und Evolution. Opladen: Wets-deutscher Verlag, 1967.
26.Gunther G. Das Janusgesicht der Dialektik // Hegel-Jahrbuch. 1974. S. 89-117.
27.Gunther G. Selbstdarstellung im Spiegel Amerikas // Philosophic in Selbstdarstellungen / Hrsgg. v. L. J. Pongratz. Bd. 2. Hamburg: Meiner, 1975.
28.Gunther G., Schelsky H. Christliche Metaphysik und das Schicksal des modernen Bewufitseins. Leipzig: Hirzel, 1937.
29.Gunther G., Schelsky H. Die ontologischen Grundlagen der Mehr-wertigkeit. Naturliche Zahlen in einem transklassischen System // Jahres-bericht des Zentrums fur interdisziplinare Forschung der Universitat Bielefeld. Bielefeld, 1970. S. 27-28.
30.Gugel J. Die neuere franzosische Soziologie. Ansatze zueiner Stan-dortbestimmung der Soziologie. Neuwied: Luchterhand, 1961.
31.Gurvitch G. La vocation actuelle de la sociologie. T. 1. Vers la sociolo-gie differentielle. P.: PUF, 1968.
32.Hegel G. W. F. Wissenschaft der Logik П. Werke in 20 Banden. Bd. 8 / Hrsgg. v. E. Moldenhauer und K. Michel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983.
33.Helmstetter R. Die weiBen Mause des Sinns. Luhmanns Humorisierung der Wisstnschaft der Gesellschaft // Merkur. 1993. Bd. 47. S. 601-619.
34.Horowitz I. L. The Decomposition of Sociology. N. Y.: Oxford University Press, 1993.
35.Klagenfurt K. Technologische Zivilisation und transklassische Logik. Eine Einfuhrung in die Technikphilosophie Gotthard Gimthers. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1995.
36.Lorenzen P. Das Problem einer Formalisierung der Hegelschen Logik. Korreferat zu einem Vortrag von G. Gunther // Hegel-Studien. 1962. Beiheft 1. S. 125-130.
37.Luhmann N. Reflexive Mechanismen // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1974. S. 92-114.
38.Luhmann N. Soziologie der Moral // Theorietechnik und Moral. / Hrsgg. v. N. Luhmann, S. H. Pfurtner. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1978 S. 8-116.
39.Luhmann N. Interaktion in Oberschichten: Zur Transformation ihrer Semantik im 17. und 18. Jahrhundert // Luhmann N. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellscaft. Bd. 1. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1980.
40.Luhmann N. Handlungstheorie und Systemtheorie // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Bd. 3. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981. S. 50-66.
41.Luhmann N. Autopoiesis, Handlung und kommunikative Verstandigung // Zeitschrift fur Soziologie. 1982. Bd. 11. S. 366-379.
42.Luhmann N. Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1984.
43.Luhmann N. Helmut Schelsky zum Gedeken // Zeitschrift fur Rechtsso-ziologie. 1984. Bd. 6. S. 1-3.
44.Luhmann N. Die Richtigkeit soziologischer Theorie // Merkur. 1987. Bd. 41. S. 36-49.
45.Luhmann N. Die Wirtschaft der Gesellschaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988.
46.Luhmann N. Neuere Entwicklungen in der Systemtheorie // Merkur. 1988. Bd. 42. S. 291-300.
47.Luhmann N. Arbeitstelung und Moral. Durkheims Theorie // Durk-heim E. Uber soziale Arbeitstelung. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1988. S. 19- 38.
48.Luhmann N. Identitat - was oder wie? // Luhmann N. Soziologische Aufklarung. Bd. 5. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990. S. 14-30.
49.Luhmann N. Uber systemtheoretischen Grundlagen der Gesellschafts-theorie // Deutsche Zeitschrift fur Philosophic. 1990. Bd. 38. S. 277-284.
50.Luhmann N. Am Ende der kritischen Soziologie // Zeitschrift fur Soziologie. 1990. Bd. 20. S. 147-152.
51.LuhmannN. Die Form «Person» //Soziale Welt. 1991. Bd.42.S. 166- 175.
52.Luhmann N. Die Wissenschaft der Gesellscaft. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992.
53.Luhmann N. «Was ist der Fall» und «Was steckt dahinter?» Die zwei Soziologien und die Gesellschaftstheorie // Zeitschrift fur Soziologie. 1993. Bd. 22. S. 245-260.
54.Merlon R. The Position of Sociological Theory: Discussion // American Soziological Review. 1948. Vol. 13. P. 164-168.
55.Naumann-Beyer W. Annaherung an Derrida - oder: Wer spat kommt, den belohnt das Lesen // Deutsche Zeitschrift fur Philosophic. 1994. Bd. 42. S. 15-33.
56.Plum-wood V. The Politics of Reason: Towards a Feminist Logic // Australasian Journal of Philosophy. 1993. Vol. 71. P. 436-462.
57.Rickert H. Das Eine, die Einheit und die Eins. Bemerkungen zur Rolle des Zahlbegriff. Tubingen: Mohr, 1924.
58.Rickert H. Grundprobleme der Philosophic. Methodologie, Ontologie, Anthropologie. Tubingen: Mohr, 1934.
59.Sahner H. Theorie und Forschung. Zur paradigmatischen Struktur der deutschen Soziologie und zu ihrem EinfluB auf die Forschung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1982.
60.Schelsky H. Zum Begriffder tierischen Subjektivitat // Studium Gene-rale. 1952. Vol. 3. S. 102-116.
61.Schelsky H. Ortbestimmung der deutschen Soziologie. Diisseldorf: Diederichs, 1959.
62.Schelsky H. Auf der Suche nach Wirklichkeit. Dusseldorf: Diederichs, 1965.
63.Schelsky H. Die Arbeit tun die anderen. Klassenkampf und Priester-herrschaft der Intellektuellen. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1975.
64.Schelsky H. Soziologie - wie ich sie verstand und verstehe // H. Schelsky. Ruckblice eines «Anti-Soziologen». Opladen: Westdeutscher Verlag, 1981.
65.Schmitz H. Rezension von G. Gimther, Idee und GrundriB einer nicht-Aristotelischen Logik // Philosophische Rundschau. 1961. Bd. 9. S. 283- 304.
66.Sennet R. Das Ende der Soziologie // Die Zeit. 1994. Nr. 40 vom 30. September. S. 61-62.
67.Soentgen J. Der Bau. Betrachtungen zu einer Metapher der Luhmann-schen Systemtheorie // Zeitschrift fur Soziologie. 1992. Bd. 21. S. 456-466.
68.Stierle K. Semiotik als Kulturwissenschaft // Zeitschrift fur frazosische Sprache und Literatur. 1973. Bd. 83. S. 99-128.
69.Wagner G. Geltung und normativer Zwang. Eine Untersuchung zu den neukantianischen Grundlagen der Wissenschaftslehre Max Webers. Freiburg: Alter, 1987.
70.Wagner G. Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwinding der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
71.Wagner G. Am Ende der systemtheoretischen Soziologie. Niklas Luh-mann und die Dialektik // Zeitschrift fur Soziologie. 1994. Bd. 23. S. 275- 291.
72.Wagner G. Zur Rekonstruktion und Kritik einer transzendentalen Soziologie der Gesellscaft: Helmut Schelsky und Wolfgang Schluchter // Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie. 1995. Bd. 81. S. 1-25.
73.Weinberger O. Moral als Dual-Code? Kritische Anmerkungen zu Niklas Luhmanns Theorie der Moral // Rechtstheorie. 1993. Bdf. 24. S. 261-280.
74.Weingart P. Provinz ist liberal. Der WeltkongreB fur Soziologie in Bielefeld // Soziologische Revue. 1994. Bd. 17. S. 252-254.
75.WeiflJ. Die Normalitat als Krise. Soziale Welt. 1989. Bd. 40. S. 124- 132.
Фил Макнотен и Джон Урри СОЦИОЛОГИЯ ПРИРОДЫ*
Социология и исследование изменений окружающей среды
* Рукопись предоставлена авторами специально для настоящего издания.
В этой статье мы намерены рассмотреть парадокс: казалось бы социология должна играть центральную роль в исследовании изменений среды обитания, но пока что ее вклад в эти исследования очень скромен. Она не сделала того, что могла бы сделать. Поэтому наше положение весьма щекотливо: мы собираемся показать, что социологии действительно должна принадлежать центральная роль, но почти не имеем эмпирических данных в поддержку этого притязания. Однако пусть достижения социологии в названной области и не впечатляют (особенно по сравнению с некоторыми другими науками, вроде социальной географии или планирования), но ее постановки проблем потенциально могут стать центральными. Чтобы объяснить, почему вклад социологии в понимание изменений окружающей среды недостаточен, мы сперва обратимся к социальному и историческому контексту, в котором социология начинала укореняться, а затем рассмотрим, как это повлияло на характер трактовки «социального» всеми, кто исследует природу окружающей среды и ее изменения.
Логика развития социологии была продуктом конкретного исторического момента, порождением промышленного капитализма в Западной Европе и Северной Америке. Ключевым понятием этой социологии было понятие общества.
Она имела склонность принимать определенные априорные допущения об отношениях следствия между природой и обществом. Принимая как бесспорную данность эффектные успехи современных обществ такого типа в покорении природы, социология сосредоточилась и специализировалась на том, в чем она чувствовала себя сильной, а именно, на описании и объяснении самого характера современных обществ. В таком качестве социология, в общем, приняла соответствущее разделение труда в академической сфере; оно отчасти возникло благодаря желанию выделить (вслед за Э. Дюркгеймом) отдельную область или сферу социального, которую можно было бы изучать и объяснять автономно. В известном смысле социология применяла стратегию самоопределения по образцу биологии, утверждая существование особой и автономной области фактов, в данном случае относящихся к социальному, или обществу. Предполагалось, что такая область отделена от природы и противопоставлена ей.
До совсем недавнего времени это академическое разделение между миром социальных фактов и миром природных фактов в основном не оспаривалось. Между прочим оно было отражено в формулировках понятия времени, допускавших, что время природы и время общества - очень разные сущности (см.: [1; 24, Ch. 9]). Более того, это разделение имело смысл в перспективе профессионализации социологии, поскольку обеспечивало ясную и строго ограниченную область исследования: область параллельную, но не спорящую и не сталкивающуюся с теми естественными науками, которые несомненно имели дело с кажущимся очевидным миром природных явлений.
Именно такая модель социологии и вообще социальных наук наиболее заметна в текущих исследованиях так называемых «глобальных изменений среды». Грубо говоря, роль обществоведа усматривается в том, чтобы заниматься социальным влиянием и последствиями тех проблем окружающей среды, которые первоначально и точно были описаны естественником - род модели «биология сначала» (см.: [19]). Это можно ясно увидеть в ведущих международных исследовательских программах по глобальным изменениям среды, что недавно акцентировал Ньюби [30] в отношении существующей структуры Межправительственных панельных исследований климатических изменений (IPCC) и Программы по человеческому измерению глобальных изменений в окружающей среде (HDP). Ньюби отмечает, насколько обе эти программы воспринимают изменения окружающей среды как множество научных проблем, требующих технических решений. Так, в IPCC линейная модель образована рабочими панелями, построенными на научных данных, средовых и социоэкономических воздействиях и соответствующих стратегиях реагирования (описанных в откровенно технических терминах).
Похожие явления можно найти и в английской исследовательской программе по глобальным изменениям окружающей среды. После ряда значительных событий, включая волну повышения экологической сознательности общественности в конце 80-х гг. и часто цитируемую речь М. Тэтчер перед Королевским научным обществом в 1989 г., возникла новая исследовательская культура, поощряющая изучение процессов, происходящих в окружающей среде. В соответствии с международными моделями направленность этих исследований большей частью тяготела к глобальности и естественнонаучной ориентации. Так, когда в 1990 г. был сформирован Межведомственный комитет Великобритании по глобальным изменениям окружающей среды для координации всех таких исследований в стране, первый его отчет в апреле 1991 г. безусловно имел естественнонаучный оттенок. Более того, когда обществоведческие исследования стали более заметными благодаря правительственному фонду для программы по изучению глобальных изменений окружающей среды в 1990 г., они протекали в политическом климате, где значительные ожидания и политические обязательства связывались с ролью общественных наук в формулировке надлежащих ответов на проблемы, поднятые в процессе сбора естественнонаучных данных. И потому первоначальная задача программы Для общественных наук состояла в том, чтобы «помогать в понимании причин глобального изменения окружающей среды; в предсказании его воздействий и в оценке издержек ч выгод крупных социоэкономических изменений, требуемых для гармонизации общественного развития с окружающей средой» [16, 1].
Вышеописанный политический ландшафт наводит на мысль, что роль обществоведа в анализе глобального изменения окружающей среды до сих пор была в основном ролью социального инженера, манипулятора и «фиксатора», способствующего поддержанию жизнеспособности общества. В такой роли предпочтительнее выглядят «инструмента-листские» дисциплины вроде экономики и социальной географии, тогда как данных о вкладе социологии в решение проблем глобального изменения окружающей среды почти нет (что уже отмечалось выше). Далее в данной статье мы попытаемся отыскать объяснение, почему социология в основном не сумела успешно войти в дебаты по проблемам окружающей среды, даже там, где теперь существуют исследовательские программы с упором на «социальную науку». Мы начнем с возвращения к сложным взаимоотношениям между социальным и природным, прежде чем предложить некоторые области для социологического исследования и разработки. Следует предупредить, что эта статья концентрируется на взаимоотношениях общества и природы в пределах «западного» или североатлантического круга обществ и затрагивает главным образом «инвайронментали-стские», а не «биологические» темы.
Природа: исторический аспект
Исторически сопоставление общества и природы достигло наивысшего развития в XIX в. на Западе. Природа начинала вырождаться в какое-то царство несвободы и враждебности, которое надо было покорять и контролировать. Модерн включал в себя веру в то, что прогресс человечества следует измерять и оценивать в категориях господства человека над «природой», а не через попытки как-то преобразовать взаимоотношения между людьми и природой. Воззрение, согласно которому над природой надо господствовать, предполагало доктрину исключительности человека, т. е. убеждение, что люди глубоко отличаются от всех других видов и превосходят их, что люди способны определять свое предназначение и научаться всему необходимому, дабы оно исполнилось, что мир огромен и предоставляет неограниченные возможности для всех, и что история человеческого общества есть история бесконечного прогресса.
Однако, как указывает Уильяме [41], один из недостатков такой доктрины (который мы теперь хорошо сознаем) состоит в том, что нет ни одной сущности, которую можно было бы, строго говоря, назвать «природой». Мы еще вернемся к этой теме, но здесь можем отметить, что идею природы можно соотнести с сущностным качеством или характером чего-то; со скрытой силой, стоящей за какими-то событиями в мире; со всей совокупностью одушевленных и неодушевленных объектов, особенно таких, которым что-либо угрожает; с физической средой, противополагаемой человеческой культурной среде и ее особой экологии; и с сельским (в противоположность городскому) с его особенными визуальными или рекреационными свойствами (см.: [42, 216; 34, 172; 35]).
В историческом плане проект описания некоторых из ключевых трансформаций в понимании и отношении людей на Западе к природному обрисовал Уильяме [41; 42]. Он показал, что наши теперешние представления о природе происходят из чрезвычайно сложного скопления идей, связанных со многими ключевыми понятиями западной мысли, как то: Бог, идеализм, демократия, модерн, общество, Просвещение, романтизм и т. д. Начиная со средневековой космологии, Уильяме фиксирует социальную значимость, которую имело образование ряда абстрагированных, единичных и персонифицированных «природ». Как только природу отделили от множества других вещей, рассуждает Уильяме, открылась возможность предлагать социальные устроения, связанные с конкретным природным порядком. Так, апелляция к природе как к богине, затем как к божественной матери, абсолютному монарху, министру, конституционному законодателю и, наконец, избирательно производящему источнику соответственно определяло изменяющиеся отношения (часто в жесткой борьбе) между царством природы, царством Бога и человечеством. Однако два решающих изменения произошли в XVI и XVII вв. Оба они включали абстрагирование и отделение царства природы и от Бога, и от человечества, оба успешно отрицали скрытый потенциал идеи всеохватывающего космологического порядка.
Первое изменение повлекло за собой умерщвление царства природы, переход от жизненной силы к мертвой материи, от духа к машине. Фактически через обновленные науки - физику, астрономию и математику - изучение природы стало изучением того, как она построена материально. Природа стала множеством законов, причин и конвенций, открываемых по новым правилам исследования, благодаря таким формам исследования, которые можно было проводить в их собственных понятиях без всякого обращения к божественной цели или плану.
Второе изменение заключалось в истолковании некоего природного состояния как состояния первичного по отношению к человечеству или, по крайней мере, к цивилизованному обществу. Раз природа стала чем-то абстрагированным и фактически отделенным как первичное по отношению к обществу состояние, то возникают споры о сущности естественного состояния по сравнению с общественным. Два варианта этой идеи получили широкое развитие в Просвещении и романтизме. Оба они уходили корнями в спор о том, было ли «дообщественное естественное состояние» ис-точником первородного греха или первородной невинности. Раннее выражение разных позиций в этом споре можно найти у Т. Гоббса и Дж. Локка. Так, если Гоббс описывал дообщественное естественное состояние как состояние «одиночества, бедности, недоброжелательства, грубости и нужды», то Локк изображал его состоянием «мира, доброй воли, взаимопомощи и сотрудничества». Отсюда Гоббс доказывал, что основой цивилизованного общества является преодоление «недостатков природы», тогда как, по Локку, основу справедливого общества надо искать в организации его согласно «законам природы». Эти конструкции относительно природы самым решительным образом повлияли на взаимоотношения между формами социальной деятельности и тем или иным пониманием естественного состояния.
Как сказано выше, космология до эпохи модерна содержала идею всеобъемлющего порядка, внутри которого были связаны воедино человечество, природа и Бог. Моральное суждение большей частью понимали тогда в категориях подчинения человеческого действия этому естественному порядку. Но как только природа отделилась от человечества, стало возможным спрашивать, соответствуют или нет данные виды социальной деятельности предсуществу-ющему естественному порядку. Уильяме поясняет: «Говорить о «вмешательстве» человека (s7'c!) в естественные процессы - это значит, конечно, предполагать, что он имеет возможность не вмешиваться или решать не вмешиваться. Природа должна мыслиться, так сказать, в ее отделенности от человека, прежде чем возникнет какой-либо вопрос о вмешательстве или господстве над ней, а также о методе или этике того и другого» [41, 154].
Эти новые абстрагированные «природы» не только узаконили теоретическое исследование («обособленный разум, взирающий на обособленную материю», «человек, созерцающий природу»), но и оправдали введение новых практик. И действительно, Уильяме [41] показывает, что отделение природы от общества было предпосылкой для появления практик, зависимых от инструментального конституирова-ния природы как некоего множества пассивных объектов, подлежащих использованию и разработке людьми. Мораль обычно оправдывала то огромных масштабов вмешательство в природу, которое началось с XVIII в. и выросло из этой конструкции обособленной природы, чьи законы стали законами физики. А поскольку последние считались законами от Бога, физическое вмешательство начали представлять продолжением божественного творчества. На деле это логически вело к мысли о том, что вторжение людей в природу обосновано и нанесение вреда пассивной материи для человеческой пользы допустимо и целесообразно. И, наконец, это вызвало к жизни не только доводы, провозглашавшие «естественность» вмешательства, но и такие, где вмешательство считалось столь неизбежным, что любую критику такой аргументации саму стали классифицировать как вмешательство.
Приблизительно в то же время появилась еще одна идейная конструкция природы. Как раз тогда, когда «улучша-тели» провозглашали неизбежность своих действий, многие люди начали испытывать на себе последствия деградации окружающей среды и ее усиленной социальной эксплуатации, производные от этого массированного вторжения в «природу». Весь этот процесс в таких его проявлениях, как работные дома и дымные фабрики, дети-трубочисты и армия шахтеров, туберкулез и сифилис стали критиковать как нечеловеческий, несправедливый и «неестественный». Однако, как показывает Уильяме [41], хотя отрицательную сторону индустриализма признать было легко, положительную альтернативу (в категориях «естественной» альтернативы) защищать стало труднее. В самом деле, по мере институционализации рынка в обществе становилось трудным, если не невозможным, критиковать механизм, который был признан созидающей причиной богатства, экономического процветания, прибылей и либеральной демократии. Рынок сам начинал пониматься как «естественное» явление и законы рынка - тоже как естественные, аналогичные законам природного мира и тем самым необоримые и недоступные вмешательству. Уильяме поясняет: «Отражением новых естественных экономических законов, естественной свободы предпринимателя продвигаться в деле без чужого вмешательства стал образ рынка как естественного [sic!] регулятора... Это был остаток... более абстрактных идей о социальной гармонии, в которой могли бы идеально совпадать личный и общественный интересы» [41, 158].
Эта натурализация рынка удивительно хорошо показывала, как перестройка понятия природы в духе «естественной науки» должна была повлиять на человечество и социальный мир. Все виды исследования были одинаково подчинены поиску естественных законов. Альтернативная концепция природы (которая вышла из романтизма, а не из Просвещения) оказалась больше эскапистской, чем визионерской. Вместо усилий возродить мораль и этику в сфере природы, обдумывая новые пути, как вновь сделать природу социальной, ее обособление сохранили, просто удалив из человеческого мира на окраины современного общества: «Природа в совсем другом смысле, чем думали ее улучшате-ли, фактически бежала на окраины цивилизации: на отдаленные, недоступные, относительно неплодородные территории. Природа была там, где не было промышленности, и в таком реальном, но ограниченном значении почти ничего не могла сказать о тех операциях на природе, которые производились в других местах» [41, 159].
В США это привело к созданию национальных парков, где нашла воплощение одна частная концепция природы как дикого состояния. В Англии это породило концепцию более прирученной природы, примером чего может служить кампания У. Вордсворта и других за «консервацию» Озерного края и прочих мест, отдаленных от науки, промышленности и власти.
До сих пор мы относились к природе в точности как к женщине. Теперь мы знаем, что это очень типично: природу часто представляли как «женщину», как богиню или божественную матерь. Дальше будет показано, что покорение природы индустриальной экономикой, разумом и наукой рассматривалось в том числе и как «овладение» ею, так что в некоторых представлениях о природе скрывались сексуализированные мужские установки на ее изнасилование и ограбление. Наконец, в иных версиях эко-феминизма провозглашается, что женщины в некотором смысле более «естественны» и ближе к «природе», чем мужчины, особенно по причине деторождения. Многие феминистские утопии построены вокруг идеи полностью женского общества, которое живет в мире с самим собой и с природной средой.
Следует также отметить, что история «природы» в дальнейшем должна считаться с тем, как колониализм и расовое угнетение повлияли на обособление природы, которая эксплуатировалась Западом и для Запада. Эта природа виделась состоящей и из искусственно обособленных «девственных» земель, и из людей, более «естественных» в качестве работников и объектов колонизаторско-туристского внимания. В русле подобных рассуждений считается, например, что быть определенным в качестве явления «природы»... значит быть определенным в качестве пассивного существа, несамостоятельного деятеля и не-субъекта, в качестве «среды» или незримых первичных условий для «передовых» достижений разума или культуры. Это значит также быть определенным в качестве ресурса, лишенного собственных целей и значения, и потому пригодного для присоединения к целям тех, кого предположительно отождествляют с миром разума или интеллекта (см.: [ЗОа, 43]).
Вывод из этого краткого исторического очерка таков, что не существует никакой «природы» самой по себе - можно говорить только о «природах». И такие природы формируются исторически, географически и социально. Следовательно, не существует естественных ограничений и пределов как таковых. Они не закреплены и не вечны, но скорее зависят от конкретных исторических и географических детерминаций, а также от самих процессов, по которым «природа» строится и поддерживается в культуре, в частности, от процессов, выражающих отношение к «другому» . Более того, раз мы признаем, что идеи о природе были основательно переплетены - и остаются таковыми теперь - с господствующими идеями об обществе, мы должны ясно понимать, что и последние оказываются воспроизводимыми, узакониваемыми, исключаемыми из оборота, общезначимыми и т. д. благодаря обращению к природе или к природному. Проект определения того, что есть природное воздействие, становится социальным и культурным проектом в такой же мере, как и «чисто» научным.
К вопросу о критической инвайронментальной социологии
Предпринятый краткий исторический очерк обеспечивает контекст, благодаря которому можно понять появление новейших концепций природы, понять их историческое (отличать от неизбежного) отделение от общества и продвинуться в критическом анализе допущений, на которые они опираются. Теперешние рассуждения о природе обычно апеллируют к обрисованным выше вариантам различения природного и социального, а социологическое исследование только приступило к объяснению тех способов, какими можно связать эти современные апелляции и с природой вне общества (например, призывами к романтической, до-человеческой, нетронутой природе), и с так называемой естественностью нынешних социальных порядков (например, утилитарными призывами к естественности чисто рыночных отношений). Хотя задачей научного социологического исследования остается более глубокий анализ социального измерения современных призывов к естественному, у социологии есть и другие возможности внести существенный вклад в нынешние дискуссии по проблемам окружающей среды. В частности, эти возможности содержатся в вопросе, как в современных обществах реконструируются «социальное» и «природное». В оставшейся части статьи мы дадим пробный набросок насущных задач для критической, ангажированной и рефлексивной социологии окружающей среды. Такая социология концентрируется на четырех взаимосвязанных областях: социологии экологических знаний; социологическом прочтении существующих «природ»; социологии экологического «вреда»; и проблеме «инвайронментализм и общество»*.
* За последние несколько лет определился ряд социологов, переходящих в проблемную область современного инвайронментализма. Два недавних примера в использовании социальной теории для понимания взаимоотношений между «природой» и «обществом» дают П. Диккенс и Т. Бентон (см.: [10; 7]).
Социология экологических знаний
Во многих отношениях нынешняя роль, приписываемая общественным наукам, предполагает описание природы, явно свойственное эпохе модерна. Правда, наш мир может быть признан имеющим конечные пределы и уже не бесконечно щедрым, но исследовательские программы действуют еще под влиянием глубоко модернистских посылок о материальности мира, о его совершенной доступности научному и рационалистическому исследованию и о принципиальном отделении людей и человеческой культуры от физической среды. Одним из последствий такой постановки вопроса является предположение (ныне большей частью принимаемое в общественнонаучных описаниях окружающей среды), что природу в первую очередь следует рассматривать как нечто устанавливающее пределы тому, чего могут достичь люди. Акцент на абсолютных пределах, как правило, определенных экологической наукой (см.: [29]), перешел из программы немногих мечтателей 1960-х годов в общепринятую повестку дня после Рио*. Так, в нынешних попытках добиться устойчивого развития прежде всего присутствует цель определить способы ограничения человеческой деятельности, так чтобы экономическое и социальное развитие могло протекать в пределах конечных экологических ресурсов планеты. Эта концепция широко распространена в ключевых межправительственных документах (см.: [9; 36]).
* Речь идет о сессии UNCED (Конференции Объединенных Наций по [проблемам] окружающей среды) и развития, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 3-14 июня 1992 г. Конференция приняла «Риоскую Декларацию об окружающей среде и развитии». В ней, в частности подчеркивается важнейшая роль женщин в роль в контроле над окружающей средой и решении проблем устойчивого развития. Конференция приняла также «Программу действий на XXI в.», где много говорится о роли женщин и женских групп, а также тендерного равенства и равенства возможностей для мужчин и женщин.
И все же, вопреки такой программе и несмотря на реальность определенного рода материальности мира, «природы» могут не только ограничивать, но и поощрять человеческую деятельность. В ряде случаев идея «природы» оказалась относительно благотворной и способствовала деятельности, не разрушающей окружающую среду. Например, популярное ныне обращение к «экологии» можно рассматривать не просто как отражение заинтересованности в физическом состоянии окружающей среды, но и как расширение благоприятных возможностей для развития иного базиса общества. В таком случае на «природу» не должно взирать как на что-то, чем надо «овладеть» или что следует покорить, или как на что-то, обязательно находящееся не в ладах с человеческой предприимчивостью. В самом деле, постоянное акцентирование пределов в связи с рядом решений не делать что-то или делать поменьше может внушить убеждение, будто ответственность за состояние среды - это нечто предельно ограничительное и дисциплинарное. В другом месте мы уже проанализировали, каким образом появление программы охраны окружающей среды в английской сельской местности связано с парадоксальным усилением дисциплинарной регуляции ее посещений любителями природы (см.: [27]). Более того, определение пределов в категориях материальных количеств переносит политический центр тяжести на получение обязательств просто ограничить экономическое поведение вместо решения более фундаментальных вопросов о самом отношении между природным и социальным, на которое опирается текущее экономическое поведение. Другими словами, вместо того, чтобы определять сегодняшние «инвайронменталистские знания» как набор параметров социального поведения, социология может поставлять информацию для решения проблем окружающей среды в такой ключевой области, как исследование социальных источников, участвующих в производстве упомянутых знаний, и их вкладов в формирование характера последующих дебатов.
Этот тип социологического исследования начинает приносить плоды в направлении «деконструкции» методик и методологий, которые в настоящее время употребляются при изучении экологической проблематики. Существующая в Ланкастере исследовательская программа включает изучение социологии научных знаний, информирующих о глобальном изменении окружающей среды. Посвященная рассмотрению принципиальных экологических проблем, включая глобальное потепление, кислотные дожди, охрану естественной среды обитания и восприятие экологического риска, эта программа сосредоточилась на культурно зависимом характере разных форм экологических знаний. Первые результаты показывают: то, что считается авторитетным научным знанием, в значительной степени представляет собой продукт активных взаимодействий и переговоров между учеными и политическими деятелями. К примеру, модели глобального изменения климата, центральные в спектре международных политических реакций на угрозы глобального потепления, скрыто опираются на сомнительные предположения о человеческом, институциональном и рыночном поведении.
Вторую область, где социология способна критически и конструктивно заниматься «культурными зависимостями» официальной науки, можно усмотреть в нынешних дебатах о восприятии риска. Например, в докладе «Риск» Королевского научного общества (1992 г.), особенно в пятой главе, дается довольно полное обозрение разных психологических, социальных и культурных подходов к проблеме восприятия риска (см.: [33]). Традиционно роль обществоведа в осмыслении восприятий риска публикой была близка к роли поставщика методик, позволяющих определить, как общество воспринимает риск конкретных опасных технологий при «объективной» оценке реального риска их использования (возможно, первейший пример здесь - ядерные технологии). Но появляется и более четко выраженный социологический подход, который отличается от других методологий (например, экономического анализа затрат и выгод, анализа принятых решений и математического анализа риска), используемых для определения восприятий риска, а также от ценностно-нагруженных суждений, на которые они опираются. Первый вызов ортодоксальным психологическим подходам бросила М. Дуглас (см.: [11; 12; 13]), в расширенном виде ее идеи получили название «культурной теории». В теории Дуглас доказывается, что необходимо определить культурное место индивидуальных восприятий риска в сети социальных и институциональных взаимоотношений, которые накладывают конкретные ограничения и обязательства на социальное поведение индивидов. В социологических понятиях культурная теория предлагает описывать отношение людей к риску через их образ жизни. Однако этот подход, ограничивший рассмотрение культурных процессов Двумя измерениями (в общей сети отношений и в группе), тоже критиковался за чрезмерные эссенциализм и упрощение более сложных оттенков в социальных различиях (см.: [23]). Менее детерминистскую схему для исследования социальных рамок, определяющих восприятие риска, развили Б. Уинн [44; 45; 47] и С. Джазанофф [22]. Они выступают за то, чтобы в расчет принимались более широкие социальные и культурные измерения, выраженные в озабоченности людей проблемой риска. Сосредоточиваясь на предположениях, которые делают эксперты при выборе основания для качественной и количественной оценки риска (по таким переменным как кредит доверия, двойственность и неопределенность в отношениях к риску), Уинн [47] показывает, что оценки экспертов зачастую резко расходятся со взглядами непрофессионалов и что, следовательно, «эксперты» неправильно понимают, как в действительности люди относятся к своей насыщенной риском окружающей среде.
С этим связан вопрос, каким образом более критически настроенная социология может бросить вызов техническим и естественным наукам, демонстрируя, что эти строгие науки сами держатся на каких-то социальных предпосылках, которые в «реальном мире» означают, что предсказания теории лабораторного происхождения не всегда работают в конкретных обстоятельствах этого «реального мира». Этот момент хорошо показан Уинном на примере воздействия осадков из Чернобыля на овцеводство в английском Озерном крае. Он так суммирует свои наблюдения: «Хотя фермеры признали необходимость ограничений, они не смогли принять, что эксперты явно игнорируют особенности их подхода при нормально гибкой и неформальной системе ведения дел в условиях контурного земледелия*. Эксперты полагали, что научное знание можно применять к контурному земледелию, не приспосабливаясь к местным условиям... Эксперты были невеждами в реальных тонкостях фермерства и пренебрегали местным знанием» [46, 45].
* То есть земледелия на склонах холмов.
Вышеупомянутые исследовательские программы указывают на появление новой роли социологии: давать более социально осведомленные и содержательные описания науки и других «авторитетных» источников знания, которые «пишут» теперь для нас экологическую программу. Описывая социальные, человеческие и культурные случайности так называемой объективной науки, социология может помочь не только лучшему пониманию этой программы, но и социально информированной политике, сознающей социальные предпосылки, на которые она опирается.
«Чтение природ» с социологической точки зрения
Начнем с замечания, что социология способна помочь в освещении множества социально разнообразных способов оценки окружающей среды. Что рассматривается и критикуется как противоестественное или экологически вредное в одну эпоху или в одном обществе, не обязательно считается таким в другое время или в другом обществе. Например, ряды стандартных домов, наспех возведенные во время капиталистической индустриализации в Британии XIX в., теперь рассматриваются не как оскорбление для глаз и разрушение визуальной среды, а как традиционные, затейливые и уютные образчики человеческой деятельности, вполне достойные сохранения. Сдвиги в восприятии даже более поразительны в случае с паровозом в Британии, столб дыма которого почти везде считают «естественным». Таким образом, «чтение» и производство природы есть то, чему учатся, и процесс обучения очень сильно варьируется в разных обществах, в разное время и в разных социальных группах одного общества.
Более того, социология может сделать непосредственный вклад в анализ и понимание социальных процессов, породивших определенные проблемы, которые принято считать «экологическими». В отличие от точки зрения наивного реализма, в соответствии с которой экологические проблемы появляются на свет последовательно по мере расширения научных знаний о состоянии среды, социологически ориентированное исследование смотрит на социальный и политический контекст, из которого приходят в мир экологические идеи, и тем самым дает более обоснованную оценку их социального значения.
Социальная и политическая канва современного инвай-ронментализма сложна. Она скрепляется с другими социальными движениями (см.: [17 ; 28]) и с разнообразными глобальными процессами. Так, теоретики отождествили инвайронментализм с новым полем борьбы против «саморазрушительного процесса модернизации» [15], тем связывая инвайронментализм с развивающейся критикой глобально планируемого общества (нечто похожее первоначально отражено в контркультуре 1960-х годов). Р. Гроув-Уайт [18] показывает, что самые понятия, которые ныне составляют ядро экологической программы, были связаны с процессом активного словотворчества в экологических группах 1970-1980-х годов в ответ на относительно более универсальные тревоги современного общества. Приводя конкретные примеры отношения к автострадам, ядерной энергетике, сельскому хозяйству и охране среды, Гроув-Уайт утверждает, что определенные формы экологического протеста были в такой же мере связаны с широко распространенным в обществе ощущением какого-то беспокойства из-за крайне технократизированной и неотзывчивой политической культуры, как и с любыми специальными оценками здоровья физической среды, т. е. того, что находится вне человека. Так что проблема «окружающей среды» осознавалась через ряд тем и политических событий, которые напрямую с нею как таковой и не были связаны.
Шершинский отмечает еще два обстоятельства. Во-первых, увеличился диапазон эмпирических явлений, которые начали считаться экологическими проблемами, а не просто показателями изменения окружающей среды. Так, автострады или атомные станции стали считаться разрушительными нововведениями, а не нормально продолжающимися изменениями, которые были бы в известном смысле «естественной» частью современного проекта (каковой в основном продолжали считать топливную энергетику [35, 4]). И, во-вторых, целый ряд событий оказался связанным воедино, так что их стали рассматривать как часть всеохватывающего экологического кризиса, поразительное число разных проблем которого одновременно считаются и частью самой этой окружающей среды и тем, что ей угрожает (см. также: [32]).
Дополнительно необходимо исследовать те наиболее фундаментальные социальные практики, которые способствовали социальному прочтению физического мира как экологически поврежденного. Существует, например, небольшая специальная работа о значении путешествий, которые в некоторых случаях могут обеспечить людей «культурным капиталом» для сравнения и оценки экологически различных состояний среды и развивать в них чувствительность к проявлениям деградации среды [38]. В ней подчеркивается, что именно недостаток путешествий в том пространстве, что называлось Восточной Европой, отчасти объясняет явную слепоту людей ко многим видам «повреждения» окружающей среды, как мы теперь знаем, очень распространенным во всем этом регионе. К другим социальным явлениям, которые могли бы внести свой вклад в становление экологического сознания, относится появление недоверия к науке и технике, а также сомнения по поводу когда-то принятого на веру значения больших организаций для современных обществ.
Хотя инвайронментализм может выглядеть как движение, большей частью противоречащее основным компонентам эпохи модерна, имеются, однако, такие черты последней, которые способствовали повышению экологической чуткости, особенно в прочтении природы как углубляющейся глобальной проблемы. Так, например, появление мировых институтов вроде ООН и Всемирного банка, глобализация деятельности групп защитников среды обитания таких, как «Всемирный фонд сохранения дикой природы», «Гринпис» и «Друзья Земли», а также развитие глобальных объединений по производству информации - все это помогло ускорить рождение чего-то вроде нового глобального самосознания, в котором процессы изменения окружающей среды все больше осознаются как всемирные и планетарные. Конечно, можно спорить, действительно ли эти процессы глобальнее по масштабам, чем многие прежние экологические кризисы, которые люди были склонны толковать как локальные или национальные. Определение «глобальное» в глобальном изменении окружающей среды - это отчасти политическая и культурная конструкция (см.: [48]).
Итак, мы приняли как данность, что, строго говоря, не существует такой вещи как природа вообще, имеются только «природы». В сравнительно недавнем исследовании Шершинский описывает два ключевых направления, в которых в последние годы предпринимались попытки концептуализировать природу (см.: [35], а также кое-какие данные в: [10]). Во-первых, ныне принято употребление понятия природы для обозначения феномена, которому угрожает опасность. Этот смысл можно усмотреть в панических высказываниях по поводу редких и вымирающих видов, особенно зрелищных и эстетически приятных; в восприятии природы как набора ограниченных ресурсов, которые надо беречь для будущих поколений; в представлении о природе как собрании правовых субъектов, особенно животных, но также и некоторых растений (см.: [7; 31]); и в образе природы как здорового и чистого тела, находящегося под угрозой и страдающего от загрязнения, той самой природы, которая, по словам Р. Карсон, быстро становится «морем канцерогенов» [35, 19-20; 8].
Второй комплекс представлений о природе строится на понятии о ней как об источнике чистоты и моральной силы. Здесь природу толкуют как объект любования, прекрасный и возвышенный; как пространство для отдохновения и вольных скитаний; как возможность возврата из современного общества отчуждения в органическое малое сообщество; и как целостную экосистему, которую надо сохранить во всем ее разнообразии и взаимозависимости, включая, конечно, влиятельную гипотезу «Геи»*[26].
* Гипотеза, в которой Земля рассматривается в качестве более или менее сознательного индивида - Прим. перев.
Эти разные концепции природы частично обеспечили культурную оснастку для развития современного экологического движения; как уже отмечалось выше, они смогли функционировать в этом качестве лишь тогда, когда была открыта «окружающая среда» как таковая. Следует отметить еще, что первоначальная концептуализация многих из этих «природ» проходила в контексте национального государства. Аргументация в пользу консервации, сохранения, восстановления и т. д. строилась на основе национальных ресурсов, которые поддавались планированию и управлению. С другой стороны, современный инвайронментализм должен был «изобрести» цельный земной шар или единую землю, которая вся целиком видится как находящаяся в опасном положении или, иначе, рассматривается через отождествление с природой как некий моральный источник. Наша дальнейшая исследовательская задача состоит в том, чтобы определить, были ли (и в какой мере) условия для появления этого «глобального дискурса» вокруг природы заложены самими модернистскими процессами глобализации, или же все это было скорее результатом чисто мыслительных сдвигов, осуществленных движением интеллектуалов, вырабатывающих идеи и образы, вроде «голубой планеты», которые все более становятся разменной монетой в нашем нынешнем «хозяйстве знаков» (см.: [35, Ch. 1; 24]).
Социология экологического «ущерба»
Третье направление, в котором социология может способствовать пониманию экологических вопросов, - это исследование социальных процессов, которые в настоящее время производят то, что признается обществом вредным для окружающей среды. О многих из этих процессов ныне теоретизируют в социологии, но редко в их экологических аспектах (таких как потребительство, туризм и глобализация). Почти все проблемы «окружающей среды» вытекают из конкретных образцов социального поведения, связанных с доктриной человеческой исключительности и разделением «природы» и «общества».
Потребительство представляет собой особенно существенный социальный феномен. Теперь достаточно хорошо установлено, что в структурной организации современных обществ произошел какой-то сдвиг, в результате чего сильно изменились формы массового производства и массового потребления. Этим мы не хотим сказать ни того, что вся экономическая деятельность когда-то была «фордистской» (большая часть индустрии обслуживания таковой не была), ни того, что сегодня будто бы остаются не очень значительные элементы «фордистского» производства. Однако для нас важны четыре сдвига в структурном значении и характере потребления: огромное расширение спектра доступных ныне товаров и услуг, благодаря существенной интернационализации рынков и вкусов; возросшая семиотизация продуктов, так что знак, фирменная марка, а не потребительская стоимость становится ключевым элементом в потреблении; крушение некоторых «традиционалистских» институтов и структур, почему потребительские вкусы стали более подвижными и открытыми; и возрастание важности образцов потребительского поведения в формировании личности и отсюда некоторый сдвиг от власти производителя ко власти потребителя (см.: [24], а также скептические замечания [40]).
Здесь вполне уместны рассуждения 3. Баумана. Он утверждает, что «в сегодняшнем обществе потребительское поведение (свобода потребителя, приспособившаяся к потребительскому рынку) настойчиво стремится занять положение одновременно познавательного и морального средоточия жизни, стать объединительной скрепой общества... Другими словами, занять такое же положение, какое в прошлом, на протяжении фазы модерна в капиталистическом обществе, занимал труд» [3, 49].
При этом начинает господствовать принцип удовольствия как таковой. Поиски удовольствия превращаются в долг, поскольку потребление товаров и услуг становится структурной основой западных обществ. И потому в процессе социальной интеграции меньше используются принципы нормализации, ограничения и дисциплинарной власти, описанные Фуко, да, впрочем и самим Бауманом для случая массового истребления евреев [2]. Вместо этого интеграция осуществляется путем «соблазнения»* на рынке, через смесь ощущений и чувств, порождаемых созерцанием, осязанием, слушанием, пробованием, обонянием и самим движением сквозь все то необыкновенное разнообразие товаров и услуг, мест и сред, которое характеризует современное потребительство, организованное вокруг особой «культуры природы» (см.: [43]). Это современное потребительство благополучных двух третей населения в главных западных странах порождает стремительно меняющийся огромный спрос на различные продукты, услуги и места. Современные рынки живут на переменах, разнообразии и расхождениях во вкусах, на подрыве традиций и единообразия, на предложении продуктов, услуг и мест, выходящих из моды почти так же скоро, как они входят в моду.
* Возможно, это намек на известную книгу Ж. Бодрияра - Прим. перев.
Мало причин сомневаться, что эти образцы современного потребительства имеют губительные последствия для окружающей среды. Они выражаются в дырах в озоновом слое планеты, глобальном потеплении, кислотных дождях, катастрофах на атомных станциях и омертвению многих местных зон обитания. В своих крайних проявлениях потребительство может повлечь получение или закупку новых частей для человеческого тела - процесс, который подрывает ясный смысл различения естественной телесной внутренней среды, противопоставляемой несродной телу внешней среде (см.: [34]).
Такое западное потребительство, где «природа оказывается превращенной в простые поделки для потребительского выбора» [34, 197], вызвало обширную критику со стороны экологического движения, а она в свою очередь видится как часть еще более широкой критики всей эпохи «модерна» . Но следующий заключенный здесь парадокс состоит в том, что само развитие потребительства способствовало появлению сегодняшней критики, живописующей деградацию окружающей среды, и особой культурной сосредоточенности на «природе». Весь инвайронментализм можно представить как предварение определенного рода потребительства, на том основании, что одним из элементов потребления является усиленное размышление о разных местах и средах, товарах и услугах, «потребляемых» буквально благодаря нежданным социальным встречам с ними, или визуальное знакомство (см.: [38]). По мере того как люди размышляют о таком потреблении, у них развиваются не только обязанность потреблять, но также и определенные права, включая права гражданина как потребителя. Эти права включают уверенность в том, что люди имеют право на определенные качества окружающей среды, воздуха, воды, звукового фона и пейзажа, и что это право в будущем должно распространяться и на все другие (незападные) народы. В современных западных обществах начался сдвиг центра тяжести в самом основании идеи гражданства: от политических прав к правам потребителя, а внутри последних - к экологическим правам, особенно связанным с концепциями природы как зрелища и места отдохновения. Некоторые из этих прав также начинают рассматриваться как международные, поскольку с развитием массового туризма западные люди во все большей степени становятся потребителями окружающих сред вне своей национальной территории и как таковые развивают систематические ожидания соответствующего качества этих сред.
Однако процессы интенсификации, связанные с това-ризацией почти всех элементов общественной жизни, породили и соответствующую интенсификацию нерыночных форм поведения и социальных отношений. Строительство отношений на побуждениях, возможно, более человечных в «классическом» понимании (как у людей, пытающихся вести относительно альтруистическую, неэгоистическую жизнь и действующих по образцам солидаристского, взаимозависимого, нерыночного поведения), приводит к появлению множества напряжений между конфликтующими рациональностями - рыночной и нерыночной. И действительно, в своих крайностях социальная критика потребительски ориентированного общества направлена к новым формам социальной организации (противопоставляемым организации вышеописанных потребительски ориентированных групп), чья сущность выявляется в открытом сопротивлении потребительским принципам. Эти новые социальные движения (типа «Саботажников охоты», «За права животных», «Спасем Землю» и других групп прямого действия), часто возникавшие как ответ на ощущение угрозы экологических злоупотреблений и вытесняемые из леги-тимной сферы государственно регулируемого, потребительски ориентированного действия, ныне испытывают более откровенные притеснения (очень показательный пример этого процесса - предлагаемая реформа уголовного судопроизводства в Англии, специально метящая в эти «проблемные» группы). Поэтому будущей темой исследования становится то, что можно назвать «экологическим отклоняющимся поведением».
Инвайронментализм и общество
Этот последний раздел посвящен вопросу, как может социология помочь пониманию роли экологической программы в структурном формировании и культурном преобразовании современного общества.
Одна из областей, популярных в нынешнем социологическом теоретизировании (особенно после перевода на английский книги У. Бекка «Общество риска» ([5]), - это споры о текущем состоянии постмодернистского общества (или общества позднего модерна) и о культурных последствиях новых форм рефлексивности. Э. Гидденс, к примеру, доказывает, что в эпоху модерна рефлексивность состояла из социальных практик, постоянно проверявшихся и пересматривавшихся в свете информации, поступавшей от самих этих практик, и таким образом изменяла их строение. По его мнению, только в это время распространяется ревизия культурных условностей, радикализированная до приложения (в принципе) ко всем сторонам человеческой жизни, включая технологическое вмешательство в материальный мир*.
* Авторы имеют в виду книгу: GiddensA. Modernity and Self-Identifity. Cambridge: Polity Press, 1991.
Такая рефлексивность направляет методы западной науки, этого истинного воплощения модерна, которая, однако, в качестве деятельности не более легитимна, чем многие другие виды социальной деятельности, каждый из которых включает разные формы самооправдания. Науке не приписывают теперь обязательно цивилизующую, прогрессивную и освободительную роль в открытии того, что есть природа. Во многих случаях наука и связанные с нею технологии рассматриваются сегодня как проблема, а не решение. Особенно это относится к ситуации, где мы фактически имеем дело с масштабными и неконтролируемыми научными экспериментами, лабораторией для которых служит весь земной шар или значительная часть его (как при накоплении ядовитых отходов, использовании химических удобрений, атомной энергии и т. д.). В обществе риска наука выглядит производителем большинства видов риска, хотя они по большей части не воспринимаются нашими чувствами.
Утрата всей наукой «автоматического» общественного авторитета ослабляет и легитимность экологических (и медицинских) «наук». Само признание риска зависит от таких наук по причине «нарастающего бессилия органов чувств» как, например, в случае химического и радиоактивного загрязнения (см.: [4, 156; 14]). В свою очередь это оборачивается проблемой для зеленого движения, поскольку такого рода науки по необходимости оказываются в центре многих кампаний, проводимых экологическими неправительственными организациями, даже если они до сих пор сохраняют склонность использовать здесь науку в тактических целях, возможно, чисто инстинктивно упирая на неопределенность и нежесткость, присущие многим частным наукам (см.: [50]). Недавно Б. Уинн и С. Майер доказывали необходимость более взвешенного и морально защитимого применения науки в формировании и внедрении в жизнь экологической политики [49]. Социология в состоянии продвигать этот спор дальше, изучая вопрос о возможном облике некой более рассудительной «зеленой» науки. Вышеназванные движения предоставляют хорошие возможности для социологического исследования новых форм социального уклада и структуры, вырастающих из реакций общества на инвайронментализм. В дальнейшей разработке нуждается одна из линий аргументации, где вышеупомянутые процессы толкуются как симптомы более широкого культурного процесса индивидуализации и детрадицио-нализации (см.: [5; 6; 21; 24; 39]). Утверждают, что подобные процессы ведут к появлению менее институционали-зированных форм самосознания и социального уклада. Такие институты как наука, церковь, монархия, нуклеарная семья и формальные правительственные структуры, похоже, теряют легитимацию (появление мозгового центра DEMOS - одно из проявлений этого процесса) и все более видятся как часть проблемы, а не найденное решение, ведущее к новым, более свободным формам общественного уклада, включая развитие новых социальных движений или, как мы предпочитаем говорить, «новых социаций»* (см.: [39]). Фактически появление новой сферы политического в форме нежестких, непартийных и самоорганизующихся содружеств и ассоциаций, часто в форме групп самопомощи, коммунальных групп и добровольных организаций, связано с тем, что Бекк описал как новую динамику «субполитизации», в силу которой государство сталкивается со все более разнородным и разнонаправленным множеством групп и социаций меньшинств [6].
* Учитывая, что словом «sociation» в английском языке традиционно передается зиммелевское «Vergesellschaftung», можно говорить здесь о «новых обобществлениях».
Уже имеется ряд характеристик таких социаций [20; 39]. Во-первых, они не похожи на традиционные объединения общинного типа, поскольку люди соединяются в них по собственному выбору и свободны покинуть их в любое время. Во-вторых, люди дорожат членством в них отчасти из-за эмоционального удовлетворения, которое они извлекают из общности целей или общих социальных переживаний. И, в-третьих, поскольку членство зависит от выбора, то состав таких социаций будет обновляться стремительно. Эти характеристики наилучшим образом определяют социаций в качестве современных экспериментальных площадок, где можно опробировать новые виды социальной идентичности. Подобные социаций предоставляют людям определенные возможности, обеспечивая относительно безопасные места для проверки их самоопределения (идентификации) и подходящий контекст для приобретения новых умений. Такие новые детрадиционализированные социаций можно классифицировать по степени децентрализации власти, ее удаленности от центра, по степени формальной спецификации организационной структуры, по степени и формам участия в общественной жизни на местном уровне, по типам действия, возникшим благодаря членству в социаций, и по степени осмысленности членства в организации. Необходимо особое исследование, чтобы понять значение этого нового стиля социальной организации, понять степень его вклада в новые политические реальности и последствия для теперешнего изучения инвайронментализма как нового социального движения. Появление новых социаций вокруг проблем окружающей среды говорит о том, что развиваются особые формы социальной идентичности, которые подразумевают прорыв за пределы относительно изолированных сфер общества и природы и своеобразное восстановление гражданского общества [21, Ch. 7] (о чем свидетельствуют массовые наблюдения за процессами «позеленения» людей).
Существуют интересные связи между такими новыми социациями и обсуждавшимся нами раньше восприятием кризиса окружающей среды как глобального. Данные о «глобальном» или холистском воззрении на природу можно найти в массе межправительственных и правительственных договоров, конвенций и документов, ставших результатом нынешней сосредоточенности на проблеме поддержания ее жизнеспособности* (доклад Брундтланд говорит о «нашем общем будущем» отчасти именно из-за глобального характера определенных угроз природе, начиная с «ядерной» угрозы). Формированию такого восприятия помогло развитие глобальных средств массовой информации, которое породило «воображаемое сообщество»** всех обществ, живущих на единой Земле (отсюда «Друзья Земли»). Однако наряду с массой глобалистских процессов существует и новый набор интересов, касающихся культурно определенных локальных сред. Диапазон этих местных интересов, вокруг которых возможна мобилизация людей, необычайно широк. Если брать примеры из Северной Англии, то это и усилия по консервации шлаковых отвалов в Ланкашире, и кампания с целью запретить разметку желтыми линиями на некоторых дорогах в Баттершире, и сильное сопротивление восстановлению на том же месте сгоревшего рынка в Ланкастере.
* Примеры важнейших стратегических межправительственных документов по проблеме жизнеспособности, которые помогли сформировать и внедрить идею «глобальной» природы, включают «Стратегию консервации мира» (1980), доклад Г. X. Брунтланд «Наше общее будущее» (ООН, 1987), «Программу, инспирированную Всемирным фондом сохранения дикой природы» на сессии UNCED в Рио и пятую программу действий Европейского Сообщества по сохранению среды и поддержанию устойчивого развития.
** Термин взят из названия знаменитой книги: Anderson В. Imagined Communities. L.: Verso, 1983.
Следовательно, в наличии имеется множество экологических идентификаций, локальных и глобальных, рационалистических и эмоциональных, ориентированных пейзажи -стски-созерцательно и утилитарно, и т. д. (более подробно см.: [35]). В обществах постмодерна эти множественные сознания, по-видимому, и дальше будут становиться все более заметными. Поэтому нам нужно развивать социологию, которая изучает этот феномен явно возрастающей значимости «экологических идентичностей» в современных обществах, идентичностей, которые часто несут с собой сложный узел взаимопереплетающихся глобальных и местных интересов. Статистическим доказательством важности этих самосознаний может служить огромное увеличение численности почти всех экологических организаций в 1980-1990-х годах*.
* На конец 1993 г. наиболее признанные экологические организации продолжают расти при уже очень большом числе своих членов. Тогда в Англии «Гринпис» поддерживали 390 тыс. человек, «Друзья Земли» насчитывали 230 тысяч членов, «Национальное доверие» - свыше 2 млн. 200 тыс., «Королевское общество охраны птиц» - свыше 850 тыс. и «Королевское общество охраны природы» - свыше 250 тыс. человек.
Заключение
Итак, мы изложили некоторые задачи социологического подхода к проблеме окружающей среды. Он вырисовывается как долгая и сложная программа исследований, которая охватывает вопросы политической экономии, государства, гендера, науки, культуры, времени, новых социальных движений, проблему «другого» - т. е. фактически все темы, интенсивно изучаемые ныне социологией. Эта экологическая программа предоставляет социологии благоприятную возможность распутать сложные образцы поведения, развивающиеся из сегодняшних реакций на «природу» и на удовлетворительность или неудовлетворительность официальных «авторитетных» отчетов и политических программ.
Пересмотр вопроса о природе по-особому освещает также темы времени и пространства, которые с недавних пор обильно проникают в повестку дня социологии. Б. Адам очень интересно показала, насколько неубедительно обычное в социологии различение природного и социального времени. В этой науке стало общим местом, что социальное время включает изменение, прогресс и упадок, тогда как природные явления мыслимы и вне времени, и с привлечением концепции обратимого времени [1]. Адам доказывает, что указанное различение ныне нельзя удержать, поскольку почти вся наука XX в. выявила, что «природа» тоже описывается понятиями изменения и упадка: «Прошлое, настоящее и будущее время, историческое время, качественное переживание времени... - все эти характеристики времени признаны неотъемлемыми элементами в содержании естественных наук и часового времени, в понятиях инвариантной меры, замкнутого круга, совершенной симметрии и обратимого времени как творений нашего ума» [1, 150].
Общественные науки оперировали концепцией времени, не соответствующей подлинной концепции естествознания - неким почти «обезвремененным» временем. Нововведения науки XX в. сделали различение природного и социального времени несостоятельным и снова привели нас к заключению, что простого и жизнеспособного разграничения между природой и обществом не существует. Они неизбежно переплетены между собой. Поэтому мы имеем много разных времен (как фактически и много разных пространств) и нельзя точно определить социальное время, отдельное от времени природного.
Сказанное связано с нашим более общим замыслом - продемонстрировать разнообразие «природ». М. Стратерн указывает на один существенный парадокс в современных теоретических разработках [34]. Ясно, что с эмпирической точки зрения в них присутствует преувеличенная сосредоточенность на важности «природы», на оценивании «природного», на образах «природного» и на «сохранении природы». Но, как замечает Стратерн, эти преувеличения глубоко опосредованны культурой. Другими словами, культура необходима, чтобы спасать природу. Он указывает на своеобразный «концептуальный коллапс при проведении различий между природой и культурой, когда Природа не может выжить без вмешательства Культуры» [34, 174]. А если так, то остается ли какое-нибудь место «природе», когда она нуждается в культуре для своего, так сказать, воспитания? В прошлом вся сила «природы» заключалась в способе, каким фактически скрывалось от людских глаз ее культурное строение (см.: [25]). Но в современном мире неуверенности и двойственных отношений во всем этого больше недостаточно. И главной задачей общественных наук должна стать расшифровка социальных последствий того, что было всегда, а именно, природы, сложно переплетенной и основательно связанной с социальным.
Однако следует также отметить, что теперь эта природа меньше привязана к отдельным национальным обществам, к национальной «общности судьбы» и гораздо более взаимосвязана с тремя другими концепциями социального: глобального, включающего информационные и коммуникативные структуры; локального; и учитывающего сложные многообразия идентичностей в отношении природы и времени (см. более подробно: [2, Ch. 11]). Расшифровка этих взаимосвязей обещает нам богатую и трудоемкую исследовательскую программу, которая, возможно, выведет социологию с обочины в спорах о «природе».
ЛИТЕРАТУРА
1.Adam B. Time and social theory. Cambridge: Polity, 1990.
2.Bauman Z. Modernity and the holocaust. Cambridge: Polity, 1989.
3.Bauman Z. Intimations of postmodernity. L.: Routledge, 1992.
4.Beck U. An anthropological shock: Chernobyl and the contours of the risk society // Berkeley Journal of Sociology. 1987. Vol. 32. P. 153-165.
5.Beck U. Risk society: towards a new modernity / Trans. by M. Ritter. L: Sage, 1992.
6.Beck U. Individualisation and the transformation of politics // Conference paper. De-traditionalisation: Authority and Self in an age of cultural uncertainty. Lancaster Universoty. Lancaster, 1993.
7.Benton T. Natural relations. L.: Verso, 1993.
8.Carson R. Silent spring. Harmondsworth: Penguin, 1965.
9.Commission of the European Communities. Fifth Environmental Action Programme for the Environment and Sustainable Development. Brussels: CEC, 1992.
10.Dickens P. Society and nature. Hemel Hempstead: Harvester Wheat-sheaf, 1992.
11.Douglas M. Risk acceptability according to the social sciences. N.Y.: Russel Sage Foundation, 1985.
12.Douglas M. Risk as a forensic resource // Daedalus. 1990. Vol. 119. P. 1-16.
13.Douglas M. Risk and blame. L.: Routledge, 1992.
14.Douglas M., Wildavski A. Risk and culture: an essay on the selection of technological and environmental dangers. Berkeley: University of California Press, 1982.
15.Eder K. Rise of counter-culture movements against modernity: Nature as a new field of class struggle // Theory, Culture and Society. 1990. Vol. 17. P. 21-47.
16.ESRC. Global Environmental Change Programme. L.: ESRC, 1990.
17.Eyerman R., Jamison A. Social movements: a cognitive approach. Cambridge: Polity, 1991.
18.Grove-MTiite R. The emerging shape of environment conflict in the 1990’s // Royal Society of Arts. 1991. Vol. 139. P. 437-447.
19.Grove-White R., Szerszynski B. Getting behind environmental ethics // Environmental Ethics. 1992. Vol. 1. P. 285-296.
20.Hetherington К. The geography of the other: lifestyle, performance and identity. Ph. D. Dept of sociology. Lancaster University. Lancaster, 1993.
21.Jacques M. The end of politics // Sunday Times: The culture supplement. L, 1993.
22.Jasanoff S. Contested boundaries in policy-relevant science // Social Studies of Science. 1987. Vol. 17. P. 195-230.
23.Johnson B. The environmentalist movement and grid/group analysis: a modest critique // The social and cultural construction of risk / Ed. by B. B. J. and V. T. Covello. Dordrecht: Reidel, 1987.
24.Lash S., Urry J. Economics of signs and space. L.: Sage, 1994.
25.Latour B. We have never been modern / Transl. by C. Porter. Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, 1993.
26.Lovelock J. The ages of Gaia: a biography of our living earth. Oxford: Oxford University Press, 1988.
27.Macnaghten P. M. English landscapes of discipline and transgression / Unpublished paper. CSEC. Lancaster University, 1994.
28.Melticci A. Nomads of the present: social movements and individual needs in contemporary society. L.: Radius, 1989.
29.Newby H. Ecology, amenity and society: social science and environmental change // Town Planning Review. Vol. 61. P. 3-20.
30.Newby H. Global environmental change and the social sciences: retrospect and prospect / Unpublished. 1993.
31.Plumwood V. Feminism and the mastery of nature. L.: Routledge, 1993.
32.Porritt J. Seeing green: the politics of ecology explained. Oxford: Black-well, 1984.
33.Rubin C. Environmental policy and environmental thought: Ruckel-shaus and Commoner // Environmental Ethics. 1989. Vol. 11. P. 27-51.
34.The Royal Society. Risk: analysis, perception, management. L.: The Royal Society, 1992.
35.StrathernM. After nature: English kinship in the late twentieth century. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
36.Szerzynski B. Uncommon ground: moral discourse. Foundamentalism and the environmental movement. Ph.D. Dept of Sociology. Lancaster University. Lancaster, 1993.
37.UNCED. Our common future, UNCED. Switzerland: Conches, 1987.
38.UNCED. Agenda 21. UNCED. Switzerland: Conches, 1992.
39.Urry J. The tourist gase and the «Environment» // Theory, culture and society. 1992. Vol. 9. P. 1-22.
40.Urry J. Social identity, leisure and the countryside // Leisure uses of the countryside / Ed. by R. Grove-White, J. Darrall, P. M. Machaghten, G. Clark, J. Urry. L.: CPRE, 1993.
41.Warde A. Consumers, identity and belonging; reflections on some theses of Zygmunt Bauman // The authority if the consumer / Ed. by R. Keat, N. Whi-teley, N. Abercrombie. L.: Routledge, 1994.
42.Williams R. Ideas of neture // Ecology, the shaping of enquiry / Ed. by J. Rental!. L.: Longman, 1972.
1.Социология природы 291
43.Williams R. Keywords: A vocabulary of culture and society. L.: Fontana, 1976.
44.Wilson A. The culture of nature: North American landscape from Disney to the Exxon Valdez. Cambridge MA: Blackwell, 1992.
45.Wynne B. Rationality and ritual: The windscape inquiry and nuclear decisions in Britain. Chalfont St Giles: British Society for the History of Science, 1982.
46.Wynne B. Understanding public risk perceptions // Environmental threats: Perception, analysis and management / Ed. by J. Brown. L.: Belhaven, 1989.
47.Wynne B. After Chernobyl: Science made too simple // New Scientist. 1991. 1753. P. 44-46.
48.Wynne B. Risk and social learning: Reification to engagement // Theories of risk / Ed. by S. K. and D. Golding.
49.Wynne B. Scientific knowledge and the global environment // Social theory and the global environment / Ed. by E. Benton, M. Redclift. L.: Rout-ledge, 1994.
50.Wynne В., Meyer S. How scienece fails the environment // New Scientist. 1993. 1876. P. 33-35.
51.Yearley S. The green case. L.: Harper Collins, 1991.
Гай Оукс ПРЯМОЙ РАЗГОВОР ОБ ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ ТЕОРИИ*
Сплошь эксцентричное
Для постмодернистского движения на нынешней стадии его эволюции более всего характерно культивирование необычных форм интеллектуализма. Один из наиболее колоритных и свежих продуктов его развития - это «эксцентричная теория», недавно воспетая в дискуссии на страницах журнала «Sociological Theory»[22]**.
* Oakes G. Straight thinking about queer theory.
** Благодарю Бердетт Гарднер за замечания к первому варианту данной статьи.
Социальные теории всегда паразитировали на философии. Об их зависимости от влиятельных направлений академической философии соответствующей эпохи свидетельствует, например, тот факт, что Маркс многим обязан Гегелю, а неокантианское движение оказало сильное влияние на Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма и М. Вебера. Следует также упомянуть взаимоотношения американского прагматизма и Чикагской социологической школы, попытки в рамках ведущих направлений социальной теории удовлетворить суровым требованиям логического позитивизма, а также связи между критической социальной теорией и европейской неомарксистской философией. Эксцентричная теория - продукт вульгаризации совсем недавнего европейского (преимущественно французского) постфилософского критицизма, в основном, произведенный американскими академическими защитниками антигетеросексуальной (т. е. противниками разнополой) политики в самоопределении, или идентификации индивида*.
Эксцентричные теоретики изображают свой проект как сознательную и бескомпромиссную программу теоретической критики, или трансгрессии**. С пылом молодого Маркса лево гегельянского периода эксцентричная теория проповедует беспощадную критику всего существующего. «Эксцентричность, - говорят нам, - это всеобъемлющая идентичность, которая бросает вызов и сопротивляется окостенению частных определений человеческой индивидуальности и категорий познания» [11, 243], а эксцентричная теория подразумевает «теоретическую чувствительность к проблематике трансгрессии или вечного мятежа» [17, 173]. Цель эксцентричной теории - предпринять «массированное нарушение границ всех условных категорий познания и способов анализа» [19, 182]. «Переступательный» порыв эксцентричной теории с особой страстью обрушивается на принятую таксономию сексуальности, строящуюся вокруг противоположения гетеро- и гомосексуального - полярности, само существование которой эксцентричные теоретики приписывают нахальной самонадеянности XIX в. Отсюда их обязательства «расстроить гетеросексуальную гегемонию», «сдвигая с привычного места гетерооексуальность, гомосексуальность и отношения между ними» [15, 230].
* Участники симпозиума, кажется, особенно благосклонны к следующим авторам: [2; 14; 3; 10; 13]. Лайза Дагген характеризует Седжуик - весело, но также и совершенно серьезно - как «Джуди Гарленд» гомосексуальных исследований (см.: [4, 24]).
** В данном случае «трансгрессию» можно истолковать как «систематическое переступание границ». - Прим. перев.
Оспаривая устойчивые на вид категории, эксцентричные теоретики применяют свое оружие не только против господствующей гетеросексуальности, но и против лесби-янства и мужской гомосексуальности. Фактически эксцентричная теория нападает на существующий «режим сексуальности как таковой» [17, 174]. Ее приверженцы утверждают, что конечный принцип, на который этот режим опирается, - это исчерпывающая бинарная оппозиция гомосексуальности и гетеросексуальности. И потому в итоге и универсализация эксцентричности», и построение эксцентричной теории зависят от того, удастся ли оспорить предположение, что эта дихотомия дает достаточное основание для объяснения сексуальности.
Вероятно из-за иконоборческого рвения эксцентричных теоретиков, горячо убежденных в своей причастности к героическому штурму цитадели гетеросексуальности, у них возникают фантазии, свойственные герметическим сектам посвященных: иллюзии относительно своей оригинальности и отваги - будто бы ими сказано новое слово, которого никто прежде не произносил, и раскрыто нечто остающееся скрытым от непосвященных. Эту веру в теоретическую оригинальность эксцентричного воображения можно поддерживать, только практикуя подозрительные «умолчания» о классических социологических подходах к анализу модерна. По-видимому, эксцентрическим теоретикам понадобится еще и обвинять авторов таких подходов в невежестве или предрассудках, помешавших им адекватно исследовать, как сформировалась современная концептуализация и организация сексуальности, где аналитики приписывают привилегированный статус собственному биологическому (sex) и социокультурному (gender) полу. Заявления, будто социологические классики молчат о поле и тендере, будто они «никогда не рассматривали социальное формирование современного порядка регуляции тела и сексуальности» [17, 167], безусловно ложны. Например, Георг Зиммель, ни разу не упомянутый ни участниками симпозиума, ни их излюбленными авторами, пространно, систематически и на протяжении всей карьеры писал о немецком женском движении своего времени, социальном производстве альтернативных кодов и концепций женственности, мужественности и эротизма, а также о теориях формирования половой идентичности, называемых теперь «эссенциализмом» и «конструктивизмом» (см. следующие работы Зиммеля [20]*).
* Некоторые из этих материалов стали доступны десять лет назад на английском языке (ел.: [21]).
Абсолютной убежденностью в правоте воображаемого этически просвещенного авангарда, атакующего морально обанкротившуюся ортодоксию, можно объяснить и курьезную предрасположенность эксцентричных теоретиков хвалить друг друга за «смелость» [17, 174; 9, 203; 13, IX- X], судя по всему - без малейшей иронии. Эксцентричные теоретики вращаются в кругу самых престижных американских институтов высшего образования, включая Ам-херст, Корнелл, Дьюк, университеты Джонса Хопкинса и Уэсли, Принстон и Йель. Их исследования публикуют ведущие журналы и академические издания и поддерживают такие организации, как «Американский совет научных обществ», «Институт высших исследований» и «Фонд Гуг-генхейма». Вероятно эти триумфы в устройстве карьеры должны оставлять всех не столь щедро взысканных институционной благодатью с открытым ртом от восхищения, удивления и зависти. Несмотря на приличные ассигнования на преподавание, интерес студентов, поощрительное отношение коллег и щедрое финансирование отпусков на разные внеучебные путешествия и исследования, эксцентричные теоретики упорно подчеркивают «риск», которому они подвергаются. Такое нагнетание псевдоопасностей, видимо, только и возможно на почве экстравагантного этического нарциссизма или колоссального самообмана.
Философский молот, которым размахивает эксцентричная теория, угрожая деструкцией принятым сексуальным таксономиям, - это радикальное истолкование доктрины социального конструктивизма. Оно заключается в том, что социальная реальность не является неким ансамблем объектов, существующих независимо от человеческих намерений, целей и интересов. Социальный мир надо понимать как артефакт, сконструированный или конституированный в процессе дискурсов и практик, продуцирующих социальные категории и таксономии. Поскольку социальные категории суть продукты человеческой деятельности, их можно считать просто «изобретениями». Социальные категории всегда искусствены и ни одна из них не обладает привилегией на окончательную «подлинность» или общезначимость. Все они контингентны*, произвольны, подвижны и неустойчивы, «постоянно открыты и оспоримы». Фактически нам говорят, что дестабилизация социальных категорий влечет за собой не только их произвольность и текучесть, но и их внутреннюю несовместимость, взаимопротиворечивость. Так как выбор среди социальных категорий нельзя обосновать логически или эмпирически, он Должен быть понят как «прагматическое» решение, основанное на соображениях «ситуационного преимущества, политического выигрыша и концептуальной полезности» [17, 173; 11, 241, 243]**.
* То есть способны быть замененными и другими. - Прим. перев.
** О роли социального конструктивизма в эксцентричной теории см.: [7; 8; 12]. Стивен Эпстайн, один из участников симпозиума, организованного журналом «Sociological Theory», утверждает в другом месте: «Поскольку существует логически когерентный теоретический взгляд на гомосексуальность именно как на гомосексуальность, он превращается в конструктивизм» (см.: [6, 13п]). О радикализации коструктивистской концепции социальной реальности см.: [16].
Если же «все культуры исторически контингентны и придуманы» и если социальный мир с определяющими его категориями пребывает в вечном движении, тогда то же самое должно быть верным и для сексуальных категорий и таксономии. Поэтому дестабилизация социального знания вдобавок ко всему прочему «проблематизирует гетеросексуальную точку отсчета», подвергая сомнению и ге-теросексуальность как всеобщую норму, и общезначимость дихотомии гетеросексуальное/гомосексуальное [19, 185; 11,241].
Вопреки навязчивым повторам своих утверждений об искусственности, контингентности и нестабильности социальных категорий, эксцентричные теоретики настаивают на уникальном концептуальном статусе сексуальности и наивысшей важности пола как главного ключа к социальной идентичности. Даже если «все культуры конструируются» и значения устанавливаются как результат «вечных притирок» социальных категорий друг к другу, «сексуальность и культура и далее будут центральными социальными темами». Отсюда следует, что категория сексуальности удержится «на переднем плане социальной теории» [11, 245].
Нижеследующий анализ сосредоточен на нескольких догматах эксцентричной теории: доктрине радикального конструктивизма; концепции социальной идентичности; принципе трансгрессии и эксцентричной концепции культуры.
Парадоксы радикального конструктивизма
Эксцентричная теория утверждает, что все социальные категории и концептуальные схемы суть социальные конструкты, произвольные измышления, не имеющие никакой обязывающей достоверности. Разумеется, радикальным конструктивизмом можно назвать также и концептуальную схему, придуманную социальными теоретиками, которые отвергают эмпирицистскую и реалистскую эпистемо-логию. Но если радикальный конструктивизм признает лишь чистые социальные конструкты, он не может притязать на какую-либо общезначимость. А это значит, что нет разумных оснований для предпочтения радикального конт-руктивизма любым другим способам анализа социальной реальности, включая и те, с которыми он несовместим. Радикальный конструктивизм, этот философский молот эксцентричной теории, рассыпается в пыль при попытке им воспользоваться.
Своим радикальным конструктивизмом эксцентричные теоретики намерены подорвать легитимность определенных «гегемонистских» категорий и дихотомий (вроде гете-росексуальности и бинарной оппозиции «гетеросексуальное/гомосексуальное»), попросту доказав, что они являются социальными конструктами. Но похоже, что эти теоретики недооценивают саморазрушительную силу собственной аргументации. По той же логике, наряду со всеми прочими социальными конструктами, лишается всякой достоверности и сам радикальный конструктивизм. Положение эксцентричной теории здесь безвыходное. Из посылок радикального конструктивизма следует, что он сам всего лишь социальный конструкт, после чего рушится его общезначимость и база эксцентричной теории.
Радикальный конструктивизм порождает также бесконечный регресс. Он предполагает, что данная социальная категория, например «гетеросексуальность», социально сконструирована из определенных практик и дискурсов. Эти практики и дискурсы, в свою очередь, социально сконструированы из других практик и дискурсов, которые сами сконструированы и т. д. Гетеросексуальность, практики и дискурсы, на которые она опирается, а также более отдаленные практики и дискурсы как основа первых - все это разоблачается как произвольные изобретения простым указанием на их социальную сконструированность. В принципе эта цепь доказательств бесконечна. Она либо уводит в дурную бесконечность, подрывая в этом попятном движении значимость каждой очередной категории, либо произвольно обрывает его, приписывая некую несоциально обусловленную значимость особо предпочитаемой категории, которая становится эпистемологическим неподвижным двигателем. Однако такое произвольное решение несовместимо с радикальным конструктивизмом. Вышеупомянутый регресс фатален для него, ибо и этот способ рассуждения не может уйти от судьбы любой другой концептуальной схемы. Он построен из социальных практик и дискурсов, которые также построены из других социальных практик и дискурсов, имеющих тот же гносеологический статус. Регресс к какой-то общезначимой практике или дискурсу, которые смогли бы обеспечить достаточную обоснованность радикальному конструктивизму, не может иметь успеха, так как, согласно самой же этой доктрине, такой практики или дискурса не существует. Поэтому радикальный конструктивизм может избежать подобного регресса и провозгласить свою общезначимость (тем самым отделяя себя от всех других концептуальных схем и освобождая себя от последствий собственных посылок), только если он решится противоречить самому себе. Выход не слишком удачный. Радикальный социальный конструктивизм либо порождает бесконечный регресс, отрицающий его притязания на общезначимость, либо, дабы пресечь эту нескончаемую редукцию, соглашается на противоречие самому себе.
Наконец, радикальный конструктивизм рефлексивно наносит удар по собственным притязаниям не только на общезначимость, но и на простую понятность. Если значимость всех социальных категорий подрывается указанием на то, что они социально сконструированы, то это распространяется и на категории, существенные для описаний строения общества, такие как понятия социального действия, социального смысла и социальных отношений. Если эти понятия лишить значимости, то понятие общества нельзя будет даже членораздельно выразить. В таком случае радикальный конструктивизм, который возможен лишь на базе какого-то понятия общества, недоступен разумному пониманию. В результате эта доктрина подрывает собственную логическую согласованность.
Парадоксы эксцентричной теории
Эксцентричные теоретики описывают свой проект на объективистском языке эпистемологического реализма, пытаясь тем самым охранить эксцентричную теорию от разрушительных следствии радикального конструктивизма. С одной стороны, эксцентричная теория проявляет особое нерасположение к бинарным оппозициям и, по-видимому, осуждает их все скопом, отдавая на расправу неумолимой логике радикального конструктивизма. С другой стороны, очевидно, что эксцентричная теория, в свою очередь, возможна лишь на базе оппозиций «эксцентричное/прямое» или «эксцентричное/ конвенциональное». Без этих или равноценных дихотомий эксцентричная теория не имела бы никакой опоры, чтобы начать свою атаку против общепринятой мудрости, и никаких позиций, с которых можно критиковать условные категории и переступать правила. Без какого-то эпистемологически привилегированного различения, на основе которого формируется понятие эксцентричности, соответствующая теория была бы невозможна [3, XV-XIX]. Эта теория вынуждена оберегать «универсализм эксцентричности» и предпосылки, на которые он опирается (включая центральное теоретическое положение категории сексуальности), от понятийного опустошения, производимого радикальным конструктивизмом. Короче говоря, эксцентричная теория проявляет пламенный энтузиазм, характеризуя на языке радикального конструктивизма все позиции, кроме одной. И эта одна позиция, конечно, та, которую она занимает сама.
Переиначив остроту Шопенгауэра, скажем, что радикальный конструктивизм - это не такси, из которого каждый может выйти, когда заблагорассудится. Цена, которую эксцентричная теория платит за свое освобождение из-под власти радикального конструктивизма, - непоследовательность. Из-за этой внутренней непоследовательности эксцентричная теория не в состоянии дать связный отчет о самой себе. Как могут эксцентричные теоретики избежать противоречия самим себе? Только оставаясь верными своим предпосылкам. Эксцентрики обязаны допускать, что бинарная оппозиция «эксцентричное/прямое» и понятие сексуальности - это просто социальные конструкты. То же самое верно для всех теоретических посылок эксцентричной теории, для понятий, используемых при построении этих посылок, и для критериев истинности и значимости, на которых основаны и ее посылки и понятия. Если строго следовать конструктивной логике и применять ее к самой эксцентричной теории, тогда проект такой теории предстанет всего лишь еще одним произвольным социальным изобретением. С логической точки зрения он имеет такой же непоследовательный теоретический статус как и все остальные позиции, отвергаемые эксцентриками. Результат? Эксцентричная теория оказывается либо самопротиворечивой, либо рефлексивно самоубийственной.
Парадокс идентичности
Чтобы свергнуть гегемонию гетеросексуальной идентичности в модернистской нормативной системе сексуальности, представители эксцентричной теории используют оружие радикального конструктивизма и предпринимают генеральное наступление против самого понятия социальной идентичности. Следуя логике радикального конструктивизма, они утверждают, что любая идентификация искусственна произвольна, непостоянна и самопротиворечива. Однако это мнимо универсальное развенчание понятия идентификации подрывает также идентичность самой эксцентричности и эксцентричного теоретика. Можно привести правдоподобные доводы в пользу того, что эксцентричная теория на ее теперешней программной и «прагматической» стадии служит, в основном, средством выделения, легитимации и навязывания идентичности эксцентричного теоретика. Это предположение способно объяснить примечательную склонность таких теоретиков к автобиографическим отступлениям и исповедальным примечаниям в их достаточно компактных, в остальном, теоретических писаниях. Эти личные добавки, как правило, затрагивают темы «Что я такое и как я вступил на этот путь» или «Во что я верю и почему это так важно» (см.: [19, 179 п2; 13, 54-63; 18])*
* Сидман признается в своей приверженности к «постмодерну», «прагматическим, оправдательным стратегиям, которые подчеркивают практический и риторический характер социального дискурса», а также прибегают к «генеалогиям, историческому деконструктивистскому анализу и социальным повествованиям местных рассказчиков», не задерживаясь ни для объяснений, зачем введены эти разнообразные элементы, ни для разбора их логической совместимости, по отдельности или в совокупности (см.: [18, 142 п58]). Если суть этого сидмановского исповедания веры в произнесении ритуальных заклинаний, по которым члены секты опознают друг друга, тогда вопросы логической согласованности и совместимости, необходимые при заявлении любой интеллектуально защитимой позиции, здесь, конечно, неуместны.
Но если всякая идентификация - это просто произвольный конструкт, почему мы должны всерьез воспринимать эксцентричную теорию и ее страдальцев?
На основании посылок самой эксцентричной теории, эксцентричный теоретик должен бы выглядеть как исторически контингентная, но очень свойственная концу XX в. разновидность экономически привилегированного и праздного интеллектуала, посвятившего себя профессиональному самоутверждению, поискам безопасности и престижа. Из-за преходящего и переменчивого характера всякой человеческой идентификации эксцентричные теоретики исчезнут, когда сойдут на нет удовлетворяющие их исторические условия существования. Эксцентричный тезис о самопротиворечивости идентичностей (нацеленный на изничтожение конвенциональных половых идентичностей, основанных на дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное») влечет даже более разрушительные последствия, чем названное выше. С таких позиций невозможно никакое последовательно проведенное понятие социальной идентичности, потому, что любое такое понятие будет противоречить самому себе. Этот тезис разрушает социальную идентичность эксцентричного и само понятие эксцентричности, на котором держится проект эксцентричной теории.
Парадокс трансгрессии
Главное критическое устремление эксцентричной теории - трансгрессия как беспощадная война со всеми социологическими категориями. Этот принцип влечет саморазрушительные последствия для программы эксцентричной теории. Атакуя все социологические категории, эксцентрическая теория неосторожно поражает и себя. Подобно теории Л. Троцкого о перманентной революции эксцентричная теория перманентного теоретического бунта самоубийственна в этой своей оргии многократного уничтожения всего без разбора. Например, ее представители отрицают положение, согласно которому сексуальность необходимо организована вокруг дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное». Они даже бросают вызов «режиму» сексуальности. Обе атаки предпринимаются от имени «всеобщей эксцентричности». Но она в эксцентричной теории имеет статус социологической категории - аксиоматической социологической категории par excellence. И, следовательно, «всеобщая эксцентричность» тоже становится жертвой всеобщего разорения, которым грозит социологии принцип трансгрессии.
Эксцентричная теория пускается в критику социологических категорий, чтобы лишить силы господствующие сексуальные таксономии. Из-за универсальных претензий этой критики она распространяется и на эксцентричную теорию. Поэтому, если воспринимать эту теорию серьезно, ее собственный принцип трансгрессии, дестабилизируя категории, обесценивает и саму теорию. В самом деле, если все социальные категории находятся в постоянном движении и не могут претендовать на общезначимость, то это же будет верным и для категорий, устанавливающих принцип трансгрессии. И опять эксцентричные теоретики поставлены здесь перед выбором между отречением от собственных предпосылок или принятием их самоубийственных следствий. Подобно философской доктрине радикального скептицизма, ставящей под сомнение все суждения, эксцентричная теория опровергает себя и тем самым не в состоянии породить никаких значимых критических последствий.
Парадокс эксцентричной культуры
Эксцентричная теория представляет культуру как изобретение. Все культурные артефакты суть исторически специфичные и произвольные продукты человеческой деятельности, ни один из которых не может притязать на общезначимость. По духу этой теории культуры каждая посылка эксцентричной теории осуждена на произвольность и познавательную бессвязность чистой выдумки. Радикальный конструктивизм, доктрина социальной идентичности, устанавливаемой путем «переговоров», и принцип трансгрессии - все это культурные изобретения, результаты особенных исторических условий, воздействующих на конкретных проводников эксцентричности. Как следствие, их притязания на общезначимость не более весомы, чем притязания отрицаемых ими позиций.
Так как сама эксцентричная теория культуры - тоже изобретение, она обесценивается подобной логикой рассуждения. Если культурные артефакты суть простые фабрикации, которым нельзя приписывать никакой общезначимости, тогда то же справедливо и для эксцентричной теории культуры. Она, подобно всем другим положениям эксцентричной теории, внутренне непоследовательна и не может быть изложена без самоопровержения.
Предостережение и заключение
Эксцентричные теоретики не смогут разделаться с этой критикой, сетуя, что она мол выражена в «фаллоцентрической» логике господства, являющейся продуктом модернистской гетеросексуальной интеллектуальности, что она несоизмерима с логикой эксцентричной теории и т. п. Вышеприведенные аргументы представляют собой имманентную критику, поражающую эксцентричных теоретиков их же собственным оружием, которое они выковали для битвы с империей зла, созданной гетеросексуальной социальной наукой. Разрабатывая лишь те предпосылки, которые извлечены из самой эксцентричной теории, мы атакуем ее согласно законам стратегии, установленным ее представителями для расправы со своими критиками. Эксцентричные теоретики торжественно возвещают также о своих ожиданиях, что их будут воспринимать всерьез, и пытаются определенными аргументами обосновать эти ожидания. Данный очерк, заимствуя их теоретический инструментарий, доказывает их полную несостоятельность.
Эксцентричную теорию губит то, что она нарушает некое правило, достаточно важное для всех социокультур-ных наук, чтобы заслуживать особого имени. Назовем его правилом теоретической рефлексивности и сформулируем так: любой теоретический принцип в социокультурных науках, претендующий на всеобщность, рефлексивен в том смысле, что он должен быть истинным и для самого себя. Такой принцип следует применять к нему самому, т. е. референты или объекты в сфере его действия должны включать сам этот принцип. Это правило основывается на том соображении, что всякое теоретическое утверждение в социокультурных науках, наделенное свойством неограниченной всеобщности, будет вынуждено ссылаться на самое себя. Поскольку социокультурные теории тоже суть социокультурные артефакты, то теория, притязающая на неограниченную всеобщность, должна обладать этим свойством самореферентности: объекты, охватываемые данной теорией, включают саму теорию. Именно в этом смысле истинность такой теории зависит от ее рефлексивности. Правило теоретической рефлексивности определяет источник саморазрушительных следствий эксцентричной теории. Так как ее посылки не могут ссылаться на самих себя, не порождая парадоксов, они не выдерживают проверки на рефлексивность.
Без сомнения существует некая причина, оправдывающая «эксцентричную манеру теоретизирования». В принципе, однако, она обязывает к практическому воплощению не больше, чем причина, побуждающая делать теорию увечной, неполноценной или ослабленной. Возможных направлений для развития социальной теории, хотя и не бесконечно много, но все-таки столько, что это поистине способно вызвать ужас. Вебер писал: «Жизнь в ее иррациональной действительности и содержащиеся в ней возможные значения неисчерпаемы...» [1, 413]. Что из этого следует? «Меняются мыслительные связи, в рамках которых «исторический индивидуум» рассматривается и постигается научно. Отправные точки наук о культуре будут и в будущем меняться до тех пор, пока китайское окостенение духовной жизни не станет общим уделом людей и не отучит их задавать вопросы всегда одинаково неисчерпаемой жизни» [1, 383].
Применительно к любого рода создаваемой теории, каковы бы ни были ее внетеоретические интересы и ее ценность в деле достижения каких-то политических целей, подтверждения социальной идентичности или карьерного продвижения, элементарный урок данного очерка гласит: теоретик должен располагать концептуальным аппаратом, который не рушится под тяжестью собственных противоречий.
ЛИТЕРАТУРА
1.Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
2.Butler J. Gender trouble. N.Y., 1990.
3.Doty A. Making things perfectly queer. Minneapolis, 1993.
4.Duggen L. Making it perfectly queer // Socialist Review. 1992. № 22.
5.Epstein S. A queer encounter: Sociology and the study of sexuality II Sociological Theory. 1994. № 12. P. 188-202.
6.Epstein S. Gay politics, ethnic identity: The limits of social constructionism // Socialist Review. 1987. Vol. 17. P. ‘l3n.
7.Greenberg D. The construction of homosexuality. Chicago, 1988.
8.Halperin D. One hundred years of homosexuality. N.Y., 1990.
9.Ingraham C. The heterosexual imaginary: Feminist sociology and theories of gender // Sociological Theory. 1994. №>’l2. P. 203-219.
10.Inside/out / Ed. by Fuss D. N.Y., 1991.
11.IrvineJ. M. A place in the rainbow: Theorizing lesbian and gay culture // Socilogical Theory. 1994. No 12. P. 232-248.
12.Kitzinger C. Social construction of lesbianism. L., 1987.
13.Kosofsky-Sedgwick E. Epistemology of the closet. Berkley; Los Angeles, 1990.
14.Lauretis T. de. Queer theory: Lesbian and gay sexualities // Differences. 1991. №3. P. Ш-XVIII.
15.Namaste K. The politics of inside/out: Queer theory, post-structuralism, and a sociological approach to sexuality // Sociologi-cal Theory. 1994. № 12. P. 220-231.
16.Pollner M. The reflexivity of constructionism and the construction of reflexivity // Constructionist controversies: Issues in social problem theory / Ed. by Gale Miller, James A. Holstein. N.Y., 1993.
17.Seidman S. Symposium: Queer theory/sociology (A dialogue) // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-177.
18.Seidman S. Identity and politics in a «postmodern» gay culture: Some historical and conceptual notes // Fear of queer pla-net: queer politics and social theory / Ed. by Michael Warner. Min-neapolis, 1993. P. 105-142.
19.Stein A., Plummer K. «I can’t even think straight»: «Queer» theory and the missing sexual revolution in sociology // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 178-187.
20.Simmel G. Die Verwandtenehe // Georg Simmel: Aufsatze und Abhand-lungen, 1894 bis 1900 / Ed. by Heinz-Jurgen Dahme, David P. Frish by. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 5. Frankfurt, 1992 [1894]. S. 9-36; Idem. Der Militarismus und die Stellung der Frauen // Ibid. S. 37-51; Idem. Der Frauenkongress und die Sozialdemokratie //Die Zukunft. 1896. Bd. 17. S. 80- 84; Idem. Die Rolle des Geldes in den Beziehungen der Geschlechter. Fragment aus einer «Philosophic des Geldes» // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1894 bis 1900 [1898]. S. 246-265; Idem. Philosophic der Geschlechter. Fragmente 7 Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen. 1901-1908 / Ed. by Alessandro Cavalli, Volkhard Krech. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 8. Frankfurt. 1993 [1906]. S. 74-81; Idem. Die Frau und die Mode // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1901-1908. [1908]. S. 344- 347; Idem. Das Relative und das Absolute im Geschlechterproblem •” Idem. Philosophische Kultur. Leipzig, 1911. S. 67-100; Idem. Die Koketterie // Ibid. S. 101 - 123; Idem. Weibliche Kultur // Ibid. S. 278-319; Idem. Uber die Liebe (Fragment) // Fragmente und Aufsatze aus dem Nachlass und Ve-roffentlichungen der letzten Jahre. Mimchen, 1923. S. 47-123; Idem. Der platonische und der moderne Eros // Ibid, S. 125-145.
21.Simmel G. On women, sexuality, and love / Translated by Guy Oakes. New Haven, 1984.
22.Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-248: [17; 19; 5; 9; 15; 11].
Из социологической классики
Георг Зиммель ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕГ
ПРЕДИСЛОВИЕ
У всякой области исследований имеются две границы, пересекая которые мысль в своем движении переходит из точной формы в философскую. Демонстрация и проверка предпосылок познания вообще, а также аксиом каждой специальной области [знания] происходит уже не в пределах такой специальной сферы, но в некоторой более принципиальной науке, бесконечно удаленной целью которой является беспредпосылочное мышление (отдельные науки, и шага не могущие сделать без доказательства, то есть без предпосылок содержательного и методического характера, не ставят себе такой цели). Поскольку философия демонстрирует эти предпосылки и исследует их, она не может устранить таковые и для себя самой; однако именно здесь всякий раз находится конечный пункт познания, где и вступает в силу и властно повелевает нами призыв к недоказуемому, тот пункт, который - в силу прогресса доказуемости - никогда не фиксирован безусловно. Если начала сферы философской здесь как бы обозначают нижнюю границу области точного [знания], то верхняя ее граница проходит там, где содержания позитивного знания, всегда фрагментарные, восполняются завершающими понятиями, [образуя вместе с ними] некую картину мира, и [здесь же они] востребуют соотнесения с целостностью жизни. Если история наук действительно показывает, что философский род познания примитивен, что это - не более чем приближение <Uberschlag> к явлениям в общих понятиях, то все-таки этот предварительный процесс еще неизбежен по отношению к некоторым вопросам, в особенности, касающимся оценок и самых общих связей духовной жизни, [т. е. вопросам,] на которые у нас до сих пор нет точного ответа, но от которых невозможно отказаться. Наверное, даже самая совершенная эмпирия никогда не заменит философию как толкование, окрашивание и индивидуально избирающее акцентирование действительного, подобно тому, как совершенство механической репродукции явлений не сделает излишним изобразительное искусство.
Из этого определения местоположения философии в целом вытекают и те права, которыми она пользуется применительно к отдельным предметам. Если философия денег должна существовать, то располагаться она может только за пределами обеих границ экономической науки. С одной стороны, она может продемонстрировать те предпосылки, заложенные в душевной конституции, в социальных отношениях, в логической структуре действительностей и ценностей, которые указывают деньгам их смысл и практическое положение. Это - не вопрос о происхождении денег, который относится к истории, а не к философии. И как бы высоко ни ставили мы те выгоды, которые понимание некоторого явления извлекает из исторического становления последнего, все-таки содержательный смысл и значение ставшего часто основывается на связях понятийной, психологической, этической природы, которые не временны, но чисто объективны* и, хотя и реализуются историческими силами, но не исчерпываются случайностью последних. Например, значимость, достоинство, содержание права или религии, или познания всецело находятся за пределами вопроса о путях их исторического осуществления. Таким образом, в первой части этой книги деньги будут выводиться из тех условии, на которых основывается их сущность и смысл их наличного бытия.
* В оригинале: «sachlich», от многозначного «die Sache» - «вещь», «предмет», «дело». «Sachlich» было бы правомерно переводить как «вещный», «вещественный», «объективный», «предметный» и «деловой». Как правило, ради сохранения единства словоупотребления, мы используем термин «вещественный». Предложенный перевод имеет, разумеется, тот недостаток, что собственно вещь - осязаемая, вожделеемая и т. п. - обозначается у Зиммеля словом «Ding», от которого есть и соответствующие прилагательные («dinglich», «dinghaft»). Кроме того, Зиммелю, особенно в последних главах его сочинения, отнюдь не чуждо использование «Sach-lichkeit» в смысле деловитости и объективности. Однако, в тех главах, где трактуется фундаментальная философская проблематика, образование прилагательного от «вещь» нам показалось, в общем, более адекватным, нежели чем от «объект» или «предмет». В ряде случаев перевод оговаривается.
Что же касается исторического явления денег, идею и структуру которого я пытаюсь вывести из ценностных чувств, практики, имеющей дело с вещами <Dinge>, и взаимоотношений людей как предпосылки этого явления, то вторая, синтетическая часть прослеживает его воздействие на внутренний мир: жизнечувствие индивидов, сплетение их судеб, общую культуру. Здесь, таким образом, речь идет, с одной стороны, о связях, которые по своей сути точны и могли бы быть исследованы по отдельности, но при нынешнем состоянии знания недоступны для такого исследования и потому должны рассматриваться только в соответствии с их философским типом: в общем приближении, через изображение отдельных процессов отношениями абстрактных понятий. С другой стороны, речь идет о душевном причинении, которое для всех эпох будет делом гипотетического толкования и художественного воспроизведения, неотделимого в полной мере от его индивидуальной окраски. Таким образом, переплетение <Verzweigung> денежного принципа с развитиями и оценками внутренней жизни находится столь же далеко позади экономической науки о деньгах, насколько далеко впереди нее была первая проблемная область, которой посвящена первая часть книги. Одна из них должна позволить понять сущность денег, исходя из условий и отношений жизни вообще, другая же, наоборот, - понять сущность и форму последней, исходя из действенности денег.
В этих исследованиях нет ни строчки, написанной в духе национальной экономии. Это значит, что явления оценки и покупки, обмена и средств обмена, форм производства и стоимости состояний, которые национальная экономия рассматривает с одной точки зрения, рассматриваются здесь совершенно с другой. Лишь то, что обращенная к национальной экономии сторона их более всего интересна практически, основательнее всего разработана, доступна Для самого точного изображения, - лишь это обосновало мнимое право рассматривать их просто как «факты национальной экономии». Но точно так же, как явление основателя религии отнюдь не только религиозно, но может быть исследовано и в категориях психологии, а возможно Даже и патологии, всеобщей истории, социологии; подобно тому, как стихотворение - это не только факт истории литературы, но и факт эстетический, филологический, биографический; подобно тому, как вообще точка зрения одной науки, всегда основанной на разделении труда, никогда не исчерпывает реальности в целом - так и то, что два человека обмениваются своими продуктами друг с другом, отнюдь не есть только факт национальной экономии, ибо такого факта, содержание которого исчерпывал бы его национально-экономический образ, вообще не существует. Напротив, всякий обмен может столь же легитимно рассматриваться как факт психологический, факт истории нравов и даже как факт эстетический. И даже будучи рассмотрен с точки зрения национальной экономии, он не заводит в тупик, но и в этой форме <Formung> становится предметом философского рассмотрения, которое проверяет свои предпосылки - на нехозяйственных понятиях и фактах, а свои следствия - для нехозяйственных ценностей и взаимосвязей.
Деньги в этом круге проблем представляют собой лишь средство, материал или пример изображения тех отношений, которые существуют между самыми внешними, реалистическими, случайными явлениями и идеальными потенциями бытия, глубочайшими течениями индивидуальной жизни и историей. Смысл и цель целого состоит лишь в том, чтобы с поверхности хозяйственных явлений прочертить линию, указывающую на конечные ценности и значимости <Bedeutsamkeiten> всего человеческого. Абстрактное философское построение системы держится на такой дистанции от отдельных явлений, особенно практического существования, чтобы, собственно, лишь постулировать их избавление от, на первый взгляд, изолированности, недуховности и даже отвратности <Widrigkeit>. Нам же придется совершить это высвобождение на примере такого явления, которое, как деньги, не просто демонстрирует безразличие чисто хозяйственной техники, но, так сказать, есть самое индифференция, поскольку все его целевое значение заключено не в нем самом, но в его переводе в другие ценности. Итак, поскольку здесь предельным образом напрягается противоположность между, по видимости, самым внешним и несущностным и внутренней субстанцией жизни, то и примирение ее должно быть самым действенным, если эта частность не только переплетается со всем объемом духовного мира как его носитель и несомое, но и открывает себя как символ существенных форм его движения. Итак, единство наших исследований состоит совсем не в утверждении о единичном содержании знания и постепенно вырастающих его доказательств, но в предлагаемой возможности в каждой частности жизни обнаруживать целостность ее смысла. - Необыкновенное преимущество искусства перед философией состоит в том, что оно каждый раз ставит перед собой частную, узко очерченную проблему: некоторого человека, ландшафт, настроение - и затем заставляет ощущать всякое расширение таковых до [степени] всеобщего, всякое прибавление великих черт мирочувствия как некое обогащение, подарок, словно бы как незаслуженное счастье. Напротив, философия, проблемой которой сразу же является вся совокупность существования, обычно сужается по отношению к последней и дает меньше, чем она, как кажется, обязана давать. Итак, здесь, напротив, проблему пытаются умалить и ограничить, чтобы отдать ей должное, расширяя ее и выводя к тотальности и самому всеобщему.
В методическом аспекте это намерение можно выразить так: под исторический материализм следует подвести еще один этаж, таким образом, чтобы обнаружилась объяснительная ценность включения хозяйственной жизни в [число] причин духовной культуры, но сами эти хозяйственные формы постигались как результат более глубоких оценок и течений, психологических и даже метафизических предпосылок. Для практики познания это должно разворачиваться в бесконечной взаимообразности: к каждому истолкованию некоторого идеального образования через некоторое экономическое должно присоединяться требование понимать это последнее, исходя, в свою очередь, из более идеальных глубин, в то время как для них опять-таки должен быть найден всеобщий экономический фундамент, и так далее до бесконечности. В такой альтерации и взаимопоглощении принципов познания, категориально противоположных друг другу, единство вещей, кажущееся нашему познанию неуловимым и все же обосновывающее их взаимосвязь, становится для нас практическим и Жизненным.
Обрисованные таким образом намерения и методы не могли бы претендовать ни на что принципиальное, если бы не способны были послужить содержательному многообразию основных философских убеждений. Подключение частностей и поверхностных явлений жизни к ее глубочайшим и сущностнейшим движениям и истолкование их в соответствии с ее совокупным смыслом может совершаться и на почве идеализма, и на почве реализма, рассудочной или волевой, абсолютизирующей или релятивистской интерпретации бытия. То, что нижеследующие исследования выстраиваются на [фундаменте] одной из этих картин мира, которую я считаю самым адекватным выражением современного содержания знания и направления чувств, а противоположная картина мира самым решительным образом исключается, может в худшем случае [привести к тому, что] им будет отведена роль школьного примера, хотя и неудовлетворительного в содержательном отношении, но именно поэтому позволяющего выступить на передний план их методическому значению как форме того, что в будущем окажется правильным.
В этом новом издании изменения нигде не касаются существенных мотивов. Однако я все-таки попытался, приводя новые примеры и разъяснения, а прежде всего, - углубляя основоположения, увеличить шансы на то, что мотивы эти будут поняты и приняты.
Глава первая ЦЕННОСТЬ И ДЕНЬГИ
I
Вещи как естественные реальности включены в порядок, основу которого составляет предпосылка о единстве сущности как носителе всего многообразия их свойств: равенство перед законом природы, постоянство сумм вещества и энергии, преобразование друг в друга самых разных явлений примиряют их, на первый взгляд, удаленность друг от друга, превращая ее в совершенное родство, в равноправие всех. Правда, при более близком рассмотрении это понятие означает только, что произведенное механизмом природы находится, как таковое, за рамками вопроса о каком бы то ни было праве: их [вещей] несомненная определенность не оставляет места какому бы то ни было выделению, могущему служить подтверждением или умалением <Abzug> их бытия или так-бытия. Однако мы не удовлетворяемся этой равнодушной необходимостью, составляющей естественнонаучный образ вещей. Совсем наоборот: невзирая на их порядок в этом ряду, мы сообщаем их внутреннему образу некий иной порядок, в котором всеобщее равенство полностью нарушено, в котором наибольшее возвышение одного пункта соседствует с самым решительным унижением другого и глубочайшая сущность которого состоит не в единстве, но в различии, ранжировании по ценностям. То, что предметы, мысли, события Ценны, совершенно нельзя прочитать по их чисто естественному существованию, а их порядок согласно ценностям сильнее всего отклоняется от порядка естественного. Природа бесчисленное множество раз уничтожает то, что, с точки зрения его ценности, могло бы требовать наибольшей продолжительности [существования], и она консервирует самое неценное и даже то, что отнимает у ценного жизненное пространство <Existenzraum>. Тем самым не утверждается, будто два этих ряда враждебны друг другу и полностью исключают один другой. Такое утверждение означало бы, что они все же как-то соотносятся между собой - а результатом был бы мир дьявольский, но, с точки зрения ценности, определенный, хотя и с противоположным знаком. Нет, как раз наоборот: отношение между ними абсолютно случайно. С тем же безразличием, с каким природа предлагает нам предметы наших ценностных оценок, она в другой раз отказывает нам в них, так что именно возникающая иногда гармония обоих рядов, реализация рядом действительности требований, источником которых является ряд ценности, обнаруживает всю беспринципность их отношения не менее, чем прямо противоположный случай. Мы можем осознавать одно и то же жизненное содержание и как действительное, и как ценное; но его внутренний удел в первом и во втором случае имеет совершенно разный смысл. Ряды естественных событий можно было бы описать с совершенной, без пробелов, полнотой, но при этом ценность вещей не обнаружится нигде - и точно так же шкала наших оценок сохраняет свой смысл, независимо от того, как часто их содержание обнаруживается в действительности и происходит ли это вообще. К, так сказать, готовому, всесторонне определенному в своей действительности, объективному бытию только добавляется оценка, как свет и тень, источником которых не может быть оно само, но только что-то еще. Однако отсюда вовсе не следует делать вывод, будто бы образование ценностного представления как психологический факт тем самым уже не подвластно становлению в соответствии с законами природы. Сверхчеловеческий дух, который бы с абсолютной полнотой понимал мировой процесс <Weltgeschehen> в соответствии с законами природы, нашел бы среди фактов этого процесса также и тот, что у людей есть ценностные представления. Но эти последние не имели бы для него, познающего чисто теоретически, никакого смысла и никакой значимости, помимо своего психического существования. За природой как механической каузальностью [мы] отрицаем здесь только вещественное, содержательное значение ценностного представления, в то время как душевный процесс, делающий это содержание фактом нашего сознания, все равно принадлежит природе. Оценка как действительный психологический процесс <Vorgang> есть часть природного мира; но то, что мы имеем в виду, [совершая оценку,] ее понятийный смысл, есть нечто независимо противостоящее этому миру, столь мало являющееся частью его, что, напротив, само оно, будучи рассмотрено с особой точки зрения, представляет собой целый мир. Редко отдают себе отчет в том, что вся наша жизнь, со стороны сознания, протекает в чувствах ценности и соображениях о ценности и вообще обретает смысл и значение лишь благодаря тому, что механически развертывающиеся элементы действительности, помимо своего вещественного содержания <Sachgehalt>, имеют для нас бесконечно многообразные меры и виды ценности. Всякий миг, когда душа наша не просто незаинтересованно отражает действительность (чего она, пожалуй, не делает никогда, ибо даже объективное познание может проистекать лишь из некоторой оценки этой действительности), она обитает в мире ценностей, который заключает содержания действительности в совершенно автономный порядок.
Тем самым ценность в некотором роде образует противоположность бытию, именно как охватывающую форму и категорию картины мира ее можно многократно сравнивать с бытием. Кант подчеркивал, что бытие не есть свойство вещей; ибо если я говорю об объекте, который прежде существовал только в моих мыслях, что он существует, то он тем самым не обретает новых свойств; потому что иначе существовала бы не та же самая вещь, которую я прежде мыслил, но иная. Так и благодаря тому, что я называю некую вещь ценной, у нее не возникает никаких новых свойств; ибо она только и ценится за те свойства, которыми обладает: именно ее бытие, уже всесторонне определенное, восходит в сферу ценности. Основанием здесь служит одно из тех [совершаемых] нашим мышлением членений, которые достигают наибольшей глубины. Мы способны мыслить содержания картины мира, полностью отвлекаясь от их реального существования или несуществования. Комплексы свойств, которые мы называем вещами, со всеми законами их взаимосвязи и развития, мы можем представлять себе в их чисто вещественном, логическом значении и, совершенно независимо от этого, спрашивать, осуществлены ли эти понятия или внутренние созерцания, [и если да,] то где и как часто. Подобно тому, как этого содержательного смысла и определенности объектов не касается вопрос о том, обнаруживаются ли они затем в бытии, так же и не затрагивает их и другой [вопрос]: занимают ли они место, и какое [именно], на шкале ценностей. Если же, с одной стороны, речь у нас должна идти о теории, а с другой, - о практике, то мы должны вопрошать эти содержания мышления и о том, и о другом, и в обоих аспектах ни одно из них не может уйти от ответа [на эти вопросы]. Напротив, надо, чтобы можно было недвусмысленно высказаться о бытии или небытии каждого из них, и каждый должен для нас занимать совершенно определенное место на шкале ценностей - начиная от высших и, далее, через безразличие - к негативным ценностям; ибо безразличие есть отказ от оценки, который по существу своему может быть очень позитивным, но за этим отказом всегда кроется возможность интереса, которой только не пользуются в данный момент. Конечно, в принципиальном значении этого требования, обусловливающего всю конституцию нашей картины мира, отнюдь ничего не меняется оттого, что наших средств познания очень часто не хватает, чтобы решить, насколько реальны понятия, и столь же часто [недостаточны] объем и надежность наших чувств для ценностного ранжирования вещей, особенно устойчивого и общезначимого. Миру только понятий, вещных качеств и определений противостоят великие категории бытия и ценности, всеохватные формы, которые берут свой материал из этого мира чистых содержаний. Общий характер обоих миров - фундаментальность, т. е. несводимость одного к другому или к более простым элементам. Поэтому непосредственно бытие какой-либо вещи совершенно невозможно доказать логически; напротив, бытие есть изначальная форма наших представлений, которая воспринимается, переживается, принимается на веру, но не может быть дедуцирована для того, кто еще не знает о ней. Если только однажды неким деянием, внеположным логическому, эта форма ухватила отдельное содержание, то логические связи вбирают и несут ее дальше, докуда достают они сами. Так что мы, как правило, можем, конечно, сказать, почему мы принимаем некую определенную действительность: потому что мы уже приняли некую иную действительность, определенность которой связана с первой через ее содержание. Однако действительность этой последней может быть доказана подобного же рода сведением <Zuruckschiebung> к действительности еще более фундаментальной. Но у этого регресса должен быть последний член, бытие которого дано только непосредственным чувством убеждения, утверждения, признания, точнее говоря: [оно дано именно] как такое чувство. Точно так же относится и ценность к объектам. Все доказательства ценности последних означают лишь принуждение признать уже предполагаемую для какого-либо объекта и в настоящий момент несомненную ценность также и за другим, ныне сомнительным объектом. О мотивах, по которым мы это делаем, следует сказать ниже; здесь же мы ограничимся только следующей констатацией: то, что мы усматриваем путем доказательств ценности, есть всегда лишь перенос определенной ценности на новые объекты; напротив, ни существо самой ценности, ни основание Того, почему она изначально прилепилась <geheftet> к этому объекту, который затем излучает ее на другие объекты, мы не усматриваем.
Если только имеется некоторая ценность, то пути ее осуществления, ее дальнейшее развитие можно понять рассудочным образом, ибо теперь она следует - по крайней мере, частично <abschnittsweise> - структуре содержаний действительности. Но что она вообще имеется, - это есть первофеномен. Все дедукции ценности позволяют лишь понять условия, при которых она появляется*, в конечном счете, без какого бы то ни было посредства, не будучи, однако, продуктом этих условий, - подобно тому, как все теоретические доказательства могут только подготовить условия, при которых наступает это чувство утверждения или бытия-присутствия <Dasein>.
* В оригинале: «auf diehiner sich [...] einstellt». «Sicheinstellen» может быть переведено как «наступать», «появляться», но не в смысле возникновения из ничего, атак, как наступает весна или приходят гости. «Sicheinstellen auf» обычно переводится как «настраиваться на», «приспосабливаться к». Поскольку ценности противоположны бытию, нельзя сказать, что они «появляются» или «возникают». Они также и не «приспосабливаются» к ситуациям. Но только при определенных условиях можно сказать, что «имеется» («gibt es») ценность.
Сколь мало умели сказать, что же есть собственно бытие, столь же мало могут ответить на этот вопрос и применительно к ценности. И именно поскольку они [(бытие и ценность)] относятся к вещам формально тождественным образом, постольку они так же чужды друг другу, как, по Спинозе, [чужды друг другу] мышление и протяжение: так как оба они выражают одно и то же, абсолютную субстанцию, но каждое своим собственным образом и каждое само по себе полностью, то одно никогда не сможет перейти в другое. Они никогда не соприкасаются, потому что вопрошают понятия вещей о совершенно различном. Но этим рядоположением без соприкосновения мир отнюдь не разорван, [не превращен в] в стерильную двойственность, которая не позволяет потребностям духа успокоиться в единстве - даже если его судьбой и формулой его поисков было бы бесконечное движение от множества к единству и от единства к множеству. Выше ценности и действительности расположено то, что обще им обеим: содержания, - то, что Платон, в конечном счете, подразумевал под «идеями». Это нечто такое в действительности и в наших оценках, что может быть обозначено, нечто качественное, непременно выражаемое в понятиях, то, что равным образом может войти как в тот, так и в другой порядок. Однако ниже ценности и действительности располагается то, чему общи оба этих порядка: душа, которая вбирает и то, и другое в свое таинственное единство или порождает их из него. Действительность и ценность - как бы два различных языка, на которых логически взаимосвязанные содержания мира, значимые в его идеальном единстве, как говорят, его «что», делаются понятными единой душе - или же языки, на которых может выразить себя душа как чистый, еще вне этой противоположности находящийся образ этих содержаний. И, быть может, оба совокупных представления <Zu-sammenfassungen> этих содержаний, познающее и оценивающее, еще раз охватываются метафизическим единством, для которого нет подходящего слова в языке, разве что среди религиозных символов. Быть может, имеется основание мира, с точки зрения которого воспринимаемые нами чуждость и расхождения между действительностью и ценностью, уже не существуют, где оба ряда обнаруживают себя как один и тот же - потому ли, что это единство вообще не затрагивается данными категориями и с благородным безразличием возвышается над ними, либо же потому, что оно означает совершенно гармоническое, во всех точках однородное переплетение обоих, которое искажается лишь нашим способом постижения, словно бы испорченный зрительный аппарат разнимает его на отдельные куски и противоположные ориентации.
Обычно характер ценности, как он до сих пор проявлялся по контрасту с действительностью, называют ее субъективностью. Поскольку один и тот же предмет может в одной душе обладать ценностью наивысшей степени, в другой же - самой низшей, а, с другой стороны, всестороннее, исключительное многообразие объектов прекрасно совмещается с их равноценностью, то кажется, будто основанием оценки может тогда служить только субъект с его нормальными или совершенно особенными, постоянными или меняющимися настроениями и способами реагирования. Вряд ли стоит упоминать о том, что эта субъективность ничего не имеет общего с той, которой препоручен был весь мир как «мое представление». Ибо субъективность, о которой говорят применительно к ценности, противопоставляет ее готовым, данным объектам, все равно, каким образом они появились. Иными словами, субъект, объемлющий все объекты, есть иной, чем тот, который противопоставляет себя им, та субъективность, которую ценность разделяет со всеми объектами, при этом вообще не учитывается. Субъективность ценности не может также иметь смысл произвола: вся эта независимость от действительного не означает, что воля с необузданной и прихотливой свободой могла бы распределять ценность, [помещая ее] то туда, то сюда. Напротив, сознание предна-ходит ее как факт, в котором он непосредственно может изменить столь же мало, как и в действительностях. Если исключить эти значения, то субъективность ценности первоначально сохранит лишь значение негативное: то, что ценность не в том же смысле присуща самим объектам, как цвет или температура; ибо эти последние, хотя и чувственными свойствами <Sinnesbeschaffenheiten>, все-таки сопровождаются чувством непосредственной зависимости от объекта - чувством, легко отказываться от которого по отношению к ценности нас научает видимое безразличие между рядами действительности и ценности. Однако более существенны и более плодотворны, чем это определение, те случаи, когда психологические факты их, как кажется, все-таки опровергают.
В каком бы эмпирическом или трансцендентальном смысле ни говорили о «вещах» <Dinge> в отличие от субъекта - «свойством» их является отнюдь не ценность, но пребывающее в субъекте суждение о них. Однако ни более глубокий смысл и содержание понятия ценности, ни его значение в пределах индивидуальной душевной жизни, ни практически-социальные события и формы <Gestaltungen>, которые сопряжены с ним, не понимаются сколько-нибудь удовлетворительным образом, если отвести этому понятию место в «субъекте». Путь к такому пониманию лежит в слое <Schicht>, с точки зрения которой эта субъективность кажется чем-то всего лишь преходящим и, собственно, не очень существенным.
Размежевание субъекта и объекта далеко не столь радикально, как можно подумать, исходя из вполне оправданного членения по этим категориям и мира практического, и мира научного. Напротив, душевная жизнь начинается с состояния неразличенности, в котором Я и его объекты еще покоятся в нераздельности, в котором впечатления или представления наполняют сознание, причем носитель этих содержаний еще не отделяет себя от них. Что в актуально определенном, действительном в данный момент состоянии обладающий субъект может быть отличен от содержания, которым он обладает, есть только вторичное сознание, дополнительное разделение. Развитие явно ведет part passu* к тому, что человек говорит самому себе «Я» и признает сущие для себя** объекты вне этого Я. И если в метафизике иногда бытует мнение, что трансцендентная сущность бытия абсолютно едина, [что она -] по ту сторону противоположности субъекта и объекта, то для этого обнаруживается психологический pendant***, [когда душа бывает] просто, примитивно заполнена содержанием представлений, что можно наблюдать у ребенка, который еще не говорит о себе «Я», и что в рудиментарной форме, видимо, сопутствует нам всю жизнь. Единство, из которого категории субъекта и объекта развиваются сначала в связи друг с другом, в ходе процесса, который еще нуждается в объяснении, - это единство лишь потому кажется нам субъективным, что мы подходим к нему с понятием объективности, которое вырабатывается лишь вполедствии, а для единств такого рода у нас вообще нет правильного выражения, и мы имеем обыкновение называть их по одному из односторонних элементов, взаимодействием которых они кажутся в последующем анализе. Так, утверждали, что действование по своей абсолютной сущности всегда совершенно эгоистично - в то время как эгоизм имеет понятное содержание лишь в рамках действования и в про-тивоположность альтруизму как своему корреляту; так, пантеизм назвал всеобщность бытия Богом, позитивное понятие которого можно обрести, однако же, только дистанцировавшись от всего эмпирического. Это эволюционистское соотнесение субъекта и объекта повторяется, наконец, в самых крупных размерах: духовный мир классической древности существенным образом отличается от Нового времени, поскольку лишь это последнее привело, с одной стороны, к самому глубокому и отчетливому понятию «Я», предельно заостренному в том неведомом древности значении, [какое придается] проблеме свободы, а с другой стороны, - к самостоятельности и мощи понятия «объект», выраженному в представлении о нерушимой законосообразности природы. Древность еще не так далеко, как последующие эпохи, отошла от состояния нераз-личенности, в котором содержания представляются просто, без расчленяющего их проецирования на субъект и объект.
* «В той же мере», «равным образом» (лат.).
** «Для себя» и «в себе» - устойчивые переводы для немецких «fur sich» и «an sich». Тем не менее в ряде случаев Зиммель явно использует эти выражения, не вкладывая в них большой философский смысл, что позволило предложить более удобочитаемый перевод: «сам (сама, само) по себе». Однако, выражение «в себе и для себя» переводится только традиционным образом.
*** Здесь: «пара», «соответствие» (фр.).
Основанием этого расходящегося развития представляется один и тот же, но словно бы действующий в различных слоях мотив. Ибо осознание субъектности само уже есть объективация. Здесь заключен первофеномен личностной формы духа; то, что мы можем сами себя наблюдать, знать, оценивать как некий «предмет», что мы все-таки разлагаем Я, воспринимаемое как единство, на представляющий Я-субъект и представляемый Я-объект, причем оно из-за этого отнюдь не теряет своего единства, а, напротив, собственно, только и осознает себя в этой внутренней игре противоположностей <Gegenspiel>, - именно это и является фундаментальным деянием нашего духа, определяющим все его формообразование <Gestammg>. Обоюдное требование субъектом объекта и объектом субъекта здесь словно бы сходится в некоторой точке, оно овладевает самим субъектом, которому обычно весь мир противостоит как объект. Таким образом у человека, коль скоро он осознает сам себя, говорит сам себе «Я», имеется основополагающая форма <Form> отношения к миру, так реализует он свое восприятие мира. Но прежде нее, как по смыслу, так и по душевному развитию, имеет место простое представление содержания, не вопрошающее о субъекте и объекте и еще не разделенное между ними. А с другой стороны, само это содержание как логическое, понятийное образование, ничуть не менее внеположно решению, выбирающему между субъективной и объективной реальностью. Мы можем мыслить любой и каждый предмет исключительно в соответствии с его определениями и их взаимосвязью, совершенно не задаваясь вопросом, дан ли или может быть дан этот идеальный комплекс качеств также и как объективное существование. Конечно, поскольку такое чистое вещественное содержание бывает помыслено, оно является представлением, а значит, и субъективным образованием. Только вот субъективное есть здесь лишь динамический акт представления, функция, воспринимающая это содержание; само содержание мыслится именно как нечто независимое от того, что оно представляется. Наш дух имеет примечательную способность мыслить содержания как нечто независимое от того, что оно помыслено <Gedachtwerden> - это первичное, ни к чему далее не сводимое его свойство; у таких содержаний имеется понятийная или вещественная определенность и взаимосвязи, которые, правда, могут представляться, однако не растворяются в представлении, но значимы, независимо от того, воспринимаются ли они моим представлением или нет: содержание представления не совпадает с представлением содержания. Так же, как это примитивное, недифференцированное представление, состоящее исключительно в осознании некоего содержания, нельзя называть субъективным, ибо оно еще вообще не погружено в противоположность субъекта и объекта, так и это содержание вещей или представлений отнюдь не объективно, но равно свободно и от этой дифференциальной формы, и от ее противоположности и только находится в готовности выступить в одной или другой из них. Субъект и объект рождаются в одном и том же акте: логически - потому что чисто понятийное, идеальное вещественное содержание дается то как содержание представления, то как содержание объективной действительности; психологически - потому что еще лишенное «Я» представление, в котором личность и вещь содержатся в состоянии неразличенности, расступается и между Я и его предметом возникает дистанция, благодаря которой каждый из них только и обретает свою отличную от другого сущность.
К тому же этот процесс, который, наконец, приводит к появлению нашей интеллектуальной картины мира, совершается и в практике воления. И здесь разделение на вожделеющий, наслаждающийся, оценивающий субъект и считающийся ценностью объект тоже не охватывает ни всех состояний души, ни всей вещественной систематики практической сферы. Когда человек лишь пользуется каким-либо предметом, [тогда] имеет место сам по себе совершенно единый акт. В такое мгновение у человека есть восприятие, которое не содержит ни сознания противостоящего нам объекта как такового, ни сознания «Я», которое было бы обособлено от своего моментального состояния. Здесь встречаются самые глубокие и самые высшие явления. Грубое влечение, особенно безлично-всеобщей природы, желает только исчерпать себя в предмете, только удовлетворить себя - все равно, чем; сознание наполнено одним только наслаждением и не акцентирует, обращаясь к ним по отдельности, ни, с одной стороны, свой носитель, ни, с другой стороны, свой предмет. Но вместе с тем, та же форма обнаруживается и у эстетического наслаждения, когда оно достигает наивысшей интенсивности. Также и здесь «мы сами себя забываем», однако, и произведение искусства мы уже не воспринимаем как нечто, противостоящее нам, ибо душа полностью слита с ним, оно столь же включено в нее, как и она отдает себя ему. И в том, и в другом случае психологическое состояние еще не или уже не затрагивается противоположностью субъекта и объекта, лишь вновь начинающийся процесс сознания исторгает из непосредственного единства этого состояния указанные категории и затем уже только рассматривает чистое наслаждение содержанием как, с одной стороны, состояние противостоящего объекту субъекта, а с другой стороны, - как воздействие объекта, независимого от субъекта. Это напряжение, которое разнимает наивно-практическое единство субъекта и объекта, только и создавая и то, и другое (одно в другом) для сознания, производится сначала простым фактом вожделения. Поскольку мы вожделеем то, чем еще не обладаем и не наслаждаемся, содержание его выступает перед нами. Правда, в развитой эмпирической жизни готовый предмет сначала предстоит нам и только затем оказывается вожделен - уже потому, что- помимо событий воления, объективацию душевных содержаний вызывают многие другие [события], теоретические и чувственные; только в пределах практического мира самого по себе, с точки зрения его внутреннего порядка и возможности понимать его, возникновение объекта как такового и вожделение объекта субъектом суть соотносительные понятия, две стороны процесса дифференциации, рассекающего непосредственное единство процесса наслаждения.
Утверждают, что наши представления об объективной действительности берут начало в том сопротивлении, которое мы испытываем со стороны вещей <Dinge>, в особенности при посредстве осязания. Это можно без оговорок перенести на практическую проблему. Мы вожделеем вещи лишь вне их непосредственной самоотдачи нашему потреблению и наслаждению, т. е. именно постольку, поскольку они ему как-то сопротивляются; содержание становится предметом, коль скоро оно противостоит нам, причем не только в своей воспринимаемой непроницаемости, но и в дистанцированности еще-не-наслаждения, субъективной стороной которого является вожделение. Кант говорил: возможность опыта есть возможность предметов опыта - потому что познавать на опыте означает, что наше сознание образует из чувственных восприятий предметы. Точно так же и возможность вожделения есть возможность предметов вожделения. Возникающий таким образом объект, характеризуемый дистанцией по отношению к субъекту, чье вожделение равно фиксирует эту дистанцию и стремится преодолеть ее, - [такой объект] мы называем ценностью. Сам миг наслаждения, когда субъект и объект смиряют свои противоположности, как бы поглощает <konsumiert> ценность, и она снова возникает только при отделении субъекта - как противоположности - от объекта. Простейшие наблюдения: что то, чем мы владеем, становится нам дорого как ценность по-настоящему лишь при утрате его; что один только отказ в [получении] вожделеемой вещи часто сообщает ей ценность, которой лишь в весьма малой степени соответствует достигнутое наслаждение; что удаленность от предметов наших наслаждений - ив самом непосредственном, и в любом переносном смысле слова «удаление» - показывает их преображенными и более возбуждающими, - все это производные, модификации, смешанные формы того основополагающего факта, что ценность берет начало не в цельном единстве момента наслаждения, но [возникает лишь постольку,] поскольку содержание его отрывается как объект от субъекта и выступает перед ним как только теперь вожделеемое, добыть которое можно только преодолением расстояний, препятствий, трудностей. Воспользуемся аналогией, к которой мы уже прибегли выше: в конечном счете, быть может, не реальности вторгаются в наше сознание, благодаря создаваемым ими для нас препятствиям, но те представления, с которыми связаны восприятия сопротивлений и ощущения помех, называются у нас объективно реальными, независимо существующими вне нас. Поэтому не из-за того, что они ценны, трудно заполучить эти вещи, но ценными мы называем те из них, которые выставляют препятствия нашему вожделению заполучить их. Поскольку в них это вожделение как бы надламывается или застопоривается, у них появляется такая значительность, для признания которой беспрепятственная воля никогда не видела повода.
Ценность, которая, таким образом, выступает одновременно с вожделеющим Я и как его коррелят в одном и том же процессе дифференциации, относится кроме того еще к одной категории, той же самой, которая имела силу и для объекта, обретаемого на пути теоретического представления. В этом последнем случае оказывалось, что содержания, которые, с одной стороны, реализованы в объективном мире, а с другой, - живут в нас как субъективные представления, обладают, помимо всего этого, еще и своеобразным идеальным достоинством. Понятие треугольника или организма, каузальность или закон гравитации имеют логический смысл, значимость <Gultigkeit> внутренней структуры, благодаря которой они, правда, определяют свое осуществление в пространстве и сознании, но даже если бы дело никогда и не дошло до такого осуществления, они все равно относились бы к уже не поддающейся дальнейшему членению категории значимого <Gultigen> или значительного <Bedeutsamen> и безусловно отличались бы от фантастических или противоречивых понятийных образований, которым они, однако же, были бы совершенно тождественны в аспекте физической или психической нереальности. Аналогично (хотя и с модификациями, обусловленными различием самих областей) обстоит дело и с ценностью, возникающей у объектов субъективного вожделения. Подобно тому, как мы представляем себе некоторые предложения истинными, причем это сопровождается осознанием того, что истинность их не зависит от этого представления, так и по отношению к вещам, людям, событиям мы воспринимаем, что они не только воспринимаются нами как ценные, но были бы ценны, даже если бы их не ценил никто. Самый простой пример - это ценность, которую мы приписываем убеждениям людей - нравственным, благородным, сильным, прекрасным. Выражаются ли когда-нибудь эти внутренние свойства в деяниях, которые позволят или даже вынудят признать их ценность; даже то, рефлектирует ли над ними с ощущением своей ценности сам их носитель, - все это применительно к факту самой их ценности не только нам безразлично, но как раз это безразличие относительно их признанности или осознанности придает этим ценностям особую окраску. Возьмем другой пример: [вот -] интеллектуальная энергия и тот факт, что она выводит на свет сознания сокровеннейшие силы и порядки природы; [вот -] сила и ритм тех чувств, которые в узком пространстве индивидуальной души все-таки бесконечно превосходят по своему значению весь внешний мир, даже если верно пессимистическое утверждение о преизбытке страдания; [вот, затем, - тот факт,] что вообще природа вне человека совершает движение в надежных рамках прочных норм, а множество ее форм тем не менее оставляет пространство для глубинного единства целого, что ее механизм и поддается истолкованию согласно идеям, и способен к производству красоты и грации*, - [пусть так], мы же на все это заявим, что мир именно ценностей, все равно, воспринимаются ли эти ценности сознанием или нет.
* В оригинале - совершенно неудобопонятная по-русски форма двойного отрицания: «sich weder der Deutung nach Ideen entzieht, noch sich weigert, Schonheit und Anmut zu erzeugen».
И то же самое будет иметь силу, опускаясь вплоть до уровня экономического количества ценности, которое мы приписываем некоторому объекту обмена <Tauschverkehrs>, даже если никто не готов, например, дать за него соответствующую цену .и даже если он вообще остается нежеланным и непродажным. Также и в этом направлении утверждает себя фундаментальная способность духа: одновременно противопоставлять себя содержаниям, которые он в себе представляет, представлять их так, словно бы они были независимы от того, что они представляемы. Конечно, всякая ценность, поскольку мы ее чувствуем, есть именно чувство; но вот что мы подразумеваем под этим чувством, есть в себя и для себя значащее содержание, которое, правда, психологически реализуется чувством, но не тождественно ему и не исчерпывается им. Эта категория явственным образом оказывается по ту сторону спорного вопроса о субъективности или объективности ценности, ибо она отвергает соотносительность <Korrelativitat> с субъектом, без которой невозможен объект; она есть, напротив, нечто третье, идеальное, что, правда, сопрягается с этим двойством <Zweiheit>, но не растворяется в нем. Практическому характеру той области, к которой она принадлежит, отвечает и особенная форма отношения к субъек^ ту, которая недоступна в случае сдержанного теоретического представления сугубо абстрактно «значимых» содержаний. Эту форму можно назвать требованием или притязанием. Ценность, которая прилепилась <haftet> к какой-либо вещи, личности, отношению, событию, жаждет признания. Конечно, это стремление как событие можно обнаружить только в нас, субъектах; но только вот исполняя его, мы ощущаем, что тем самым не просто удовлетворяем требованию, которое поставили себе мы сами, - и уж тем более не воспроизводим некоторую определенность объекта. Значение какого-либо телесного символа, состоящее в возбуждении у нас религиозного чувства; нравственное требование со стороны определенной жизненной ситуации революционизировать ее или оставить, как есть, развивать далее или направить движение назад; ощущение того, что долг наш - не быть равнодушными перед лицом великих событий, но реагировать на них всей душой; право наглядно созерцаемого быть не просто принятым к сведению, но включенным во взаимосвязи эстетической оценки - все это притязания, которые, правда, воспринимаются и осуществляются только внутри Я и для которых в самих объектах нельзя обнаружить никакого соответствия, никакой вещественной точки приложения, но которые, как притязания, столь же мало могут быть размещены в Я, как и в предметах, коих они касаются. С точки зрения естественной вещественности, такое притязание может казаться субъективным, с точки зрения субъекта, - объективным; в действительности же это третья категория, которую нельзя составить из первых двух, это как бы нечто между нами и вещами. Я говорил, что ценность вещей относится к тем образам содержания, которые мы, представляя их, одновременно воспринимаем как нечто самостоятельное, хотя именно представляемое, нечто оторванное от той функции, благодаря которой оно живет в нас; в том же случае, когда ценность образует содержание этого «представления», оно, если присмотреться внимательнее, оказывается именно восприятием притязания, данная «функция» есть требование, не существующее как таковое вне нас, но, по своему содержанию, берущее начало в идеальном царстве, которое находится не в нас, которое также не присуще <anhaftet> объектам ценностной оценки как их качество; напротив, оно есть <besteht> значение, которое эти объекты имеют для нас как субъектов благодаря своему расположению в порядках этого идеального царства. Ценность, которую мы мыслим независимой от ее признанности, есть метафизическая категория; как таковая она находится по ту сторону дуализма субъекта и объекта, подобно тому, как непосредственное наслаждение находилось по сию сторону этого дуализма. Последнее есть конкретное единство, к которому еще не приложены эти дифференциальные категории, первое же - это абстрактное, или идеальное единство, в для-себя-сущем значении которого этот дуализм снова исчез - подобно тому, как во всеохватности сознания, которую Фихте называет «Я», исчезает противоположность эмпирического Я и эмпирического He-Я. Как наслаждение в момент полного слияния функции со своим содержанием нельзя назвать субъективным, ибо нет никакого противостоящего объекта, который бы оправдывал понятие субъекта, так и эта сущая для себя, значимая в себе ценность не объективна, ибо она мыслится именно как независимая от субъекта, который ее мыслит; она выступает, правда, внутри субъекта как требование признания, однако ничего не утрачивает в своей сущности и при неисполнении этого требования.
При восприятии ценностей в повседневной практике жизни, эта метафизическая сублимация понятия не учитывается. Здесь речь идет только о ценности, живущей в сознании субъектов, и о той объективности, которая возникает в этом психологическом процессе оценивания как его предмет. Выше я показал, что этот процесс образования ценности происходит с увеличением дистанции между наслаждающимся и причиной его наслаждений. А поскольку величина этой дистанции варьирует (не по мере наслаждения, в котором она исчезает, но по мере вожделения, которое появляется одновременно с дистанцией и которое пытается преодолеть наслаждающийся), то постольку лишь и возникают те различия в акцентировании ценностей, которые можно рассматривать как разницу между субъективным и объективным. По меньшей мере, что касается тех объектов, на оценке которых основывается хозяйство, ценность, правда, является коррелятом вожделения (подобно тому, как мир бытия есть мое представление, так мир ценности есть мое вожделение) однако, несмотря на логико-физическую необходимость, с которой всякое вожделеющее влечение ожидает удовлетворения от некоторого предмета, оно во многих случаях, по своей психологической структуре, направляется на одно лишь это удовлетворение, так что сам предмет при этом совершенно безразличен, важно только, чтобы он утихомиривал влечение. Если мужчину может удовлетворить любая баба без индивидуального выбора; если он ест все, что только может прожевать и переварить; если спит на любой койке, если его культурные потребности можно удовлетворить самым простым, одной лишь природой предлагаемым материалом, - то [здесь] практическое сознание еще совершенно субъективно, оно наполнено исключительно собственным состоянием субъекта, его возбуждениями и успокоениями, а интерес к вещам ограничивается тем, что они суть непосредственные причины этих действий. Правда, это скрывает наивная проективная потребность примитивного человека, его направленная вовне жизнь, принимающая интимный мир как нечто самоочевидное. Одно только осознанное желание нельзя всегда считать вполне достаточным показателем действительно эффективного восприятия ценности. Легко понятная целесообразность в дирижировании нашими практическими силами достаточно часто представляет нам предмет как ценный, тогда как возбуждает нас, собственно, вовсе не он сам в своем вещественном значении, но субъективное удовлетворение потребности, которое он должен для нас создать. Начиная с этого состояния - которое, конечно, не всегда должно иметь значение первого по времени, но всегда должно считаться самым простым, фундаментальным, как бы систематически первым - сознание бывает направлено на сам объект двумя путями, которые, однако, снова соединяются. А именно, коль скоро одна и та же потребность отвергает некоторое количество возможностей удовлетворения, может быть, даже все, кроме одной, то есть там, где желаемо не просто удовлетворение, но удовлетворение определенным предметом, там открыт путь к принципиальному повороту от субъекта к объекту. Конечно, можно было бы возразить, что речь идет в каждом случае лишь о субъективном удовлетворении влечения, только в последнем случае само по себе влечение уже настолько дифференцировано, что удовлетворить его может лишь точно определенный объект; иными словами, и здесь тоже предмет ценится лишь как причина восприятия, но не сам по себе. Конечно, такое возражение могло бы свести на нет это сомнительное различие, если бы дифференциация влечения заостряла его на одном единственном удовлетворяющем ему объекте действительно столь исключительным образом, что удовлетворение посредством других объектов было бы вообще исключено. Однако это - весьма редкий, уникальный случай. Более широкий базис, на котором развиваются даже самые дифференцированные влечения, изначальная всеобщность потребности, содержащей в себе именно действие влечения <Getriebenwerden>, но не особенную определенность цели, обычно и впоследствии остается той подосновой, которая только и позволяет суженным желаниям удовлетворения осознать свою индивидуальную особенность. Поскольку все большая утонченность субъекта ограничивает круг объектов, удовлетворяющих его потребностям, он резко противопоставляет предметы своего вожделения всем остальным, которые сами по себе тоже могли бы утихомирить его потребность, но которые он, тем не менее, теперь уже не ищет. Это различие между объектами, как показывают известные психологические наблюдения, в особенно высокой степени направляет на них сознание и заставляет их выступить в нем как предметы самостоятельной значимости. На этой стадии кажется, что потребность детерминирована предметом; по мере того, как влечение уже не кидается на любое, лишь бы только возможное удовлетворение, уже не terminus a quo*, но terminus ad quern** все более и более направляет практическое восприятие, так что увеличивается пространство, которое занимает в сознании объект как таковой. Взаимосвязь здесь еще и следующая. Покуда влечения насилуют человека, мир образует для него, собственно, неразличимую массу; ибо, пока они означают для него только само по себе иррелевантное средство удовлетворения влечений (а этот результат к тому же может быть также вызван множеством причин), до тех пор с предметом в его самостоятельной сущности не бывает связано никакого интереса. Но то, что мы нуждаемся в совершенно особенном, уникальном объекте, позволяет более четко осознать, что мы вообще нуждаемся в каком-либо объекте. Однако это сознание известным образом более теоретично, оно понижает слепую энергию влечения, стремящегося только к самоисчерпанию.
* Исходный пункт (лат.).
** Конечный пункт (лат.).
В то время как дифференцирующее заострение потребности идет рука об руку с ослаблением ее стихийной силы, в сознании освобождается больше места для объекта. То же получается, если посмотреть с другой стороны: поскольку утончение и специализация потребности вынуждает сознание ко все большей самоотдаче объекту, у солипсистской потребности отнимается некоторое количество силы. Повсюду ослабление аффектов, т.е. безусловной самоотдачи Я моментальному содержанию своего чувства, взаимосвязано с объективацией представлений, с выведением их в противостоящую нам форму существования. Так, например, возможность выговориться является одним из мощнейших средств притупления аффектов. В слове внутренний процесс как бы проецируется вовне и противостоит [говорящему] как воспринимаемый образ, а тем самым уменьшается резкость аффекта. Смирение страстей и представление объективного как такового в его существовании и значении суть лишь две стороны одного и того же основного процесса. Очевидно, что отвратить внутренний интеpec от одной только потребности и ее удовлетворения и посредством сужения возможностей последнего обратить этот интерес на объект можно с тем же и даже большим успехом также и со стороны объекта - поскольку он делает удовлетворение трудным, редким и достижимым только обходными путями и благодаря специальному приложению сил. То есть если мы предположим наличие даже очень дифференцированного, направленного лишь на самые избранные объекты вожделения, то и оно все-таки будет воспринимать свое удовлетворение как нечто относительно самоочевидное, покуда это удовлетворение будет обходиться без трудностей и сопротивления. Дело в том, что для познания собственного значения вещей необходима дистанция, образующаяся между ними и нашим восприятием. Таков лишь один из многих случаев, когда надо отойти от вещей, положить пространство между нами и ними, чтобы обрести объективную картину их. Конечно, и она определена субъективно-оптически не в меньшей степени, чем нечеткая или искаженная картина при слишком большой или слишком малой дистанции, однако по внутренним основаниям целесообразности познания именно в этих крайних случаях субъективность оказывается особенно акцентированной. Изначально объект существует только в нашем к нему отношении, вполне слит с [этим отношением] и противостоит нам лишь в той мере, в какой он уже не во всем подчиняется этому отношению. Дело точно так же лишь там, где желание не совпадает с исполнением, доходит и до подлинного вожделения вещей, которое признает их для-себя-бытие, именно поскольку пытается преодолеть его. Возможность наслаждения, как образ будущего, должна быть сначала отделена от нашего состояния в данный момент, чтобы мы вожделели вещи, которые сейчас находятся на дистанции от нас. Как в области интеллектуального изначальное единство созерцания, которое можно еще наблюдать у детей, лишь постепенно расчленяется на сознание Я и осознание противостоящего ему объекта, так и наивное наслаждение лишь освободит место осознанию значения вещи, как бы уважению к ней, когда вещь ускользнет от него. Также и здесь проявляется взаимосвязь между ослаблением аффектов вожделения и началом объективации ценностей, поскольку усмирение стихийных порывов воления и чувствования благоприятствует осознанию Я. Покуда личность еще отдается, не сдерживаясь, возникающему в данный момент аффекту, совершенно преисполняется и увлекается им, Я еще не может образоваться; напротив, сознание Я, пребывающее по ту сторону отдельных своих возбуждений, может обнаружиться как нечто постоянное во всех изменениях этих последних только тогда, когда уже ни одно из них не увлекает человека целиком; напротив, они должны оставить нетронутой какую-то его часть, которая образует точку неразличенности их противоположностей, так что, таким образом, только определенное их умаление и ограничение позволяет возникнуть Я как всегда тождественному носителю нетождественных содержаний. Но подобно тому, как Я и объект суть во всех возможных областях нашего существования понятия соотносительные, которые еще не различены в изначальной форме представления и только вы-дифференцируются из нее, одно в другом, - так и самостоятельная ценность объектов могла бы развиться лишь в противоположности ставшему самостоятельным Я. Только испытываемые нами отталкивания от объекта, трудности получения его, время ожидания и труда, отодвигающее желание от исполнения, разнимают Я и объект, которые в неразвитом виде и без специального акцентирования покоятся в непосредственном примыкании друг к другу потребности и удовлетворения. Пусть даже объект определяется здесь одной только своей редкостью (соотносительно с вожделенностью) или позитивными трудами по его присвоению, - во всяком случае, он сначала полагает тем самым дистанцию между собой и нами, которая, в конце концов, позволяет сообщить ему ценность, потустороннюю для наслаждения этим объектом.
Таким образом, можно сказать, что ценность объекта покоится, правда, на том, что он вожделеем, но вожделение это потеряло свой абсолютный характер влечения. Однако точно так же и объект, если он должен оставаться хозяйственной ценностью, не может повысить количество своей ценности настолько, чтобы практически иметь значение абсолютного. Дистанция между Я и предметом его вожделения может быть сколь угодно велика - будь то из-за реальных трудностей с его получением, будь то из-за непомерной цены, будь то из-за сомнений нравственного или иного рода, которые противодействуют стремлению к нему, - так что дело не заходит о реальном акте воли, но вожделение либо затухает, либо превращается в смутные желания. Таким образом, дистанция между субъектом и объектом, с увеличением которой возникает ценность, по меньшей мере, в хозяйственном смысле, имеет нижнюю и верхнюю границы, так что формулировка, согласно которой мера ценности равна мере сопротивления, оказываемого получению вещей сообразно естественным, производственным и социальным шансам, - эта формулировка не затрагивает существа дела. Конечно, железо не было бы хозяйственной ценностью, если бы получение его не встречало больших трудностей, чем, например, получение воздуха для дыхания; с другой стороны, однако, эти трудности должны были стать ниже определенного уровня, чтобы путем обработки железа вообще можно было изготовить инструменты в таком количестве, что и сделало его ценным. Другой пример: говорят, что творения плодовитого живописца, при том же художественном совершенстве, будут менее ценны, чем у менее продуктивного; но это правильно только в случае превышения определенного количества. Ведь требуется некоторое множество произведений художника, чтобы он вообще мог однажды добиться той славы, которая поднимает цену его картин. Далее, в некоторых странах, где имеют хождение бумажные деньги, редкость золота приводит к тому, что простой народ вообще не хочет принимать золота, если оно ему случайно предлагается. Именно в отношении благородных металлов, которые из-за своей редкости считаются обычно особенно пригодным материалом для денег, теория не должна упустить из виду, что такое значение редкость обретает только после превышения довольно значительной частоты распространения, без которой эти металлы вообще не могли бы служить практической потребности в деньгах и, таким образом, не могли бы обрести той ценности, которой они обладают как денежный материал. Быть может, только практическое корыстолюбие, которое вожделеет превыше всякого данного количества благ и которому поэтому кажется малой всякая ценность, заставляет забыть, что не редкость, но нечто среднее между редкостью и не редкостью образует в большинстве случаев условие ценности. Нетрудно догадаться, что редкость - это момент, который важен для восприятия различий, а частота распространения - это момент, важность которого связана с привыканием. А поскольку жизнь всегда определяется пропорциональным соотношением обоих этих фактов, т. е. тем, что мы нуждаемся и в различии и перемене ее содержаний, и в привыкании к каждому из них, то эта общая необходимость выражается здесь в особой форме: с одной стороны, ценность вещей требует редкости, т. е. некоторого отрыва от них, особого к ним внимания, а с другой стороны, - известной широты, частоты распространения, длительности, чтобы вещи вообще переходили порог ценности.
Всеобщее значение дистанцирования для представляющегося объективным оценивания я намерен показать на примере, который весьма далек от ценностей экономических и как раз поэтому годится, чтобы отчетливее показать также и их принципиальную особенность. Я говорю о ценностях эстетических. То, что мы теперь называем радостью по поводу красоты вещей, развилось относительно поздно. Ведь сколько бы непосредственного физического наслаждения ни приносила нам она в отдельных случаях даже теперь, однако же специфика заключается именно в сознании того, что мы отдаем должное вещи <Sache> и наслаждаемся ею, а не просто состоянием чувственной или сверхчувственной возбужденности, которое, например, она нам доставляет. Каждый культурно развитый <kultivierter> мужчина, в принципе, весьма уверенно различит эстетическую и чувственную радость, доставляемую женской красотой, сколь бы мало ни мог он разграничить в отдельном явлении эти компоненты своего совокупного чувства. В одном аспекте мы отдается объекту, в другом - он отдается нам. Пусть эстетическая ценность, как и всякая другая, будет чужда свойствам самих вещей <Dinge>, пусть она будет проекцией чувства в вещи, однако для нее характерно, что эта проекция является совершенной, т. е. что содержание чувства, так сказать, целиком входит в предмет и являет себя как противостоящая субъекту значимость со своей собственной нормой, как нечто такое, что есть предмет. Но как же, [с точки зрения] историко-психологиче-ской, дело могло дойти до этой объективной, эстетической радости от вещей <Dinge>, если примитивное наслаждение ими, из которого только и может исходить более высокое наслаждение, прочно связано с их способностью быть предметами наслаждения и их полезностью? Быть может, ключ к разгадке даст нам очень простое наблюдение. Если какого-либо рода объект доставил нам большую радость или весьма поощряет нас, то всякий следующий раз, глядя на этот объект, мы испытываем чувство радости, причем даже тогда, когда об использовании его или наслаждении им речь уже не идет. Эта радость, отдающаяся в нас подобно эху, имеет совершенно особенный психологический характер, определяемый тем, что мы уже ничего не хотим от предмета; на место конкретного отношения, которое прежде связывало нас с ним, теперь приходит просто его созерцание как причины приятного ощущения; мы не затрагиваем его в его бытии, так что это чувство связывается только с его явлением, но не с тем, что здесь можно в каком-либо смысле употребить. Короче говоря, если предмет прежде был для нас ценен как средство для наших практических или эвдемонистических целей, то теперь один только его образ созерцания доставляет нам радость, тогда как мы ему противостоим при этом более сдержанно, более дис-танцированно, вовсе не касаясь его. Мне представляется, что здесь уже преформированы решающие черты эстетического, что недвусмысленно обнаруживается, как только это преобразование ощущений прослеживают далее, от индивидуально-психологического - к родовому развитию. Уже с давних пор красоту пытались вывести из полезности, однако из-за чрезмерного сближения того и другого, как правило, застревали на пошлом огрублении прекрасного. Избежать этого можно, только если достаточно далеко отодвинуть в историю рода внешнюю целесообразность и чувственно-эвдемонистическую непосредственность, так, чтобы с образом этих вещей в нашем организме было связано подобное инстинкту или рефлексу чувство удовольствия, которое действует в унаследовавшем эту физико-психическую связь индивиде, даже если полезность предмета для него самого не осознается им или [вообще] не имеет места. Мне нет нужды подробно останавливаться на спорах о наследовании приобретенных таким образом связей, потому что для нашего изложения достаточно и того, что явления протекают так, как если бы приобретенные свойства были унаследованы. Таким образом, прекрасным для нас было бы первоначально то, что обнаружило свою полезность для рода, а восприятие его потому и доставляет нам удовольствие, хотя мы как индивиды не имеем конкретной заинтересованности в этом объекте - что, конечно, не означает ни униформизма, ни прикованности индивидуального вкуса к среднему или родовому уровню. Отзвуки этой всеобщей полезности воспринимаются всем многообразием индивидуальных душ и преобразуются далее в особенности, заранее отнюдь не предрешенные, - так что, пожалуй, можно было бы сказать, что этот отрыв чувства удовольствия от реальности изначального повода к нему стал, наконец, формой нашего сознания, независимой от первых содержаний, вызвавших ее образование, и готовой воспринять в себя любые другие содержания, врастающие в нее в силу [той или иной] душевной констелляции. В тех случаях, когда у нас еще есть и повод для реалистического удовольствия, наше чувство по отношению к вещам - не специфически эстетическое, но конкретное, которое лишь благодаря определенному дистанцированию, абстрагированию, сублимации испытывает метаморфозу, [превращаясь именно в] эстетическое. Здесь происходит то, что случается, в общем-то, довольно часто: после того, как некоторое отношение устанавливается, связующий элемент выпадает, потому что его услуги больше уже не требуются. Связь между определенными полезными объектами и чувством удовольствия стала у [человеческого] рода, благодаря наследственному или какому-то иному механизму передачи традиции, столь прочной, что уже один только вид этих объектов, хотя бы мы ими и не наслаждались, оказывается для нас удовольствием. Отсюда - то, что Кант называет эстетической незаинтересованностью, безразличие относительно реального существования предмета, когда дана только его «форма», т. е. его зримость; отсюда - преображение и надмирность прекрасного - она есть результат временной удаленности реальных мотивов, в силу которых мы теперь воспринимаем эстетически; отсюда - и представление о том, что прекрасное есть нечто типическое, надындивидуальное, общезначимое - ибо родовое развитие уже давно вытравило из этого внутреннего движения все специфическое, сугубо индивидуальное, что относилось к отдельным мотивам и опыту; отсюда - частая невозможность рассудочно обосновать эстетическое суждение, которое к тому же нередко оказывается противоположным тому, что полезно или приятно нам как индивидам. Все это развитие вещей от их ценности-полезности к ценности-красоте есть процесс объективации. Поскольку я называю вещь прекрасной, ее качество и значение совершенно иначе независимы от диспозиций и потребностей субъекта, чем когда она просто полезна. Покуда вещи только полезны, они функциональны, т. е. каждая иная вещь, которая имеет тот же результат, может заменить каждую. Но коль скоро они прекрасны, вещи обретают индивидуальное для-себя-бытие, так что ценность, которую имеет для нас одна из них, не может быть заменена иною вещью, которая, допустим, в своем роде столь же прекрасна. Не обязательно прослеживать генезис эстетического, начиная с его едва заметных признаков и кончая многообразием развитых форм, чтобы понять: объективация ценности возникает в отношении дистанцированности, образующейся между субъективно-непосредственным истоком оценки объекта и нашим восприятием его в данный момент. Чем дальше отстоит по времени и как таковая забывается полезность для рода, которая впервые заставляет связать с объектом заинтересованность и оценку, тем чище эстетическая радость от одной лишь формы и созерцания объекта, т. е. он тем более противостоит нам со своим собственным достоинством, и мы тем более придаем ему то значение, которое не растворяется в случайном субъективном наслаждении им, а наше отношение к вещам, когда мы оцениваем их лишь как средства для нас, тем более уступает место чувству их самостоятельной ценности.
Я выбрал этот пример, потому что объективирующее действие того, что я называю дистанцированием, оказывается особенно наглядным в случае временной удаленности. Конечно, это более интенсивный и качественный процесс, так что количественная характеристика с указанием на дистанцию является только символической. И поэтому тот же самый эффект может быть вызван рядом других моментов, как это фактически уже и обнаружилось: редкостью объекта, трудностями его получения, необходимостью отказа от него. Пусть в этих случаях, которые существенны для хозяйства, важность вещей всегда будет важностью для нас и потому останется зависимой от нашего признания - однако решающий поворот состоит в том, что в результате этого развития вещи противостоят нам как сила <Macht> противостоит силе, как мир субстанций и энергий <Krafte>, которые своими свойствами определяют, удовлетворяют ли они, и насколько именно, наши вожделения, и которые, прежде чем отдаться нам, требуют от нас борьбы и трудов. Лишь если встает вопрос об отказе - отказе от ощущения (а ведь дело, в конце концов, в нем), появляется повод направить сознание на предмет такового. Стилизованное представлением о рае состояние, в котором субъект и объект, вожделение и исполнение еще не разделились, отнюдь не есть состояние исторически ограниченной эпохи и выступает повсюду и в самых разных степенях; это состояние, конечно, предопределено к разложению, но тем самым опять-таки и к примирению: смысл указанного дистанцирования заключается в том, что оно преодолевается. Страстное желание, усилие, самопожертвование, вмещающиеся между нами и вещами, как раз и должны нам их доставить. «Дистанцирование» и приближение также и практически суть понятия взаимообразные, каждое из них предполагает другое, и оба они образуют стороны того отношения к вещам, которое мы субъективно называем своим вожделением, а объективно - их ценностью. Конечно, мы должны удалить от себя предмет, от которого мы получили наслаждение, дабы вожделеть его вновь; что же касается дальнего, то это вожделение есть первая ступень приближения, первое идеальное отношение к нему. Такое двойственное значение вожделения, т. е. то, что оно может возникнуть только на дистанции к вещам, преодолеть которую оно как раз и стремится, но что оно при этом все-таки предполагает уже какую-то близость между нами и вещами, дабы имеющаяся дистанция вообще ощущалась, - это значение прекрасно выразил Платон, говоривший, что любовь есть среднее состояние между обладанием и необладанием. Необходимость жертвы, уяснение в опыте, что вожделение успокоено не напрасно, есть только заострение или возведение в степень этого отношения: тем самым мы оказываемся принуждены осознать удаленность между нашим нынешним Я и наслаждением вещами, причем именно благодаря тому, что та же необходимость и выводит нас на путь к преодолению удаленности. Такое внутреннее развитие, приводящее одновременно к возрастанию дистанции и сближения, явственно выступает и как исторический процесс дифференциации. Культура вызывает увеличение круга интересов, т. е. периферия, на которой находятся предметы интереса, все дальше отодвигается от центра, т. е. Я. Однако это удаление возможно только благодаря одновременному приближению. Если для современного человека объекты, лица и процессы, удаленные от него на тысячи миль, имеют жизненное значение, то они должны быть сначала сильнее приближены к нему, чем к естественному человеку, для которого ничего подобного вообще не существует; поэтому для последнего они еще находятся по ту сторону позитивного определения, [т. е. определения их] близости или удаленности. И то, и другое начинает развиваться из такого состояния неразличенности только во взаимодействии. Современный человек должен работать совершенно иначе, чем естественный человек, прилагать усилия совершенно иной интенсивности, т. е. расстояние между ним и предметами его воления несравнимо более дальнее, между ними стоят куда более жесткие условия, но зато и бесконечно более велико количество того, что он приближает к себе - идеально, через свое вожделение, а также реально, жертвуя своим трудом. Культурный процесс - тот самый, который переводит субъективные состояния влечения и наслаждения в оценку объектов - все резче разводит между собой элементы нашего двойного отношения близости к вещам и удаленности от них.
Субъективные процессы влечения и наслаждения объективируются в ценности, т. е. из объективных отношений для нас возникают препятствия, лишения, появляются требования [отдать] какую-то «цену», благодаря чему причина или вещественное содержание влечения и наслаждения только и удаляется от нас, а благодаря этому, одним и тем же актом, становится для нас подлинным «объектом» и ценностью. Таким образом, отвлеченно-радикальный вопрос о субъективности или объективности ценности вообще поставлен неправильно. Особенно сильно вводит в заблуждение, когда его решают в духе субъективности, основываясь на том, что нет такого предмета, который мог бы задать совершенно всеобщий масштаб ценности, но этот последний меняется - от местности к местности, от личности к личности и даже от часа к часу. Здесь путают субъективность и индивидуальность ценности. Что я вожделею наслаждения или наслаждаюсь, есть, конечно, нечто субъективное постольку, поскольку здесь, в себе и для себя, отнюдь не акцентируется осознание предмета как такового или интерес к предмету как таковому. Однако, в дело вступает совершенно новый процесс, процесс оценки: содержание воли и чувства обретает форму объекта. Объект же противостоит субъекту с некоторой долей самостоятельности, довольствуя его или отказывая ему, связывая с получением себя требования, будучи возведен изначальным произволом выбора себя в законосообразный порядок, где он претерпевает совершенно необходимую судьбу и обретает совершенно необходимую обусловленность. То, что содержания, принимающие эту форму объективности, не суть одни и те же для всех субъектов, здесь совершенно не важно. Допустим, все человечество совершило бы одну и ту же оценку; тем самым у этой последней не приросло бы нисколько «объективности» свыше той, какой она уже обладает в некотором совершенно индивидуальном случае; ибо, поскольку содержание вообще оценивается, а не просто функционирует как удовлетворение влечения, как наслаждение, оно находится на объективной дистанции от нас, которая устанавливается реальной определенностью помех и необходимой борьбы, прибылей* и потерь, соображений [о ценности] и цен.
* В оригинале: «Gewinn». В сочетаниях «GewinndesGegenstandes»,«Gewinn desObjekts» и т. д. мы до сих пор переводили его как «получение» (предмета, объекта и т. п.). В сочетаниях «Gewinn und Verlust», «Gewinnund Verzicht», «Gewinn und Opfer» и т. д. оно будет переводиться как «прибыль» («и потеря», «и отказ», «и жертва» и т. п.).
Основание, в силу которого снова и снова ставится ложный вопрос относительно объективности или субъективности ценности, заключается в том, что мы преднаходим в развитом эмпирическом состоянии необозримое число объектов, которые стали таковыми исключительно по причинам, находящимся в сфере представления. Однако уж если в нашем сознании есть готовый объект, то кажется, будто появляющаяся у него ценность помещается исключительно на стороне субъекта; первый аспект, из которого я исходил, - включение содержаний в ряды бытия и ценности, - кажется тогда просто синонимичным их разделению на объективность и субъективность. Однако при этом не принимают во внимание, что объект воли есть как таковой нечто иное, чем объект представления. Пусть даже оба они располагаются на одном и том же месте пространственного, временного и качественного рядов: вожделенный предмет противостоит нам совершенно иначе, означает для нас нечто совсем иное, чем представляемый. Вспомним об аналогичном случае - любви. Человек, которого мы любим, - совсем не тот же образ, что и человек, которого мы представляем себе в соответствии с познанием [о нем]. Я при этом не имею в виду те смещения или искажения, которые привносит, например, аффект в образ познания. Ведь этот последний все равно остается в области представления и в рамках интеллектуальных категорий, как бы ни модифицировалось его содержание. Однако то, как является для нас объектом любимый человек, - это, по существу, иной род, чем интеллектуально представляемый, он означает для нас, несмотря на все логическое тождество, нечто иное, примерно, так, как мрамор Венеры Милосской означает нечто иное для кристаллографа, чем для эстетика. Таким образом, элемент бытия, удостоверяемый, в соответствии с некоторыми определенностями бытия, как «один и тот же», может стать для нас объектом совершенно различными способами: [способом] представления и [способом] вожделения. В пределах каждой из этих категорий противопоставление субъекта и объекта имеет разные причины и разные действия, так что если практические отношения между человеком и его объектами ставят [нас] перед такого рода альтернативой: [либо] субъективность, либо объективность, которая может быть значима лишь в области интеллектуального представления, то это ведет только к путанице. Ибо даже если ценность предмета объективна и не в том самом смысле, в каком объективны его цвет или тяжесть, то от этого она отнюдь еще не субъективна в том смысле, который соответствует этой объективности; такая субъективность присуща, скорее, например, окраске, возникающей из-за обмана чувств, или какому-либо качеству вещи, которое приписывает ей ложное умозаключение, или некоторому бытию, реальность которого внушает нам суеверие. Напротив, практическое отношение к вещам создает совершенно иной род объективности - благодаря тому, что реальные обстоятельства оттесняют содержание вожделения и наслаждения от самого этого субъективного процесса и тем самым создают для объективности специфическую категорию, которую мы называем ее ценностью.
В хозяйстве же этот процесс происходит таким образом, что содержание жертвы или отказа, становящихся между человеком и предметом его вожделения, одновременно является предметом вожделения кого-то другого: первый должен отказаться от владения или наслаждения, вожделеемых другим, чтобы подвигнуть его на отказ от того, чем он владеет и что вожделеет первый. Ниже я покажу, что и хозяйство изолированного производителя, ориентированного на собственное потребление, может быть сведено к той же формуле. Итак, два ценностных образования <Wertbildungen> переплетаются между собой: необходимо вложить ценность, чтобы получить ценность. Поэтому все происходит так, как если бы вещи обоюдно определяли свои ценности. Ведь в процессе обмена одной на другую практическое осуществление и меру своей ценности каждая ценность обретает в другой. Это - решающее следствие и выражение дистанцирования предметов от субъекта. Пока они находятся в непосредственной близости к нему, пока дифференцированность вожделений, редкость предметов, трудности и сопротивления при их получении не оттесняют их от субъекта, они остаются для него, так сказать, вожделением и наслаждением, но еще не являются предметом ни того, ни другого. Указанный процесс, в ходе которого они становятся [именно предметом], завершается тем, что дистанцирующий и одновременно преодолевающий дистанцию предмет, собственно, и производится для этой цели. Тем самым обретается чистейшая хозяйственная объективность, отрыв предмета от субъективного отношения к личности, а поскольку это производство совершается для кого-то другого, кто предпринимает соответствующее производство для первого, то предметы вступают в обоюдное объективное отношение. Форма, которую ценность принимает в обмене, включает ее в уже описанную выше категорию по ту сторону субъективности и объективности в строгом смысле слова; в обмене ценность становится надсубъектной*, надындивидуальной, не становясь, однако, вещественным <sachlich> качеством и действительностью самой вещи <Ding>: она выступает как требование вещи, как бы выходящее за пределы ее имманентной вещественности, которое состоит в том, чтобы быть отданной, быть полученной лишь за соответствующую ценность с противоположной стороны.
* В оригинале: «ubersubjektiv». Немецкое «subjektiv» может быть передано по-русски и как «субъективный», и как «субъектный», соответственно варьируют и производные от него.
Будучи всеобщим истоком ценностей вообще, Я, тем не менее, настолько далеко отступает от. своих созданий, что они теперь могут мерить свои значения друг по другу, не обращаясь всякий раз снова к Я. Цель этого сугубо вещественного взаимоотношения ценностей, которое совершается в обмене и основано на обмене, явно состоит в том, чтобы, наконец, насладиться ими, т. е. в том, чтобы к нам было приближено больше более интенсивных ценностей, чем это было бы возможно без такой самоотдачи и объективного выравнивания в процессе обмена. Подобно тому, как о божественном начале говорили, что оно, сообщив силы мировым стихиям, отступило на задний план и предоставило их взаимной игре этих сил, так что мы теперь можем говорить об объективном, следующем своим собственным отношениям и законам мире; но также и подобно тому, как божественная власть избрала такое исторжение из себя мирового процесса как самое пригодное средство для наиболее совершенного достижения своих целей касательно мира, - так и в хозяйстве мы облачаем вещи в некоторое количество ценности, как будто это - их собственное качество, и затем предоставляем их движению обмена, объективно определенному этими количествами механизму, некоторой взаимности безличных ценностных действий - откуда они, умножившись и делая возможным более интенсивное наслаждение, возвращаются к своей конечной цели, которая была их исходным пунктом: к чувствованию субъектов. Таковы исток и основа хозяйственного образования ценностей, последствия которого выступают носителем смысла денег. К демонстрации этих последствий мы сейчас и обратимся.
II
Техническая форма хозяйственного общения создает [настоящее] царство ценностей, которое в большей или меньшей степени совершенно оторвалось от своего субъективно-личностного базиса. Индивид совершает покупку, потому, что он ценит предмет и желает его потребить, однако это вожделение индивид эффективно выражает только посредством того предмета, который он обменивает на [желаемый]; тем самым субъективный процесс дифференциации и растущего напряжения между функцией и содержанием, в ходе которого последнее становится «ценностью», превращается в вещественное, надличное отношение между предметами. Личности*, которые побуждаются своими желаниями и оценками к совершению то одного обмена, то другого, реализуют тем самым для своего сознания только ценностные отношения, содержание которых уже заключено в самих вещах: количество одного объекта соответствует по ценности определенному количеству другого объекта, и эта пропорция как нечто объективно соразмерное и словно бы законосообразное столь же противоположна личным мотивам (своему истоку и завершению), как мы это видим в объективных ценностях нравственной и других областей. По меньшей мере, так должно было бы выглядеть вполне развитое хозяйство. В нем предметы циркулируют соответственно нормам и мерам, устанавливающимся в каждый данный момент; индивиду они противостоят, таким образом, как некое объективное царство, к которому он может быть причастным либо непричастным, но если он желает первого, то это для него возможно лишь как для носителя или исполнителя внеположных ему определенностей. Хозяйство стремится (это никогда не бывает совершенно нереальным и никогда не реализуется полностью) достигнуть такой ступени развития, на которой вещи взаимно определяют меры своей ценности, словно бы посредством самодеятельного механизма, - невзирая на то, сколько субъективного чувствования вобрал в себя этот механизм в качестве своего предварительного условия или своего материала. Но именно благодаря тому, что за один предмет отдается другой, ценность его обретает всю ту зримость и осязаемость, какая здесь вообще возможна. Взаимное уравновешение, благодаря которому каждый из объектов хозяйствования выражает свою ценность в ином предмете, изымает их из области сугубо чувственного значения: относительность определения ценности означает его объективацию. Тем самым предполагается основное отношение к человеку, в чувственной жизни которого как раз и совершаются все процессы оценивания, оно, так сказать, вросло в вещи, и они, будучи оснащены им, вступают в то взаимное уравновешение, которое является не следствием их хозяйственной ценности, но уже ее носителем или содержанием.
* В оригинале: «Personen». Немецкие слова «Person» и «Personlichkeit» строго и адекватно передаются русскими «лицо» и «личность». Однако это терминологическое различие не выдержано в данном тексте Зиммеля, и потому мы предлагаем, как представляется, более удобочитаемый перевод.
Таким образом, факт хозяйственного обмена изымает вещи из состояния слитности с сугубой субъективностью субъектов, а поскольку в них тем самым инвестируется их хозяйственная функция, это заставляет их взаимно определять друг друга. Практически значимую ценность предмету сообщает не одно только то, что он вожделен, но и то, что вожделен другой [предмет]. Его характеризует не отношение к воспринимающему субъекту, а то, что это отношение обретается лишь ценой жертвы, в то время как с точки зрения другой стороны, эта жертва есть ценность, которой возможно насладиться, а та первая ценность - жертва. Тем самым объекты взаимно уравновешиваются, а потому и ценность может совершенно особенным образом выступить как объективно присущее им самим свойство. Поскольку по поводу предмета торгуются - а это означает, что представляемая им жертва фиксируется - его значение выступает для обоих контрагентов как нечто гораздо более внеположное им, чем если бы индивид воспринимал его только в отношении к себе самому; ниже мы увидим, что изолированное хозяйство, поскольку оно противопоставляет хозяйствующего требованиям природы, с той же необходимостью заставляет его жертвовать [чем-то] для получения объекта, так что и здесь то же самое отношение, которое только сменило одного носителя, может сообщить предмету столь же самостоятельное, зависимое от его собственных объективных условий значение. Конечно, за всем этим стоит вожделение и чувство субъекта как движущая сила, однако в себе и для себя она не смогла бы породить эту форму ценности, которая подобает только взаимному уравновешению объектов. Хозяйство проводит поток оценок сквозь форму обмена, создавая как бы междуцарствие между вожделениями, истоком всякого движения в человеческом мире, и удовлетворением наслаждения, его конечным пунктом. Специфика хозяйства как особой формы общения и поведения состоит (если не побояться парадоксального выражения) не столько в том, что оно обменивает ценности, сколько в том, что оно обменивает ценности. Конечно, значение, обретаемое вещами в обмене и посредством обмена, никогда не бывает вполне изолировано от их субъективно-непосредственного значения, напротив, они необходимо предполагают друг друга, как форма и содержание. Однако объективный процесс, достаточно часто господствующий над сознанием индивида, так сказать, абстрагируется о того, что его материал образуют именно ценности; здесь наиболее существенным оказывается их равенство - вроде того, как задачей геометрии оказываются пропорции величин, безотносительно к субстанциям, в которых эти пропорции только и существуют реально. Что не только рассмотрение хозяйства, но и само хозяйство, так сказать, состоит в реальном абстрагировании из объемлющей действительности процессов оценки, не столь удивительно, как может показаться на первый взгляд, если только уяснить себе, насколько человеческая деятельность [вынуждена] внутри каждой провинции души считаться с абстракциями. Силы, отношения, качества вещей, к которым в этой связи принадлежит и наше собственное существо - объективно образуют единое нерасчлененное <Ineinander>, которое, чтобы мы могли иметь с ним дело, рассекается на множество самостоятельных рядов или мотивов лишь нашим привходящим интересом. Так, любая наука изучает явления, которые только с ее точки зрения обладают замкнутым в себе единством и совершенно отграничены от проблем других наук, тогда как действительность нимало не озабочена этими разграничениями и, более того, каждый фрагмент мира представляет собой конгломерат задач для самых разнообразных наук. Равным образом и наша практика вычленяет из внешней или внутренней комплексности вещей односторонние ряды и лишь так создает большие системы интересов культуры. То же самое обнаруживается и в деятельности чувства. Если наше восприятие религиозно или социально, если мы настроены меланхолично или радуемся миру, то абстракции, извлеченные из целого действительности, наполняют нас именно как предметы нашего чувства - то ли потому, что наша реактивная способность выхватывает из предлагаемых впечатлений лишь те, которые могут быть подведены под то или иное общее понятие интереса; то ли потому, что она самостоятельно сообщает каждому предмету некоторую окраску, причем это оправдано самим предметом, поскольку в его целостности основание для подобной окраски переплетается в объективно неразличенном единстве с основаниями для иных окрасок. Так что вот еще одна формула для описания отношения человека к миру: из абсолютного единства и взаимной сращенности вещей, где каждая есть основа для другой и все существуют равноправно, наша практика не менее, чем теория, непрерывно извлекает отдельные элементы, чтобы сомкнуть их в относительные единства и целостности. У нас, не считая самых общих чувств, нет отношения к тотальности бытия: лишь поскольку, исходя из потребностей нашего мышления и действования, мы извлекаем из явлений продолжительно существующие абстракции и наделяем их относительной самостоятельностью сугубо внутренней взаимосвязи, [той самостоятельностью,] в которой их объективному бытию отказывает непрерывное мировое движение, - мы обретаем определенное в своих частностях отношение к миру. Таким образом, хозяйственная система, конечно, основана на абстракции, на отношении обоюдности обмена, балансе между жертвой и прибылью, тогда как в реальном процессе эта система неразрывно слита со своим основанием и своим результатом: вожделениями и наслаждениями. Но эта форма существования не отличается от других областей, на которые мы, сообразно своим интересам, разлагаем совокупность явлений.
Чтобы хозяйственная ценность была объективна и тем самым служила определению границ хозяйственной области как самостоятельной, главное - принципиальная зап-редельность этой значимости для отдельного субъекта. Благодаря тому, что за предмет следует отдавать другой, оказывается, что он чем-то ценен не только для меня, но и в себе, т. е. и для другого. В хозяйственной форме ценностей уравнение «объективность = значимость для субъектов вообще» находит одно из своих самых ясных оправданий. Благодаря эквивалентности, которая вообще только в связи с обменом привлекает к себе сознание и интерес, ценность обретает специфические характерные черты объективности. Пусть даже каждый из элементов будет только личностным или только субъективно ценным - но то, что они равны друг другу, есть момент объективный, не заключенный ни в одном из этих элементов как таковом, но и не внеположный им. Обмен предполагает объективное измерение субъективных ценностных оценок, но не в смысле временного предшествования, а так, что и то, и другое существуют в едином акте.
Здесь необходимо уяснить себе, что множество отношений между людьми может считаться обменом; он представляет собой одновременно самое чистое и самое интенсивное взаимодействие, которое, со своей стороны, и составляет человеческую жизнь, коль скоро она намеревается получить материал и содержание. Уже с самого начала часто упускают из виду, сколь многое из того, что на первый взгляд есть сугубо односторонне оказываемое воздействие, фактически включает взаимодействие: кажется, что оратор в одиночку влияет на собрание и ведет его за собой, учитель - класс, журналист - свою публику; фактически же каждый из них в такой ситуации воспринимает определяющие и направляющие обратные воздействия якобы совершенно пассивной массы; в политических партиях повсеместно принято говорить: «раз я ваш вождь, то должен следовать за вами», - а один выдающийся гипнотизер даже подчеркивал недавно, что при гипнотическом внушении (явно представляющем собой самый определенный случай чистой активности, с одной стороны, и безусловной подверженности влиянию, - с другой) имеет место трудно поддающееся описанию воздействие гипнотизируемого на гипнотизера, без которого не был бы достигнут эффект. Однако всякое взаимодействие можно рассматривать как обмен: каждый разговор, любовь (даже если на нее отвечают другого рода чувствами), игру, каждый взгляд на другого. И если [кому-то] кажется, что здесь есть разница, что во взаимодействии отдают то, чем сами не владеют, а в обмене - лишь то, чем сами владеют, то это мнение ошибочно. Ибо, во-первых, во взаимодействии возможно пускать в дело только свою собственную энергию, жертвовать своей собственной субстанцией; и наоборот: обмен совершают не ради предмета, который прежде был во владении другого, но ради своего собственного чувственного рефлекса, которого прежде не было у другого; ибо смысл обмена - т. е. что сумма ценностей после него должна быть больше, чем сумма ценностей прежде него, - означает, что каждый отдает другому больше, чем имел он сам. Конечно, «взаимодействие» - это понятие более широкое, а «обмен» - более узкое; однако в человеческих взаимоотношениях первое в подавляющем большинстве случаев выступает в таких формах, которые позволяют рассматривать его как обмен. Каждый наш день слагается из постоянных прибылей и потерь, прилива и отлива жизненных содержаний - такова наша естественная судьба, которая одухотворяется в обмене, поскольку тут одно отдается за другое сознательно. Тот же самый духовно-синтетический процесс, который вообще создает из рядополож-ности вещей их совместность и [бытие] друг для друга; то же самое Я, которое, пронизывая все чувственные данности, сообщает им форму своего внутреннего единства, благодаря обмену овладевает и естественным ритмом нашего существования и организует его элементы в осмысленную взаимосвязь. И как раз обмену хозяйственными ценностями менее всего можно обойтись без окраски жертвенности. Когда мы меняем любовь на любовь, то иначе вообще не знали бы, что делать с открывающейся здесь внутренней энергией; отдавая ее, мы (с точки зрения внешний последствий деятельности) не жертвуем никаким благом; когда мы в диалоге обмениваемся духовным содержаниями, то количество их от этого не убывает; когда мы демонстрируем тем, кто нас окружает, образ своей личности и воспринимаем образ другой личности, то у нас от этого обмена отнюдь не уменьшается владение собою как тем, что нам принадлежит*. В случае всех этих обменов умножение ценностей происходит не посредством подсчета прибылей и убытков; напротив, каждая сторона <Partei> либо вкладывает что-то такое, что вообще находится за пределами данной противоположности, либо одна только возможность сделать это вложение уже есть прибыль, так что ответные действия партнера мы воспринимаем - несмотря на наше собственное даяние - как незаслуженный подарок. Напротив, хозяйственный обмен - все равно, касается ли он субстанций или труда или инвестированной в субстанции рабочей силы - всегда означает жертвование благом, которое могло бы быть использовано и по-другому, насколько бы в конечном счете ни перевешивало эвдемонистическое умножение [ценностей].
* В оригинале более сжато: «Besitz unser selbst», однако, столь же сжатый русский перевод мог навести на мысль о том, что речь здесь идет о самообладании как сдержанности.
Утверждение, что все хозяйство есть взаимодействие, причем в специфическом смысле жертвующего обмена, должно столкнуться с возражением, выдвинутым против отождествления хозяйственной ценности вообще с меновой ценностью*.
* Здесь мы должны впервые оговорить перевод слова «Wert». Установившийся у нас способ перевода, в частности, работ К. Маркса навязывает здесь замену «ценности» «стоимостью». Однако это полностью нарушило бы единство текста, так как нередко пришлось бы все-таки оставлять «ценность». Мы исходим из того, что, по уверению самого Зиммеля, текст его не экономический, а философский, а значит, уже одним этим, в принципе, может быть оправдан сквозной перевод «Wert» как «ценность».
Говорят, что даже совершенно изолированный хозяин - то есть тот, который ни покупает, ни продает, - должен все-таки оценивать свою продукцию и средства производства, то есть образовать независимое от всякого обмена понятие ценности, чтобы его затраты и результаты находились в правильной пропорции друг к другу. Но этот факт как раз и доказывает, однако, именно то, что должен был опровергнуть. Ведь все соображения хозяйствующего субъекта насчет того, оправданы ли затраты определенного количества труда или иных благ для получения определенного продукта, и оценивание при обмене того, что отдают, в соотношении с тем, что получают, суть для него совершенно одно и то же. Нечеткость в понимании отношений, особенно частая, когда речь идет о понятии обмена, приводит к тому, что о них говорят как о чем-то внешнем для тех элементов, между которыми они существуют. Однако ведь отношение - это только состояние или изменение внутри каждого из элементов, но не то, что существует между ними, в смысле пространственного обособления некоего объекта, находящегося между двумя другими. При сопряжении в понятии обмена двух актов, или изменений состояния, совершающихся в действительности, легко поддаться искушению представить себе, будто в процессе обмена что-то совершается над и наряду с тем, что происходит в каждом из контрагентов, - подобно тому, как если бы понятие поцелуя (ведь поцелуями тоже «обмениваются») было субстанциализировано, так что соблазнительно было бы считать его чем-то таким, что существует где-то вне обеих пар губ, вне их движений и восприятий. С точки зрения непосредственного содержания обмена, он есть только каузальное соединение двукратно совершающегося факта: некий субъект имеет теперь нечто такое, чего у него прежде не было, а за это он не имеет чего-то такого, что у него прежде было. Но тогда тот изолированный хозяин, который должен принести определенные жертвы для получения определенных плодов, ведет себя точно так же, как и тот, кто совершает обмен; только его контрагентом выступает не второй волящий субъект, а естественный порядок и закономерность вещей, обычно столь же мало удовлетворяющий наши вожделения без [нашей] жертвы, как и другой человек. Исчисления ценностей изолированным хозяином, согласно которым он определяет свои действия, в общем, совершенно те же самые, что и при обмене. Хозяйствующему субъекту как таковому, конечно, совершенно все равно, вкладывает ли он находящиеся в его владении субстанции или рабочую силу в землю или он отдает их другому человеку, лишь бы только результат для него оставался одним и тем же. В индивидуальной душе этот субъективный процесс жертвования и получения прибыли отнюдь не является чем-то вторичным или подражательным по сравнению с обменом, происходящим между индивидами. Напротив: обмен отдачи на достижение <Errungenschaft> в самом индивиде есть основополагающая предпосылка и как бы сущностная субстанция всякого двустороннего обмена. Этот последний есть просто подвид первого, а именно, такой, при котором отдача бывает вызвана требованием со стороны другого индивида, в то время как с тем же результатом для субъекта она может быть вызвана вещами и их технически-естественными свойствами. Чрезвычайно важно совершить редукцию хозяйственного процесса к тому, что действительно происходит, т. е. совершается в душе каждого хозяйствующего. Хотя при обмене этот процесс является обоюдным и обусловлен тем же самым процессом в Другом, это не должно вводить в заблуждение относительно того, что естественное и, так сказать, солипсистское хозяйство сводится к той же самой основной форме, что и двусторонний обмен: к процедуре выравнивания двух субъективных процессов в индивиде; этого выравнивания в себе и для себя совершенно не касается второстепенный вопрос, исходило ли побуждение к нему от природы вещей или от природы человека, имеет ли оно характер только натурального хозяйства или хозяйства менового. Таким образом, почувствовать ценность объекта, доступного для приобретения, можно, в общем, лишь отказавшись от других ценностей, причем такой отказ имеет место не только тогда, когда мы, опосредованная работа на себя выступает как работа для других, но и тогда, что бывает достаточно часто, когда мы совершенно непосредственно работаем ради своих собственных целей. Ясно поэтому, что обмен является в точности столь же производительным и образующим ценность, что и производство в собственном смысле. В обоих случаях речь идет о том, чтобы принять отдаваемые нам блага за ту цену, которую назначают другие, причем таким образом, что конечным состоянием будет преизбыток чувств удовлетворения по сравнению с состоянием до этих действий. Мы не можем заново создать ни материала, ни сил, мы способны только переместить данные материалы и силы так, чтобы как можно больше из них взошли из ряда действительности в ряд ценностей. Однако обмен между людьми осуществляет это формальное перемещение внутри данного материала точно так же, как и обмен с природой, который мы называем производством, т. е. оба они подпадают под одно и то же понятие ценности: и там, и тут речь идет о том, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся на месте отданного, объектом более высокой ценности, и только в этом движении объект, прежде слитый с нуждающимся и наслаждающимся Я, отрывается от него и становится ценностью. На глубокую взаимосвязь между ценностью и обменом, благодаря которой не только второе обусловлено первым, но и первое - вторым, указывает уже равенство обоих в создании основы для практической жизни. Как бы сильно ни была наша жизнь определена механикой вещей и их объективностью, мы в действительности не можем сделать ни шага, ни помыслить мысли, не оснащая свое чувствование вещей ценностями и не направляя соответственно этим ценностям нашу деятельность. Но сама эта деятельность совершается по схеме обмена: начиная с удовлетворения низших потребностей и кончая обретением высших интеллектуальных и религиозных благ, всегда требуется вложить ценность, чтобы получить ценность. Что здесь исходный пункт, а что - следствие, определить, видимо, невозможно. Либо в фундаментальных процессах одно невозможно отделить от другого, ибо они образуют единство практической жизни, которое мы, будучи не в состоянии ухватить его как таковое, разнимаем на указанные моменты, либо между ними совершается бесконечный процесс такого рода, что хотя каждый обмен и восходит к ценности, но зато эта ценность восходит к некоторому обмену. Однако, по меньшей мере, для нас более плодотворен и больше дает в смысле объяснения подход от обмена к ценностям, так как обратное кажется более известным и более очевидным. - Ценность представляется нам результатом процесса жертвования, а тем самым нам открывается бесконечное богатство, которым наша жизнь обязана этой основной форме. Стремление по возможности сделать жертву меньше и болезненное ее ощущение заставляют нас поверить, что только полное прекращение жертв подняло бы жизнь к высочайшим вершинам ценности. Но при этом мы упускаем из виду, что жертва отнюдь не всегда является внешним барьером, но что она - внутреннее условие самой цели и пути к ней. Загадочное единство нашего практического отношения к вещам мы разлагаем на жертву и прибыль, помеху и достижение, а поскольку жизнь с ее дифференцированными стадиями часто отделяет по времени одно от другого, мы забываем, что если цель достанется нам без такого препятствия, которое следует преодолевать, то это уже не будет та же самая цель. Сопротивление, которое должна уничтожить наша сила, только позволяет ей удостоверить себя самое; грех, преодолевая который душа восстает к блаженству, только и обеспечивает ей ту «радость на небесах», которую там отнюдь не связывают с изначально праведными; всякий синтез нуждается в одновременно столь же эффективном аналитическом принципе, каковой он как раз и отрицает (а без аналитического принципа это был бы уже не синтез многих элементов, но абсолютное Одно), а равным образом и всякий анализ нуждается в синтезе, в снятии которого он состоит (потому что он все еще требует некоторой сопряженности [элементов], без которой она была бы сугубой несвязностью: даже самая ожесточенная вражда есть еще взаимосвязь в большей степени, чем просто безразличие, а безразличие - больше, чем просто незнание друг о друге). Короче говоря, препятствующее противодействие, устранение которого как раз и означает жертву, часто (а с точки зрения элементарных процессов, даже всегда) является позитивной предпосылкой самой цели. Жертва отнюдь не относится к категории «не-должного», как это совершенно ложно пытаются внушить поверхностность и алчность. Жертва есть условие не только отдельных ценностей, более того, в рамках хозяйственной жизни, о которой здесь идет речь, она является условием ценности вообще; это не только цена, которую приходится платить за отдельные, уже фиксированные ценности, но и цена, благодаря которой они вообще появляются.
Обмен происходит в двух формах, которых я здесь коснусь лишь применительно к трудовой ценности. Поскольку имеется желание праздности или совершенно самодостаточной игры сил, или желание избежать чисто обременительных усилий, всякий труд*, бесспорно, является жертвованием. Однако, наряду с этими побуждениями, имеется еще некоторое количество скрытой трудовой энергии, с которым, как таковым, мы не знаем что делать, либо же оно обнаруживается благодаря влечению к добровольному, не вызываемому ни нуждой, ни этическими мотивами труду. На это количество рабочей силы, отдача которой не является в себе и для себя жертвованием, [притязают,] конкурируя между собой, многочисленные требования, для удовлетворения которых ее недостаточно. Итак, при всяком употреблении силы приходится жертвовать одним или несколькими возможными ее употреблениями. Если бы ту силу, посредством которой мы совершаем работу А, мы бы не могли использовать и для работы В, то первая не стоила бы нам никакой жертвы; но то же самое имеет силу и для работы В, в том случае, например, если бы мы совершили ее вместо работы А. Итак, с уменьшением эвдемонизма, отдается отнюдь не труд, но именно нетруд; в уплату за А мы не приносим в жертву труд, - потому что, как мы здесь предположили, это совсем нас не тяготит, - нет, мы отказываемся от В. Таким образом, жертва, которую мы отдаем в обмен при труде, во-первых, абсолютна, а во-вторых, относительна: страдание, которое мы принимаем, с одной стороны, непосредственно связано с трудом - когда труд для нас есть тягость и наказание; с другой же стороны, [это страдание] косвенно - в тех случаях, когда мы можем заполучить один объект, лишь отказавшись от другого, причем сам труд [оказывается] эвдемонистически иррелевантен или даже имеет позитивную ценность. Но тогда и те случаи, когда труд совершается с удовольствием, сводятся к форме самоотверженного обмена, всегда и повсюду характерного для хозяйства.
* В оригинале: «Arbeit». Переводится как «труд» или как «работа» в зависимости от контекста.
То, что предметы вступают в отношения хозяйства, имея определенного уровня ценность, поскольку каждый из двух объектов любой трансакции для одного контрагента означает прибыль, к которой тот стремится, а для другого - жертву, которую он приносит, - все это, видимо, имеет силу для сформировавшегося хозяйства, но не для основных процессов, которые только его и образуют. Кажется, будто есть логическая сложность, которая, правда, обнаруживается благодаря аналогии: две вещи могли бы иметь равную ценность, только если каждая из них сначала имела бы ценность сама по себе, подобно тому, как две линии могли бы быть равны по длине, только если бы каждая из них уже до сравнения имела определенную длину. Но если присмотреться внимательнее, то выяснится, что на самом деле длина у линии имеется только в момент сравнения. Ведь определение своей длины - потому что она же не просто «длинна» - линия не может получить от себя самой, но получает его только благодаря другой, относительно которой она себя мерит и которой она тем самым оказывает точно такую же услугу, хотя результат измерения зависит не от самого этого акта, но от каждой линии, существующей независимо от другой. Вспомним о категории, которая сделала для нас понятным объективное ценностное суждение, названное мною метафизическим: [речь шла о том, что] в отношении между нами и вещами появляется требование совершить определенное суждение, содержание которого, между тем, не заключено в самих вещах. Подобным же образом совершается и суждение относительно длины: от вещей исходит к нам как бы притязание осуществить некое содержание, но это содержание не предначертано самими вещами, а может быть реализовано лишь нашим внутренним актом. То, что длина вообще только и создается в процессе сравнения и, таким образом, заказана объекту как таковому, о которого она зависит, легко укрывается от нас только потому, что из отдельных относительных длин мы абстрагировали общее понятие длины - исключив при этом, таким образом, именно определенность, без которой не может быть никакой конкретной длины, - а теперь проецируем это понятие внутрь вещей, полагая, будто они должны были все-таки сначала вообще иметь длину, прежде чем она могла быть путем сравнения определена для единичного случая. Сюда еще добавляется, что из бесчисленных сравнений, образующих длину, выкристаллизовались прочные масштабы, через сравнение с которыми определяются длины всех отдельных пространственных образований, так что эти длины, будучи как бы воплощениями абстрактного понятия длины, кажутся уже не относительными, потому что все измеряется по ним, они же совсем не измеряются - заблуждение не меньшее, чем уверенность в том, что падающее яблоко притягивается землей, а она им - нет. Наконец, ложное представление о том, что отдельной линии самой по себе присуща длина, внушается потому, что для нас в отдельных частях линии уже имеется множество элементов, в отношениях которых состоит длина. Подумаем, что было бы, если бы во всем мире имелась бы только одна линия: она вообще не была бы «длинна», так как у нее отсутствовало бы соотношение с какой-либо другой, - потому-то и признается, что невозможно говорить об измерениях мира как целого, ибо вне мира нет ничего, в соотношении с чем он мог бы иметь некую величину. Но фактически так обстоит дело с каждой линией, покуда она рассматривается без сравнения с другими или без сравнения ее частей между собой: она ни коротка, ни длинна, но еще внеположна всей этой категории. Итак, эта аналогия, вместо того чтобы опровергнуть относительность хозяйственной ценности, только делает ее еще яснее.
Если нам приходится рассматривать хозяйство как особый случай всеобщей жизненной формы обмена, при которой отдают, чтобы получить, то уже с самого начала мы будем предполагать ситуации, когда и внутри него ценность полученного не бывает доставлена, так сказать, в готовом виде, но возрастает у вожделеемого объекта отчасти или даже всецело по мере для этого, как для [его получения] требуется жертва. Такие случаи, столь же частые, сколь и важные для учения о ценностях, таят в себе, правда, одно внутреннее противоречие: получается, что мы должны приносить в жертву ценность ради вещей, которые по себе ценности не имеют. Однако ведь разумным образом никто не отдает ценность, не получая за нее нечто по меньшей мере столь же ценное, а так, чтобы цель, наоборот, обретала свою ценность лишь благодаря цене, которую мы должны за нее отдать, может случаться лишь в извращенном мире. Это [рассуждение] правильно уже применительно к непосредственному сознанию, причем даже в большей мере, чем, с точки зрения этого популярного подхода, считается в других случаях. Фактически та ценность, которую субъект отдает за другую, при фактических сиюминутных обстоятельствах никогда не может для самого субъекта превышать ту, которую он на нее выменивает. И если кажется, что все обстоит наоборот, то это всегда происходит оттого, что действительно воспринимаемую субъектом ценность путают с той, которая присуща соответствующему предмету обмена согласно средней или представляющейся объективной оценке. Так, в крайней нужде некто отдает драгоценность за кусок хлеба, потому что последний при данных обстоятельствах важнее для него, чем первая. Но чтобы с некоторым объектом было связано некоторое чувство ценности всегда нужны определенные обстоятельства, потому что носителем каждого такого чувства является весь многочленный, находящийся в постоянном движении, приспособлении и преобразовании комплекс нашего чувствования; а уникальны ли эти обстоятельства или относительно постоянны, в принципиальном смысле явно безразлично. Отдавая драгоценность, голодный однозначно доказывает, что хлеб для него более ценен. Итак, нет сомнения, что в момент обмена, принесения жертвы, ценность выменянного предмета образует ту границу, выше которой не может подняться ценность отдаваемого предмета. И совершенно независимо от этого ставится вопрос, откуда же получает свою столь необходимую ценность тот первый объект, не из тех ли жертв, которые надо принести, чтобы получить его, так что эквивалентность полученного и его цены устанавливается как бы a posteriori и с точки зрения последней. Мы сейчас увидим, сколь часто ценность психологически возникает именно таким, кажущимся нелогичным, образом. Но если уж она однажды появилась, то, конечно, и по отношению к ней - не меньше, чем по отношению к ценности, конституированной любым другим образом, - психологически необходимо, чтобы она считалась позитивным благом, по меньшей мере, таким же большим, как и негативное, - приносимая ради нее жертва. В действительности уже поверхностному психологическому рассмотрению известен целый ряд случаев, когда жертва не просто повышает, но именно только и создает ценность цели. Прежде всего, в этом процессе находит выражение радость от доказательства своей силы, от преодоления трудностей, а часто и противодействия. Необходимость идти обходным путем для достижения определенных вещей часто является поводом, но часто - и причиной, чтобы почувствовать их ценность. Во взаимоотношениях людей, прежде всего и яснее всего в эротических, мы замечаем, как сдержанность, равнодушие или отказ возбуждают как раз самое страстное желание победить, несмотря на препятствия, и побуждают нас к усилиям и жертвам, которых эта цель, не будь такого противодействия, казалась бы, не заслуживает. Для многих людей эстетическое потребление альпийских восхождений не стоило бы внимания, если бы его ценой не были чрезвычайные усилия и опасности, которые только и придают ему важность, притягательную силу и достоинство. Очарование древностей и редкостей нередко заключено в том же; если с ними не связан никакой эстетический или исторический интерес, то заменой ему служит одна только трудность их получения: они настолько ценны, сколько они стоят, и только затем уже оказывается, что они стоят столько, насколько они ценны. Далее, нравственные заслуги всегда означают, что для совершения нравственно желательного деяния сначала было необходимо побороть противоположно направленные влечения и желания и пожертвовать ими. Если же оно совершается без какого бы то ни было преодоления, как само собой разумеющийся результат беспрепятственных импульсов, то сколь бы ни было объективно желательно его содержание, ему тем не менее не приписывается в том же смысле субъективная нравственная ценность. Напротив, только благодаря жертвованию низшими и все-таки столь искусительными благами достигается вершина нравственных заслуг, тем более высокая, чем соблазнительнее были искушения и чем глубже и обширнее было жертвование ими. Наивысший почет и наивысшую оценку получают такие дела людей, которые обнаруживают или, по крайней мере, кажется, что обнаруживают, максимум углубленности, затраты сил, постоянной концентрации всего существа, - а тем самым также и отречения, жертвования всем посторонним, отдачи субъективного объективной идее. А если несравненную привлекательность демонстрирует, напротив, эстетическая продукция и все легкое, приятное, источаемое самоочевидным влечением, то и эта особенность объясняется подспудным ощущением, что обычно-то аналогичный результат обусловлен тяготами и жертвами. Подвижность наших душевных содержаний и неисчерпаемая их способность вступать в комбинации часто приводит к тому, что важность некоторой связи переносится на прямую ее противоположность, так, примерно, как ассоциация двух представлений совершается и потому, что они согласуются между собой, и потому, что они друг другу противоречат. Полученное без преодоления трудностей и словно подарок счастливого случая мы воспринимаем как совершенно особенную ценность только благодаря тому, какое значение имеет для нас достигаемое с трудом, измеряемое жертвами - это та же самая ценность, но с обратным знаком, и первична именно она, а другая может быть только выведена из нее, но никак не наоборот.
Таковы, конечно, скорее, крайние или исключительные случаи. Но если мы хотим выявить их тип в широкой области хозяйственных ценностей, требуется, видимо, сначала отделить понятие хозяйственности как специфического различия, или формы, от ценностей как всеобщего, или их субстанции. Примем, что ценность есть нечто данное и теперь уже не подлежащее дискуссии, и тогда, после всего, что уже было сказано, не подлежит сомнению, по меньшей мере, то, что хозяйственная ценность как таковая присуща не изолированному предмету в его для-себя-бытии, а только затрате другого предмета, который отдается за первый. Дикорастущий плод, сорванный без труда, не отдаваемый в обмене и вкушаемый непосредственно, не есть хозяйственное благо; таковым он может считаться в лучшем случае лишь тогда, когда его потребление избавляет, скажем, от иных хозяйственных затрат; но если бы все требования жизни <Lebenshaltung> удовлетворялись таким образом, чтобы ни один момент не был связан с жертвой, то и люди уже не хозяйствовали бы, как птицы, рыбы или жители страны дураков. Каким бы способом ни стали ценностями оба объекта, А и В, но хозяйственной ценностью А становится лишь потому, что я должен отдать за него В, а В - лишь потому, что я могу получить за него А; причем, как уже сказано, принципиально все равно, совершается ли жертвование путем отдачи ценности другому человеку, то есть путем обмена между индивидами, или в пределах круга интересов самого индивида, путем подсчета усилий и результатов. В объектах хозяйства невозможно найти совершенно ничего, кроме того значения, которое каждый из них прямо или косвенно имеет для нашего потребления, и обмена, совершающегося между ними. А так как признается, что первого как такового еще недостаточно, чтобы сделать предмет хозяйственным, то последнее только и способно добавить к нему специфическое различие, которое мы называем хозяйственным. Однако это разделение между ценностью и ее хозяйственной формой движения искусственно. Если хозяйство поначалу представляется только формой в том смысле, что оно уже предполагает ценности как свои содержания, чтобы иметь возможность включить их в движение уравнивания жертвы и прибыли, то все-таки в действительности тот же самый процесс, который из ценностей как предпосылок образует хозяйство, можно обрисовать как производство самих ценностей следующим образом.
Хозяйственная форма ценности находится между двух границ: с одной стороны, вожделение объекта, которое подсоединяется к предвосхищаемому чувству удовлетворения от обладания и наслаждения им; с другой стороны, - само это наслаждение, которое, строго говоря, не есть хозяйственный акт. Ведь если согласиться с тем, о чем мы только что говорили (а это достаточно общепринятый взгляд), то есть что непосредственное потребление дикорастущих плодов не является хозяйственной деятельностью, а сами эти плоды, таким образом, не являются хозяйственной ценностью, то и потребление собственно хозяйственных ценностей тогда уже не является хозяйственным: ибо акт потребления в этом последнем случае абсолютно не отличается от акта потребления в первом случае: для того, кто ест плод, в акте еды и его прямых последствиях нет никакой разницы, случайно ли он нашел этот плод, вырастил сам или купил. Но предмет, как мы видели, -вообще еще не ценность, пока он, как непосредственный возбудитель чувств, еще непосредственно слит с субъективным процессом, составляя как бы самоочевидную компетенцию нашей чувственной способности. Он должен быть сначала отделен от нее, чтобы получить для нас то подлинное значение, которое мы называем ценностью. Дело не только в том, что в себе и для себя вожделение, конечно, вообще не могло бы выступать основанием какой бы то ни было ценности, если бы не наталкивалось на препятствия - ведь если бы всякое вожделение удовлетворялось без борьбы и без остатка, то не только никогда не возникло бы хозяйственного обращения ценностей, но и само вожделение при беспрепятственном удовлетворении никогда не достигало бы сколько-нибудь значительных высот. Только отсрочка удовлетворения из-за препятствий, опасения, что объект может ускользнуть, напряжение борьбы за [обладание] им, суммирует моменты вожделения: интенсивность воления и непрерывность обретения. Но если бы даже наивысшее по силе вожделение имело сугубо внутреннее происхождение, то и тогда, как это неоднократно подчеркивалось, за объектом, который его удовлетворяет, не признавалось бы никакой ценности, если бы он доставался нам без ограничений. Тогда для нас был бы важен, конечно, весь род [объектов], существование которого гарантирует нам удовлетворение наших желаний, а не то ограниченное количество, которым мы фактически обладаем, потому что его точно так же можно было бы без труда заменить другим, причем, однако, и вся эта совокупность осознавалась бы как ценная только при мысли о том, что ее могло бы не быть. Наше сознание в этом случае было бы просто наполнено ритмом субъективных вожделений и удовлетворений, не уделяя внимания посредствующему объекту. Сами по себе потребность и удовлетворение не содержат ни ценности, ни хозяйства. И то, и другое осуществляется одновременно только благодаря обмену между двумя субъектами, каждый из которых делает для другого условием чувства удовлетворения некоторый отказ, или благодаря аналогу [такого обмена] в солипсистском хозяйстве. Благодаря обмену, то есть хозяйству, одновременно возникают ценности хозяйства, потому что оно является носителем или создателем дистанции между субъектом и объектом, которая переводит субъективное состояние чувства в объективное оценивание. Я уже приводил выше слова Канта, суммировавшего свое учение о познании следующим образом: условия опыта суть одновременно условия предметов опыта, то есть процесс, который мы называем опытом, и представления, которые образуют его содержания или предметы, подлежат одним и тем же законам рассудка. Предметы могут входить в наш опыт, постигаться нами на опыте потому, что они суть наши представления, и та же самая сила, которая образует и определяет опыт, обнаруживается и в образовании предметов. И в том же самом смысле мы можем здесь сказать, что возможность хозяйства есть одновременно возможность предметов хозяйства. Именно процесс, происходящий между двумя собственниками объектов (субстанций, рабочей силы, прав, вообще всего, что только можно передать), который устанавливает среди них отношение «хозяйства», то есть [процесс] - взаимной - отдачи, в то же самое время возвышает каждый из этих объектов, относя его к категории ценности. Трудность, угрожавшая нам со стороны логики, а именно, что сначала ценности должны были бы существовать, существовать как ценности, прежде чем вступить в форму в хозяйства и его движение, теперь преодолена, благодаря уясняемому значению того психического отношения, которое мы назвали дистанцией между нами и вещами. Дистанция дифференцирует изначально субъективное состояние чувств на вожделеющий субъект, только антиципирующий чувства, и противостоящий ему объект, который теперь содержит в себе ценность, - тогда как дистанция создается в области хозяйства благодаря обмену, т. е. благодаря обоюдному установлению границ, препятствий, отказов. Таким образом, для производимых ценностей хозяйства, равно как и для хозяйственного характера <Wirtschaftlichkeit> ценностей свойственны одна и та же взаимность и относительность.
Обмен - это не сложение процесса отдачи и процесса принятия, но некое новое третье, которое возникает, поскольку каждый из них есть в одно и то же время и причина другого, и его результат. Благодаря этому ценность, которую сообщает объекту необходимость отказа, становится хозяйственной ценностью. Если, в общем, ценность возникает в интервале, который препятствия, отказы, жертвы устанавливают между волей и ее удовлетворением, то раз уж процесс обмена состоит в такой взаимообусловленности принятия и отдачи, то нет нужды в предшествующем процессе оценивания, который бы делал ценностью один только данный объект для одного только данного субъекта. Все что здесь необходимо, совершается ео ipso* в акте обмена. В эмпирическом хозяйстве вещи, вступающие в обмен, обычно уже снабжены, конечно, знаками ценности. Мы же здесь имеем в виду только внутренний, так сказать, систематический смысл понятия ценности и обмена, от которого в исторических явлениях остались лишь рудименты или идеальное значение, не та форма, в которой эти явления живут как реальные, но та, которую они обнаруживают в проекции на уровень объективно-логического, а не историке-генетического понимания.
* Само собой (лат.).
Перевод хозяйственного понятия ценности, имеющего характер изолированной субстанциальности, в живой процесс соотнесения, можно, далее, объяснить тем, что обычно рассматривается как конституирующие ценность моменты: нужностью и редкостью. Нужность здесь выступает как первое условие, заложенное в самой организации <Verfassung> хозяйственных субъектов, лишь при соблюдении которого объект вообще может иметь значение для хозяйства. А вот чтобы обрести конкретную высоту отдельной ценности, к нужности должна добавиться редкость как определенность самого ряда объектов. Если бы решили устанавливать хозяйственные ценности путем спроса и предложения, то спрос соответствовал бы нужности, а предложение - моменту редкости. Пригодность играла бы решающую роль при определении того, есть ли у нас вообще спрос на предмет, а редкость - в вопросе о том, с какой ценой предмета мы были бы вынуждены согласиться. Пригодность выступает как абсолютная составляющая хозяйственных ценностей, величина которой должна быть определена, чтобы с нею она и вступала в движение хозяйственного обмена. Правда, редкость с самого начала следует признать чисто негативным моментом, так как она означает исключительно то - количественное - отношение, в котором соответствующий объект находится с наличной совокупностью себе подобных, иначе говоря, [редкость] вообще не затрагивает качественную сущность объекта. Однако, нужность, как кажется, существует до всякого хозяйства, до сравнения, соотнесения с другими объектами и, будучи субстанциальным моментом хозяйства, делает зависимыми от себя его движения.
Но, прежде всего, указанное обстоятельство неправильно обозначать понятием нужности (или полезности). В действительности здесь имеется в виду вожделенноетъ объекта. Сколь бы ни был нужен предмет, само по себе это не может стать причиной хозяйственных операций с ним, если из его нужности не следует вожделенность. Так и получается. Любое представление о нужных нам вещах может сопровождать какое-нибудь «желание», однако подлинного вожделения, которое имеет хозяйственное значение и предваряет нашу практику, не возникает и по отношению к ним, если ему противодействуют продолжительная нужда, инертность конституции, уход к другим сферам интересов, равнодушие чувства по отношению к теоретически признанной пользе, очевидная невозможность [ее] достижения, а также другие позитивные и негативные моменты. С другой стороны, мы вожделеем и, следовательно, хозяйственно оцениваем многие вещи, которые невозможно обозначить как нужные или полезные, разве только произвольно расширяя словоупотребление. Но если допустить такое расширение и все хоз.яйственно вожделеемое подводить под понятие нужности, тогда логически необходимо (а иначе не все полезное будет также и вожделее-мо), чтобы решающим моментом хозяйственного движения считалась вожделенность объектов. Однако и этот момент, даже с такой поправкой, отнюдь не абсолютен и не избежал относительности оценивания. Во-первых, как мы уже видели, само вожделение не получает сознательной определенности, если между объектом и субъектом не помещаются препятствия, трудности, жертвы; мы подлинно вожделеем лишь тогда, когда мерой наслаждения предметом выступают промежуточные инстанции, когда, во всяком случае, цена терпения, отказа от других стремлений и наслаждений отодвигают от нас предмет на такую дистанцию, желание преодолеть которую и есть его вожделение. А во-вторых, хозяйственная ценность предмета, возникающая на основании его вожделенности, может рассматриваться как усиление или сублимация уже заложенной в вожделении относительности. Ибо практической, то есть вступающей в движение хозяйства ценностью вожделее-мый предмет становится лишь благодаря тому, что его вожделенность сравнивается с вожделенностью иного и только так вообще обретает некую меру. Только если есть второй объект, относительно которого мне ясно, что я хочу его отдать за первый или первый - за второй, можно указать на хозяйственную ценность обоих объектов. Изначально для практики точно так же не существует отдельной ценности, как для сознания изначально не существует единицы. Двойка, как это подчеркивали разные авторы, древнее единицы. Если палка разломана на куски, требуется слово для обозначения множества, целая - она просто «палка», и повод назвать ее «одной» появляется, только если дело уже идет о двух как-то соотнесенных палках. Так и вожделение объекта само по себе еще не ведет к тому, чтобы у него появилась хозяйственная ценность, - для этого здесь нет необходимой меры: только сравнение вожделений, иными словами, обмениваемость их объектов фиксирует каждый из них как определенную по своей величине, т. е. хозяйственную ценность. Если бы в нашем распоряжении не было категории равенства (одной из тех фундаментальных категорий, которые образуют из непосредственно [данных] фрагментов картину мира, но только постепенно становятся психологически реальными), то «нужность» и «редкость», как бы велики они ни были, не создали бы хозяйственного общения. То, что два объекта равно достойны вожделения или ценны, при отсутствии внешнего масштаба можно установить лишь таким образом, что в действительности или мысленно их обменивают друг на друга, не замечая разницы в (так сказать, абстрактном) ощущении ценности. Поначалу же, видимо, не обмениваемость указывала на равноценность как на некоторую объективную определенность самих вещей, но само равенство было не чем иным, как обозначением возможности обмена. В себе и для себя интенсивность вожделения еще не обязательно повышает хозяйственную ценность объекта. Ведь, поскольку ценность выражается только в обмене, то и вожделение может определять ее лишь постольку, поскольку оно модифицирует обмен. Даже если я очень сильно вожделею предмет, ценность, на которую его можно обменять, тем самым еще не определена. Потому что или у меня еще нет предмета - тогда мое вожделение, если я не выражаю его, не окажет никакого влияния на требования нынешнего владельца, напротив, он будет предъявлять их в меру своей собственной или некоторой средней заинтересованности в предмете; или же, [если] у меня самого есть предмет, мои требования будут либо столь завышены, что предмет окажется вообще исключен из процесса обмена, или мне придется их подстраивать под меру заинтересованности в этом предмете потенциального покупателя. Итак, решающее значение имеет следующее: хозяйственная, практически значимая ценность никогда не есть ценность вообще, но - по своей сущности и понятию - всегда есть определенное количество ценности; это количество вообще может стать реальным только благодаря измерению двух интенсивностей вожделения, служащих мерами друг для друга; форма, в которой это совершается в рамках хозяйства, есть форма обмена жертвы на прибыль; вожделенность предмета хозяйства, следовательно, не содержит в себе, как это кажется поверхностному взгляду, момента абсолютной ценности, но исключительно как фундамент или материал - действительного или мыслимого - обмена сообщает предмету некую ценность. Относительность ценности - вследствие которой данные вожделеемые вещи, возбуждающие чувство, только в процессе взаимной отдачи и взаимного обмена становятся ценностями - заставляет, как кажется, сделать вывод, что ценность есть не что иное, как цена, и что по величине между ними нет никаких различий, так что частыми расхождениями между ценой и ценностью теория якобы оказывается опровергнута. Однако, теория утверждает, что первоначально ни о какой ценности вообще не было бы речи, если бы не то всеобщее явление, которое мы называем ценой. То, что вещь чисто экономически чем-то ценна, означает, что она чем-то ценна для меня, т. е. что я готов что-то за нее отдать. Всю свою практическую эффективность ценность как таковая может обнаружить лишь настолько, насколько она эквивалентна другим, т. е. насколько она обмениваема. Эквивалентность и обмениваемость суть понятия взаимозаменимые, оба они выражают в разных в формах одно и то же положение дел, [одно -] как бы в состоянии покоя, а [другое -] в движении. Да и что же, скажите, вообще могло бы подвигнуть нас не только наивно-субъективно наслаждаться вещами, но еще и приписывать им ту специфическую значимость <Bedeutsamkeit>, которую мы называем их ценностью? Во всяком случае, это не может быть их редкость как таковая. Потому что если бы она существовала просто как факт и мы совершенно не могли бы ее модифицировать (а ведь это возможно, причем не только благодаря производительному труду, но и благодаря смене обладателя), то мы, пожалуй, примирились бы с тем, что это - естественная определенность внешнего космоса, пожалуй, даже не осознаваемая из-за отсутствия различий, которая не добавляет к содержательным качествам вещей никакой дополнительной важности. Эта важность появляется лишь тогда, когда за вещи приходится что-то платить: терпением ожидания, трудами поиска, затратами рабочей силы, отказом от чего-то другого, что тоже достойно вожделения. Итак, без цены (поначалу мы говорим о цене в этом более широком смысле) ни о какой ценности речи не идет. Весьма наивно это выражено в вере, бытующей на некоторых островах южных морей, будто если не заплатить врачу, то не подействует и предписанное им лечение. То, что из двух объектов один более ценен, чем другой, как внешне, так и внутренне выглядит таким образом, что субъект готов отдать второй за первый, но не наоборот. В практике, которая еще не стала сложной и многосоставной, большая или меньшая ценность может быть только следствием или выражением этой непосредственной воли к обмену. А если мы говорим, что обменяли одну вещь на другую, потому что они равноценны, то это тот нередкий случай, когда понятия, язык все выворачивают наизнанку и мы думаем, будто любим кого-то за то, что он обладает определенными качествами, - тогда как это мы сообщили ему эти качества только потому, что любим его; - или же мы выводим нравственные императивы из религиозных догм, тогда как в действительности мы в них верим именно потому, что они живут в нас.
Итак, по своей сущности, как она схватывается в понятии, цена совпадает с экономически объективной ценностью; без цены вообще не удалось бы отграничить эту последнюю от субъективного наслаждения предметом. Выражение же, что обмен предполагает равную ценность, неправильно именно с точки зрения субъектов-контрагентов. А и В хотят обменяться между собой предметами своего владения се и р, так как оба они равноценны. Однако у А не было бы повода отдавать свой а, если бы он действительно получал за него равную по величине ценность р. Р должен означать для него большее количество ценности, нежели то, которым он прежде обладал как а; а равным образом и В должен больше приобретать, чем терять при обмене, чтобы вступить в него. Итак, если для А р более ценен, чем а, а для В, напротив, - а более ценен, чем р, то, конечно, с точки зрения наблюдателя, объективно это уравнивается. Однако этого равенства ценности нет для контрагента, который больше получает, чем отдает. И если он все-таки убежден, что поступил с другим по праву и справедливости и выменял у него [нечто] равноценное, то применительно к А это следует выразить так: конечно, объективно он отдал В равное за равное, цена (а) эквивалентна предмету (Р), однако субъективно ценность р для него, конечно, больше, чем ценность а. Но чувство ценности, связывающее А с Р, есть само по себе некое единство, а в нем уже невозможно различить даже мельчайшей черточки, которая бы разделяла объективное количество ценности и его субъективное признание. Итак, исключительно тот факт, что объект обменивается, то есть является некой ценой и стоит некую цену, задает эту границу, определяет в пределах субъективного количества его ценности ту часть [объекта], которая вступает в общение как встречная ценность.
Другое наблюдение ничуть не менее поучительно. [Оно заключается в том,] что обмен отнюдь не обусловлен предшествующим представлением об объективной равноценности. Присмотримся к тому, как совершают обмен ребенок, человек импульсивный и (как по всему кажется) человек примитивный. Они что угодно отдадут за предмет, который страстно вожделеют именно в данный момент, даже если, по общему мнению, цена его слишком высока, да и сами они, спокойно поразмыслив, думают так же. Однако это не противоречит результату наших предшествующих рассуждений, что всякий обмен должен представляться выгодным для сознания субъекта именно потому, что субъективно такие действия в целом еще не имеют отношения к вопросу о равенстве или неравенстве объектов обмена. Как раз для рационализма, [подходящего к вопросу] столь непсихологически, кажется, между прочим, самоочевидным, будто каждый обмен предполагает, что уже взвешены все жертвы и прибыли, и в результате, по меньшей мере, одно было приравнено к другому. А к тому же еще [полагают, будто участник обмена] объективен по отношению к своему вожделению, что вовсе не характерно для душевных конституций, о которых только что шла речь. Неразвитый или пристрастный дух не отступает от своего интереса, обострившегося в данный момент, так далеко, чтобы затевать сравнение, он хочет в данный момент именно лишь одного и, отдавая другое, не считает поэтому, что умаляет желанное удовлетворение, то есть отдача не воспринимается как цена. Мне-то, напротив, в виду той бездумности, с какой ребячливые, неопытные, порывистые люди «любой ценой» заполучают то, что является предметом их сию-минутного вожделения, кажется вероятным, что суждение о тождестве является только результатом опыта и мно-жества перемен во владении, совершившихся без каких бы то ни было соображений, [взвешивающих жертвы и прибыли]. Совершенно одностороннее, полностью оккупирующее дух вожделение должно сначала успокоиться благодаря обладанию [предметом], чтобы [оно могло] вообще допустить другие объекты к сравнению с ним. Не вышколенный и необузданный дух, между тем, придает одно значение своим интересам в данный момент, и совершенно другое - всем остальным представлениям и оценкам. Поэтому он пускается на обмен прежде, нежели дело дойдет до суждений о ценности, т. е. об отношении между собой различных количеств вожделения. Не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что в случае развитого по-нятия ценности и достаточного самообладания суждение о равной ценности предшествует обмену. Вполне вероятно, что и здесь, как это нередко бывает, рациональное отношение развилось только из психологически противоположного отношения (также и в области души то рсут змЬт есть последнее, что цэуей* есть первое), а перемена владения, ставшая результатом чисто субъективных импульсов, только впоследствии демонстрирует нам относительную ценность вещей.
* [То] для нас [есть последнее, что] по природе [есть первое]. (Греч.). (См.: Аристотель. Физика. Кн. первая, Гл. первая: «...надо попытаться определить прежде всего то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе...». Пер. В. П. Карпова). - Указано Т. Ю. Бородай.
Если, таким образом, ценность является как бы эпигоном цены, то кажется тождественным положение, что величины обеих должны быть одинаковы. Я здесь имею в виду указанную выше постановку вопроса: в каждом индивидуальном случае ни один контрагент не платит цены, которая слишком высока для него в данных обстоятельствах. Если в стихотворении Шамиссо разбойник приставляет пистолет и вынуждает жертву продать ему часы и кольцо за три гроша, то при таких обстоятельствах для последнего (ибо только так он может спасти свою жизнь) полученное в обмен действительно стоит свою цену; никто не стал бы работать за нищенское жалованье, если бы в том положении, в котором он фактически находится, это жалованье не было бы для него все-таки предпочтительнее, чем отсутствие работы. Видимость парадокса в утверждении об эквивалентности ценности и цены в каждом индивидуальном случае возникает только потому, что в это утверждение привносятся определенные представления о другого рода эквивалентности ценности и цены. Сравнительная стабильность отношений, которыми определяется множество действий, ас другой стороны, - аналогии, которые также фиксируют еще колеблющееся отношение ценности соответственно норме уже существующих [отношений ценности], вызывают представление о том, что с определенным объектом сопряжен по своей ценности именно такой-то и такой-то иной объект как его обменный эквивалент, оба эти объекта или круга объектов обладают ценностью одинаковой величины, а если ненормальные обстоятельства заставляют нас обменивать этот объект на другие ценности, которые находятся выше или ниже этого уровня, то ценность и цена здесь расходятся, хотя в каждом отдельном случае, с учетом конкретных обстоятельств, они совпадают. Не следует только забывать, что объективная и справедливая эквивалентность ценности и цены, которую мы делаем нормой для фактически существующей и единичной эквивалентности, имеет силу тоже только при совершенно определенных исторических и правовых условиях, а с изменением их сразу же исчезает. Итак, между самой нормой и теми случаями, которые она характеризует как отклоняющиеся или адекватные, различие здесь не принципиальное <genereller>, а, так сказать, нумериче-ское - что-то вроде того, как об индивиде, стоящем необыкновенно высоко или [упавшем] необыкновенно низко говорят, что это, собственно, уже не человек, тогда как такое понятие человека есть лишь среднее, которое потеряло бы свой нормативный характер в тот момент, когда большинство людей либо поднялось столь же высоко, либо опустилось столь же низко, и тогда уже именно эта его конституция считалась бы единственно человеческой. Но чтобы понять это, требуется самым энергичным образом освободиться от укоренившихся и практически совершенно справедливых представлений о ценностях. Ведь при сколько-нибудь более развитых отношениях эти представления располагаются друг над другом двумя слоями: один [слой] образуют традиции общественного круга, основная часть опыта, кажущиеся чисто логическими требования; другой же [слой] составляют индивидуальные констелляции, то, что требуется в данное мгновение и к чему принуждает случайное окружение. В противоположность скорым переменам, происходящим на этом последнем уровне, медленная эволюция, совершающаяся на первом, и его образование через сублимацию второго оказывается скрытым от нашего восприятия, так что он кажется объективно <sachlich> оправданным, выражением некоторой объективной <objektiven> пропорции. Итак, если при обмене в данных обстоятельствах ощущения ценности жертвы и ценности прибыли, по меньшей мере, выступают как равные, - потому что иначе ни один субъект, который вообще производит сравнение, не стал бы этот обмен совершать, - но, с точки зрения указанных общих характеристик, между ними обнаруживаются различия, тогда говорят о разрыве между ценностью и ценой. Самым решительным образом это проявляется при наличии двух предпосылок, которые, впрочем, почти всегда образуют единое целое: во-первых, одно-единственное ценностное качество считается хозяйственной ценностью вообще, и два объекта, таким образом, лишь постольку считаются равно ценными, поскольку в них заложено равное количество <Quan-tum> этой фундаментальной ценности; а во-вторых, определенная пропорция между двумя ценностями выступает как должная, с акцентом не только на объективное, но и на моральное требование. Например, представление о том, что собственно ценностным моментом во всех ценностях является опредмеченное, общественно необходимое рабочее время, используется в обоих отношениях и задает, таким образом, масштаб (применимый прямо или косвенно), заставляя ценность, как маятник, колебаться по отношению к цене, с переменным интервалом отличаясь от нее в большую или меньшую сторону. Однако поначалу сам факт единого масштаба ценности совершенно оставляет в стороне [вопрос о том,] как же рабочая сила стала ценностью.
Вряд ли это произошло бы, если бы она, действуя на различные материалы и создавая различные продукты, не получила бы тем самым возможность обмена или если бы ее применение не было воспринято как жертва, которую приносят для получения результата. Также и рабочая сила лишь благодаря возможности и реальности обмена включается в категорию ценностей, невзирая на то, что затем она в рамках этой категории может задавать масштаб для других ее содержаний. Итак, пусть даже рабочая сила будет содержанием всякой ценности, форму ценности она получает лишь благодаря тому, что вступает в отношение жертвы и прибыли или цены и ценности (в узком смысле). Согласно этой теории получается, что в случае расхождения цены и ценности один контрагент отдает некое количество непосредственно опредмеченной рабочей силы за некоторое меньшее количество того же самого, причем с этим количеством таким образом сопряжены иные, не относящиеся ни к какой рабочей силе обстоятельства, что этот контрагент, тем не менее, совершает обмен, удовлетворяя, например, какую-то неотложную потребность, из любительского интереса, ради обмана, монополии и тому подобного. Итак, в более широком и субъективном смысле и здесь ценность эквивалентна другой ценности, тогда как единая норма рабочей силы, которая делает возможным их расхождение, все равно обязана генезисом своего ценностного характера обмену.
Качественная определенность объектов, которая субъективно означает их вожделенность, теперь уже больше не может претендовать на то, что именно она создает абсолютную величину их ценности: только осуществляемое в обмене отношение вожделений друг к другу делает предметы этих вожделений хозяйственными ценностями. Это определение непосредственно выступает на передний план в другом моменте ценности, который считается конститутивным для нее - в недостаточности или относительной редкости. Ведь обмен есть не что иное, как межиндивидная попытка улучшения скверных обстоятельств, возникающих из-за недостаточности благ, т. е. попытка по возможности уменьшить количество субъективных лишений путем распределения имеющихся запасов. Уже отсюда вытекает прежде всего общая соотнесенность между тем, что называют (это, впрочем, справедливо подвергается критике) ценностью редкости, и тем, что называют меновой ценностью. Однако здесь более важна обратная взаимосвязь. Выше я уже подчеркивал, что следствием недостаточности благ вряд ли было бы приписыванием им ценности <Wertung>, если бы мы не могли модифицировать эту недостаточность. А это возможно двумя способами: либо отдачей рабочей силы, объективно умножающей запас благ, либо отдачей уже имеющихся во владении объектов, потому что при смене владений для субъекта устраняется редкость того объекта, который он более всего вожделеет. Таким образом, можно поначалу, видимо, утверждать, что недостаточность благ сравнительно с ориентированным на них вожделением объективно обусловливает обмен, однако только обмен, в свою очередь, делает редкость одним из моментов ценности. Ошибочно во многих теориях ценности то, что они, беря полезность и редкость как данные, рассматривают экономическую ценность, т. е. движение обмена, как нечто само собой разумеющееся, как необходимо вытекающее из самих этих понятий следствие. Но здесь они совершенно не правы. Если бы, например, в ряду этих предпосылок находилось также аскетическое самоотречение или если бы они вызывали только борьбу и разбой (что часто и случается), то не возникло бы ни экономической ценности, ни экономической жизни.
Этнология учит нас, какими удивительно произвольными, изменчивыми, несоразмерными бывают понятия ценности в примитивных культурах, коль скоро речь идет о чем-то большем, нежели самых настоятельных повсе-днев-ных нуждах. Не вызывает сомнения, что причина этого (во всяком случае, таков один из взаимодействующих [моментов]) - в другом явлении: в отвращении первобытного человека к обмену. Основания такого отвращения назывались разные. Поскольку у примитивного человека отсутствует объективный и всеобщий масштаб ценностей, он всегда должен бояться, что при обмене его обманут; поскольку продукт труда всегда производится им самим для себя самого, он отчуждает от себя в обмене часть своей личности и дает власть над собой злым силам. Быть может, здесь же берет начало и отвращение естественного человека к труду. Здесь у него тоже нет надежного масштаба для обмена усилий на результат, он боится, что его обманет даже природа, объективность которой непредсказуема и ужасающа для него, пока он не зафиксирует также и свою деятельность на некоторой дистанции и не включит ее в категорию объективности. Итак, из-за того, что он погружен в субъективность своего отношения <Verhaltens> к предмету, обмен - как природный, так и межиндивидный, - который идет рука об руку с объективацией вещи и ее ценности, выступает для первобытного человека как нечто неподходящее. И действительно, кажется, будто первое осознание объекта как такового приносит с собой чувство страха, словно бы человек чувствует, что от его Я тем самым отрывается часть. А отсюда сразу же следует мифологическое и фетишистское толкование объекта, которое, с одной стороны, гипостазирует это чувство страха, сообщая объекту единственно возможную для первобытного человека понятность, а с другой, - ослабляет его, очеловечивая объект, ближе подводя его к примирению с субъективностью. Тем самым объясняются многие явления. Прежде всего то, что грабеж, субъективный и ненормированный захват того, чего только что захотелось, рассматривался как нечто само собой разумеющееся и почетное. Не только в гомеровскую эпоху, но и много позже морской разбой считался в отсталых областях Греции законным промыслом, а у многих примитивных народов насилие и разбой считаются даже делом более благородным, чем честная оплата. И это тоже совершенно понятно: при обмене и оплате подчиняются объективной норме, перед которой вынуждена отступить сильная и автономная личность, к чему она как раз часто не склонна. Отсюда же - презрение к торговле вообще со стороны весьма аристократических и своевольных натур. Но по той же причине обмен также поощряет мирные отношения между людьми, поскольку они признают в нем межсубъектную*, в равной мере стоящие над всеми ними объективность и нормирование.
* В оригинале: «intersubjektive». Перевод этого термина радикально испорчен традицией переложения феноменологических текстов. Во всяком случае, мы можем быть уверены, что Зиммель в 1900 г. далек от «интерсубъективности ».
Следует с самого начала предположить, что существует целый ряд опосредствующих явлений между чистой субъективностью смены владений, с чем мы имеем дело в случаях грабежа и дарения, и ее объективностью в форме обмена, когда вещи обмениваются в соответствии с равными количествами содержащихся в них ценностей. Сюда относится традиционная взаимность дарения. У многих народов имеется представление о том, что дар позволительно принять лишь тогда, когда возможно ответить на него встречным даром, так сказать, заслужить задним числом. А отсюда уже прямой путь к полноценному обмену, если он, как это часто бывает на Востоке, происходит таким образом, что продавец «дарит» объект покупателю - но горе тому, кто не сделает соответствующего «встречного дара». Сюда относится так называемая работа «всем миром» <Bitt-arbeit> которая встречается повсеместно: соседи или друзья собираются для взаимопомощи при выполнении неотложной работы, не получая за это жалованья. Однако, обычным делом при этом является, по меньшей мере, хорошенько угостить работников и, по возможности, устроить для них маленький праздник, так что, например, о сербах сообщают, что у них только состоятельные люди могли себе позволить собрать такое товарищество добровольных работников. Конечно, и сегодня на Востоке, а по большей части даже в Италии не существует понятия соразмерной цены, которое ограничивает и фиксирует субъективные предпочтения и покупателя, и продавца. Каждый продает настолько дорого и покупает настолько дешево, насколько это удается применительно к противоположной стороне, обмен есть исключительно субъективная акция, происходящая между двумя лицами и ее исход зависит только от хитрости, жадности, настойчивости сторон, но не от самой вещи и не от ее надындивидуально обоснованного отношения к цене. В том то и состоит гешефт, объяснял мне один римский антиквар, что продавец требует так много, а покупатель предлагает так мало, и постепенно они сближаются друг с другом, доходя до приемлемой позиции. Итак, здесь ясно видно, каким образом объективно соразмерное оказывается результатом встречного и соревновательного движения <Gegeneinander> субъектов - в целом, это вторжение дообменных отношений в обменное хозяйство, которое проникло уже повсюду, но еще не выявило всех своих последствий. Обмен уже тут, он уже представляет собой объективный процесс, происходящий между ценностями, но совершается он вполне субъективно, его модус и его количества связаны исключительно с взаимоотношением личных качеств. - В этом, видимо, состоит также и конечный мотив [существования] сакральных форм, закрепления в законе, гарантий со стороны общественности и традиции, которые сопутствуют торговому делу во всех ранних культурах. Все это позволяло достичь над-субъектности, необходимой по самой сути обмена, создать которую еще не умели посредством объективного соотнесения самих объектов. До тех пор, пока обмен, а также идея, что между вещами существует нечто вроде ценностного равенства, были еще чем-то новым, ни о каком согласии не было бы и речи, если бы достигать его приходилось всякий раз двум индивидам между собой. Поэтому повсеместно, вплоть до самого средневековья мы обнаруживаем, что обмен не просто совершается публично, но прежде всего, что существуют точные определения относительно обмениваемых количеств употребительных товаров и не подчиниться этим определениям, заключив приватное соглашение, не может ни одна пара контрагентов. Конечно, это - объективность механическая и внешняя, она опирается на мотивы и силы вне отдельного акта обмена. Соразмерная самой вещи <sachlich> объективность свободна от такого априорного закрепления и включает в расчеты всю совокупность особых обстоятельств, которыми насильственно овладевает эта форма. Однако намерения и принцип здесь те же самые: надсубъектное фиксирование ценности в обмене, которое только позже пошло более вещественным, более имманентным путем. Свободно и самостоятельно совершаемый индивидами обмен предполагает ценовую оценку <Taxiemng> в соответствии с масштабами, которые заложены в самой вещи, и потому на предшествующей стадии обмен должен быть содержательно фиксирован, а эта фиксация обмена должна быть социально гарантирована, потому что иначе у индивида не было бы никакой точки опоры для оценки <Schatzung> предметов. Видимо, благодаря тому же самому мотиву и примитивный труд повсеместно приобрел социально упорядоченную направленность и стал совершаться в соответствии с социальными правилами, также и здесь обнаруживая сущнос-тное тождество обмена и труда, точнее говоря, принадлежность последнего к первому как более высокому понятию. Впрочем, многообразные отношения между объективно значимым <Gultigen> - как в практическом, так и в теоретипеском аспекте - и его социальным значением <Bedeutung> и признанием часто исторически проявляются таким образом, что социальное взаимодействие, распространение, нормирование гарантируют индивиду то достоинство и ту прочность некоторого жизненного содержания, которые позже ему дают вещественное право и доказуемость этого содержания. Так, ребенок верит всему, [что ему говорят,] но не по внутренним основаниям, а поскольку доверяет [данным] людям; он верит не чему-то, а кому-то. Так и наши вкусы зависят от моды, т. е. от социального распространения некоторой деятельности и оценок, прежде чем, достаточно поздно, мы не научимся сами эстетически судить о вещах. Так индивид оказывается перед необходимостью превзойти себя самого, но одновременно обрести какую-то опору и поддержку вовне: в праве, в познании, в нравственности - как силе традиции; постепенно это поначалу необходимое нормирование, которое, правда, стоит над отдельным субъектом, но не субъектом вообще, превращается в нормирование, исходящее из знания вещей <Dinge>H постижения идеальных норм. То, что [находится] вне нас, [что] нужно нам для ориентации, принимает более доступную форму социальной всеобщности, пока не начинает выступать для нас как объективная определенность реальности и идей. Таким образом, в этом смысле, что характерно для всего развития культуры, обмен изначально является делом социального установления, пока индивиды в достаточной мере не ознакомятся с объектами и своими собственными оценками, чтобы от случая к случаю самостоятельно фиксировать норму обмена. Здесь напрашивается то возражение, что эти зафиксированные обществом и законами оценки цен <Preistaxen>, в соответствии с которыми обычно идет общение во всех полуразвитых культурах <Halbkulturen>, являются, возможно, всего лишь результатом многих предшествующих обменов, которые поначалу состоялись между индивидами в единичной и еще нефиксированной форме. Однако это возражение имеет здесь силу не больше, чем стародавние попытки объяснять возникновение языка, нравов, права, религии, короче говоря, всех основополагающих форм жизни, возникающих и господствующих в группе как целом, только тем, что их изобрели отдельные индивиды, хотя они, безусловно, с самого начала возникали как межиндивидные образования, как взаимодействие между отдельными и многими, так что приписать их происхождение нельзя ни одному индивиду как таковому. Я считаю вполне возможным, что предшественником социально фиксированного обмена явился не индивидуальный обмен, а некий род смены владений, который вообще не был обменом, например, грабеж. Тогда межиндивидный обмен был бы не чем иным, как мирным договором, а возникновение обмена было бы также и возникновением фиксированного обмена. Как аналогию этому можно было бы рассматривать похищение женщин в примитивных обществах, предшествовавшее экзогамному мирному договору с соседями, который служит основой для покупки женщин и обмена ими и регулирует этот процесс. Вводимая тем самым принципиально новая форма супружества сразу же устанавливается так, чтобы фиксировать ее предрешенность для индивида. Нет никакой нужды в том, чтобы [такому супружеству] предшествовали свободные специальные договоры того же рода между отдельными людьми, поскольку тип супружества и социальное регулирование даны одновременно. Считать, что всякое социально регулируемое отношение исторически развилось из тождественной по содержанию, но только индивидуальной, социально не отрегулированной формы, - это предрассудок. Такому отношению предшествовало, скорее, то же самое содержание, но в совершенно иной по своему роду форме отношения. Обмен выходит за субъективные формы присвоения чужого владения - грабеж и дарение, - в полном соответствии с тем, что подарки вождю и налагаемые им денежные штрафы являются предшественниками налогов, - и на этом пути у него обнаруживается первая надсубъектная возможность социального регулирования, которая только и подготавливает объективность в смысле вещности; только вместе с этим общественным нормированием в свободную смену владений врастает та объективность, которая составляет сущность обмена.
Результат всего этого таков: обмен есть социологическое образование sui generis, изначальная форма и функция межиндивидной жизни, которая отнюдь не вытекает как логическое следствие из тех качественных и количественных свойств вещей, которые называются их полезностью и редкостью. Как раз наоборот: и полезность, и редкость обнаруживают свое значение для образования ценности только в тех случаях, когда предпосылкой является обмен. Если по каким-либо причинам обмен, жертвование в целях получения прибыли, прекращается, то никакая редкость вожделенного объекта не может сделать его хозяйственной ценностью, пока такое отношение не станет вновь возможным. - Значение предмета для субъекта заключено всегда только в его вожделенности; в том, что он может нам дать, решающую роль играет его качественная определенность, а если мы его имеем, то в позитивном отношении к нему совершенно неважно, существуют ли еще другие экземпляры того же рода, будь то в большем или меньшем количестве, или их вообще нет. (Я не рассматриваю здесь по отдельности те случаи, когда сама редкость вновь становится родом качественной определенности, делающей предмет для нас достойным вожделения, подобно тому, как это происходит со старым почтовыми марками, диковинами, древностями, которые не имеют эстетической или исторической ценности, и т. п.). Впрочем, ощущение различия, которое необходимо для наслаждения в узком смысле слова, может быть повсеместно обусловлено редкостью объекта, т. е. тем, что наслаждаются им как раз не везде и не всегда. Однако это внутреннее психологическое условие наслаждения не становится практическим уже потому, что должно было бы повлечь за собой не преодоление, а консервацию и даже усиление редкости, чего, как показывает опыт, не происходит. Практически помимо прямого, зависящего от качества вещей наслаждения, речь может идти только о пути к получению такового. Коль скоро этот путь долог и труден, если требуется приносить жертвы, затрачивать терпение, испытывать разочарования, вкладывать труд, переносить неудобства, идти на отречения и т. д., то этот предмет мы называем «редким» . Непосредственно это можно выразить так: вещи труднодостижимы не потому, что они редки, напротив, они редки потому, что труднодостижимы. Сам по себе тот жесткий внешний факт, что запас определенных благ слишком мал, дабы удовлетворить все наши вожделения, направленные на них, не имел бы никакого значения. Есть много объективно редких вещей, которые не редки в хозяйственном смысле; а для хозяйственной редкости решающим обстоятельством является то, в какой мере для ее получения ее через обмен нужны силы, терпение, самоотдача - те жертвы, которые, конечно, предполагают вож-деленность объекта. Трудности с получением [вещи], т. е. величина приносимой в обмене жертвы есть подлинно конститутивный момент ценности, а редкость - лишь внешнее его проявление, лишь объективация в форме количества. Часто не замечают, что редкость как таковая является все-таки лишь негативным определением, сущим, характеризуемым через несущее. Однако несущее не может быть действенным, всякое позитивное следствие должно исходить от позитивного определения и силы, а это негативное [определение] есть как бы только тень позитивного. Но этими конкретными силами очевидно являются лишь те, которые вложены в обмен. Только нельзя полагать, будто характер конкретности принижается от того, что здесь он не связан с индивидом* как таковым. [Господствующая] среди вещей относительность занимает уникальное положение: она выходит за пределы индивида, существует <subsistiert> только в множестве как таковом и все-таки не является всего лишь понятийным обобщением и абстракцией.
В этом тоже выражается глубинная связь относительности с обобществлением, самым непосредственным образом делающая относительность наглядной на материале человечества: общество есть надъединичное, но не абстрактное образование. Благодаря обществу историческая жизнь оказывается избавленной от альтернативы: либо совершаться в одних лишь в индивидах <Individuen>, либо протекать в абстрактных всеобщностях; оно есть то всеобщее, которое одновременно имеет конкретную жизненность. Отсюда - и уникальное значение обмена для общества как хозяйственно-исторического осуществления относительности вещей: он выводит отдельную вещь <Ding> и ее значение для отдельного человека из ее единичности, но не в сферу всеобщего, а в живое взаимодействие, являющееся как бы телом хозяйственной ценности. Как бы точно ни были исследованы сущие сами по себе определения предмета, обнаружить хозяйственную ценность тем самым не удастся, так как она состоит исключительно во взаимоотношении, возникающем между многими предметами на основе этих определений, [причем] каждый предмет обусловливает другой и возвращает ему то значение, которое от него получает.
* В оригинале: «Einzelwesen» (буквально: «отдельная сущность»), что может означать и отдельную вещь, и человека как индивида.
Роберт Парк ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
I. ТКАНЬ ЖИЗНИ
Натуралисты прошлого века были чрезвычайно заинтригованы своими наблюдениями взаимосвязей и взаимосоответствий в царстве живой природы - многочисленностью и разнообразием повсюду распространившихся видов. Их последователи - сегодняшние ботаники и зоологи - обратили свое внимание к более специфичным исследованиям, и «царство природы», как и понятие эволюции, стало для них чем-то далеким и умозрительным.
«Ткань жизни», в которой все живые организмы (растения и животные) связаны воедино в обширной системе взаимозависимых жизней, все же является, по выражению Артура Томпсона, «одним из фундаментальных биологических понятий» и «столь же характерно дарвиновским, как и борьба за существование»*.
Знаменитый пример Дарвина с кошками и клевером - классическая иллюстрация этой взаимозависимости. Он обнаружил, как он говорит, что шмели просто необходимы для опыления анютиных глазок, так как другие пчелы не посещают этот цветок. То же самое происходит и с некоторыми видами клевера. Только шмели садятся на красный клевер; другие пчелы не могут добраться до его нектара. Вывод заключается в том, что если шмели станут редки или вообще исчезнут в Англии, редкими станут или же вовсе исчезнут и анютины глазки и красный клевер. Однако, численность шмелей в каждом отдельном районе в большой степени зависит от численности полевых мышей, которые разоряют их норы и гнезда. Подсчитано, что более двух третей из них таким образом уже разрушено по всей Англии. Гнезд шмелей гораздо больше возле деревень и малых городов, чем в других местах, и это благодаря кошкам, которые уничтожают мышей**. Таким образом, будущий урожай красного клевера в некоторых частях Англии зависит от численности шмелей в этих районах; численность шмелей зависит от количества полевых мышей, численность мышей - от числа и проворности кошек, а количество кошек, как кто-то добавил, - от числа старых дев, проживающих в окрестных деревнях, которые и держат кошек.
Эти длинные цепочки пищи, как их называют, каждое звено в которых поедает другое, имеют своим прототипом детское стихотворение «Дом, который построил Джек». Помните:
А это корова безрогая, Лягнувшая старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота. Который пугает и ловит синицу. Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится, В доме, Который построил Джек***.
*J. Arthur Thompson. The System of Animate Nature (Gifford Lectures, 1915-16), II (New York, 1920), 58.
** J. Arthur Thompson. Darvinism and Human Life. New York 1911 P. 52-53.
*** Перевод С. Маршака. (Прим, перев.).
Дарвина и его современников-натуралистов особенно интересовали наблюдения и описания подобных любопытных иллюстраций взаимной адаптации, взаимосвязи растений и животных, поскольку это, как им представлялось, проливает свет на происхождение видов. И виды, и их взаимозависимость в едином обиталище являются, по всей видимости, результатом все той же дарвиновской борьбы за существование.
Примечательно, что именно приложение к органической жизни социологического принципа, а именно - принципа «соревновательной кооперации» - дало Дарвину.первую возможность сформулировать его эволюционную теорию.
«Он перенес на органическую жизнь, - пишет Томпсон, - социологическую идею» и «тем самым доказал уместность и полезность социологических идей в области биологии»*.
* Ibid., P. 72.
Действующим принципом упорядочивания и регулирования жизни в царстве живой природы является, по Дарвину, «борьба за существование». С ее помощью регулируется жизнь многих организмов, контролируется их распределение и поддерживается равновесие в природе. Наконец, при помощи этой изначальной формы конкуренции существующие виды, те, кто выжил в этой борьбе, находят свои ниши в физической окружающей среде и в существующей взаимозависимости, или разделении труда между различными видами. Дж. Артур Томпсон приводит впечатляющее подтверждение тому в своей «Системе живой природы»:
«Множества живых организмов - ...не изолированные создания, ибо каждая жизнь переплетена с другими в сложной ткани... Цветы и насекомые пригнаны друг к другу, как рука к перчатке. Кошки так же имеют отношение к чуме в Индии, как и к урожаю клевера здесь... Так же, как взаимосвязаны органы тела, взаимосвязаны и организмы в мире жизни. Когда мы что-нибудь узнаем о подспудном обмене, спросе и предложении, действии и реакции между растениями и животными, цветами и насекомыми, травоядными и плотоядными, между другими конфликтующими, но взаимосвязанными интересами, мы начинаем проникать в обширную саморегулирующуюся организацию».
Эги проявления живого, изменяющегося, но устойчивого порядка среди конкурирующх организмов - организмов, воплощающих в себе «конфликтующие, но взаимосвязанные интересы» - являются, по всей видимости, основой для понятия социального порядка, относящегося к отдельным видам, и к обществу, покоящемуся, скорее, на биотическом, нежели культурном основании; это понятие позднее было разработано экологами применительно к растениям и животным.
В последние годы географы растений первыми возродили свойственный предшествующим естествоиспытателям определенный интерес к взаимосвязям видов. Геккель в 1878 году первым назвал такого рода исследования «экологией» и, тем самым, придал им характер отдельной самостоятельной науки, науки, которую Томпсон описывает как «новую естественную историю»*. Взаимосвязь и взаимозависимость видов, естественно, более очевидны и более тесны в привычном окружении, чем где бы то ни было еще. Более того, по мере увеличения числа взаимосвязей и уменьшения конкуренции в последовательности взаимных адаптации конкурирующих видов, окружающая среда и ее обитатели стремились принять характер более или менее совершенно закрытой системы.
В пределах этой системы индивидуальные единицы популяции вовлечены в процесс соревновательной кооперации, которая придает их взаимосвязям характер естественной экономии. Такого рода среду и ее обитателей - растения ли, животных или человека - экологи называют «сообществом».
Существенными характеристиками интерпретируемого таким образом сообщества являются: 1) популяция, территориально организованная, 2) более или менее полностью укорененная на земле, которую она занимает, 3) причем ее индивидуальные единицы живут в состоянии взаимозависимости, которая более симбиотична, нежели социеталь-на в том смысле, в каком этот термин применим к людям.
Эти симбиотические сообщества - не просто неорганизованные собрания растений и животных, которые по случайности сосуществуют в одной среде. Напротив, они взаимосвязаны самым замысловатым образом. У каждого сообщества есть что-то от органического образования. Оно обладает более или менее определенной структурой и «историей жизни, в которой прослеживаются периоды юности, зрелости и старости»**. Если это организм, то он - один из органов, какими являются и другие организмы. Это, выражаясь словами Спенсера, - суперорганизм.
* «Экология», - пишет Элтон, - соответствует ранее употреблявшимся терминам «естественная история» и «биономика», однако ее методы теперь более тщательны и точны». См. статью «Ecology» // Encyclopaedia Вгиапгаса (14th ed.)
** Edward J. Salisbury. Plants// Encyclopaedia Britannica (14th ed.).
Более чем что бы то ни было придает симбиотическому сообществу характер организма тот факт, что оно обладает механизмом (конкуренцией) для того, чтобы 1) регулировать свою численность и 2) сохранять равновесие между составляющими его конкурирующими видами. Именно благодаря поддержанию этого биотического равновесия сообщество сохраняет свою тождественность и целостность как индивидуальное образование и переживает все изменения и чередования, которым оно подвержено в процессе движения от ранних к поздним стадиям своего существования.
II. РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ
Равновесие в природе, как его понимают экологи животных и растений, во многом является вопросом численности. Когда давление популяции на природные ресурсы среды обитания достигает определенной степени интенсивности, неизбежно что-то должно произойти. В одном случае популяция может схлынуть и ослабить давление, мигрируя в другое место. В другом случае, когда нарушение равновесия между популяцией и природными ресурсами является результатом некоторого внезапного или постепенного изменения в условиях жизни, существовавшие до него отношения между видами могут быть полностью нарушены.
Причиной изменения может быть голод, эпидемия, вторжение в среду обитания чуждых видов. Результатом такого вторжения может быть резкое увеличение численности вторгшейся популяции и внезапное уменьшение численности изначально обитавшей в этой среде популяции, если не полное ее исчезновение. Определенного рода изменение является продолжительным, хотя иногда и варьирует существенно по времени и скорости. Чарльз Элтон пишет:
«Впечатление, возникающее у любого исследователя популяций диких животных, таково, что «равновесие в природе» вряд ли существует, разве что - в головах ученых. Кажется, что численность животных всегда стремится достичь слаженного и гармоничного состояния, но всегда что-нибудь случается и препятствует достижению этого счастья»*.
* «Animal Ecology», Ibid.
В обычных условиях эти малозначительные отклонения от биотического баланса опосредуются и поглощаются, не нарушая существующего равновесия и обыденности жизни. Но когда происходят внезапные и катастрофические изменения - война ли, голод или мор, - тогда нарушается биотический баланс, вдребезги разбиваются все традиции, и высвобождаются силы, доселе подконтрольные. Тогда могут последовать многие внезапные и даже губительные изменения, которые глубоко преобразуют существующую организацию коммунальной жизни и зададут другое направление развитию дальнейших событий.
Так, появление коробочного долгоносика на южных хлопковых плантациях - случай незначительный, но прекрасно иллюстрирующий принцип. Коробочный долгоносик пересек Рио Гранде в районе Браунсвилля летом 1892 года. К 1894 году он распространился уже на десяток графств в Техасе, поражая хлопковые коробочки и нанося огромный ущерб плантаторам. Его распространение продолжалось каждый сезон вплоть до 1928 года, когда он поразил практически все хлопкопроизводящие области Соединенных Штатов. Это распространение приняло форму территориальной сукцессии. Последствия для сельского хозяйства были катастрофическими, но не бывает худа без добра - это нашествие послужило толчком для начала уже давно назревших преобразований в организации производства хлопка. Оно также способствовало и переселению на север негритянских фермеров-арендаторов.
Случай с коробочным долгоносиком типичен. В нашем подвижном современном мире, где пространство и время сведены на нет, не только люди, но и все низшие организмы (включая микробы), кажется, как никогда, находятся в движении. Торговля, поступательно разрушая замкнутость, на которой основывался древний порядок в природе, усилила борьбу за существование и расширила арену этой борьбы в обитаемом мире. В результате этой борьбы появляется новое равновесие и новая система живой природы, новое биотическое основание для нового мирового общества.
Как отмечает Элтон, именно «колебания численности» и происходящие время от времени «сбои в механизме регуляции прироста численности животных» как правило прерывают установленный порядок вещей и, тем самым, начинают новый цикл изменений. По поводу этих колебаний численности Элтон пишет:
«Эти сбои в механизме регуляции прироста численности животных - обусловлены ли они (1) внутренними изменениями, вроде внезапно зазвонившего будильника или взорвавшегося парового котла, или же какими-либо факторами внешней среды - растительностью или чем-то в этом роде?»*.
* Ibid.
и добавляет:
«Оказывается, что эти сбои происходят и из-за внутренних, и из-за внешних факторов, но последние являются более существенными и обычно играют решающую роль».
Условия, воздействующие на передвижения и численность популяций и контролирующие их, в человеческих обществах более сложны, чем в растительных и животных сообществах, но обнаруживают и поразительные сходства с последними.
Коробочный долгоносик, перемещающийся из своей давным-давно обжитой среды на Мексиканское нагорье и на девственную территорию южных хлопковых плантаций и увеличивающий численность своей популяции соответственно новым территориям и их ресурсам, не так уж отличается от буров из Южноафриканской Капской провинции, прокладывающих себе путь на вельды (пастбища) Южноафриканского нагорья и заселяющих ее своими потомками в течение каких-нибудь ста лет.
Конкуренция в человеческом (как и в растительном или животном) сообществе стремится привести его к равновесию, восстановить его, когда в результате вторжения внешних факторов или в ходе обычной жизни сообщества это равновесие нарушается.
Таким образом, любой кризис, дающий начало периоду быстрых перемен и усиления конкуренции, в конце концов переходит в фазу более или менее стабильного равновесия и нового разделения труда. Таким способом конкуренция создает условие, при котором ее сменяет кооперация. Только когда конкуренция ослабевает (и только в той степени, в какой она ослабевает), можно говорить о существовании того типа порядка, который мы называем обществом. Короче говоря, с экологической точки зрения общество, постольку, поскольку оно является территориальным образованием, является просто областью, в которой биотическая конкуренция уменьшилась и борьба за существование приняла высшие, более сублимированные формы.
III. КОНКУРЕНЦИЯ, ГОСПОДСТВО Я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Существуют и другие, менее очевидные способы, посредством которых конкуренция контролирует отношения индивидов и видов в коммунальной среде. Два экологических принципа - господство и последовательность, - стремящиеся к установлению и поддержанию такого коммунального порядка, являются функциями конкуренции и зависят от нее.
В каждом сообществе живых организмов всегда есть один (или более) господствующий вид. В растительном сообществе такое господство - результат борьбы различных видов за солнечный свет. В климате, благоприятствующем росту леса, господствующим видом, безусловно, будут деревья. В степях и прериях господствующими будут травы.
«В сообществе растений, где солнечный свет является основной потребностью, господствующим будет самое высокое из всех растений, которое сможет вытянуть свои энергетические ловушки поверх голов других. Второстепенное использование может заключаться в использовании тусклого света под сенью более высоких крон. Нечто похожее происходит в любом сообществе живых организмов на земле, в поле, как и в лесу, есть уровни растительности, адаптировавшиеся к существованию с менее интенсивным освещением, чем растения, стоящие на уровень выше. Как правило существует два или три таких уровня; в дубровнике, например, есть уровень мха, над ним - травы, и низкий кустарник, а затем - ничего, до самых крон; на пшеничном поле господствующей формой будет пшеница, а ниже, между ее стеблей, - сорняки. А в тропических лесах все пространство от пола до крыши поделено на зоны и населено»*.
* Н. G. Wells, Julian S. Huxley, and G. P. Wells. The Science of Life. New York, 1934. P. 968-969.
Но принцип господства действует в человеческих сообществах так же, как и в сообществах растений и животных. Так называемые естественные или функциональные области городского сообщества - например, трущоба, район доходных домов, центральные торговые ряды и центральный район банков - каждый из этих районов обязан своим существованием непосредственно фактору господства, и опосредованно - конкуренции.
Борьба производственных и коммерческих институтов за стратегическое местоположение определяет в перспективе и основные очертания городского сообщества. Распределение населения, равно, как и местоположение и границы занимаемых им областей расселения, определяются другой, схожей, но подчиненной системой сил.
Господствующим районом в любом сообществе является, как правило, тот, где самые высокие цены на землю. В любом большом городе есть обычно два таких положения с самыми высокими ценами на землю - это центральный торговый район и центральный район банков. Начиная с этих позиций цены на землю снижаются, сначала резко, а затем - постепенно, по мере приближения к периферии городского сообщества. Именно эти цены на землю определяют местоположение социальных институтов и деловых предприятий. И те, и другие взаимосвязаны в едином своеобразном территориальном комплексе, внутри которого они являются одновременно и конкурирующими, и взаимозависимыми образованиями.
По мере расширения городского сообщества в сторону пригородов давление профессиональных сообществ, деловых предприятий и разного рода социальных институтов, призванных обслуживать весь метрополитенский регион, постепенно усиливает их потребность пространства именно в центре. Таким образом, не только увеличение пригородной зоны, но и любое изменение в способах передвижения, делающее деловой центр города более доступным, увеличивает давление на центр. Отсюда это давление передается и распространяется, как показывает профиль цен на землю, на все остальные части города.
Тем самым принцип доминирования, действующий в границах, обусловленных территорией и другими естественными характеристиками местоположения, в целом определяет и общий социологический тип города и функциональное отношение различных частей города между собой.
Более того, доминирование, поскольку оно стремится стабилизировать биотическое или культурное сообщество, косвенным образом отвечает и за феномен наследственности.
Термин «наследственность» экологи используют для описания и обозначения той упорядоченной последовательности изменений, через которою проходит биотическое сообщество в своем развитии от начальной и сравнительно нестабильной к относительно устойчивой стадии или к высшей стадии. Суть в том, что не только отдельные растения или животные растут в среде сообщества, но и само сообщество - система отношений между видами - как бы вовлечено в упорядоченный процесс изменения и развития.
Тот факт, что в ходе этого развития сообщество проходит через целый ряд более или менее определенных стадий, придает этому развитию циклический характер, как раз и предполагаемый понятием «наследственность».
Объяснением цикличности изменений, составляющих наследственность, может служить тот факт, что на каждой стадии этого процесса достигается более или менее устойчивое равновесие, которое образуется в ходе последовательных изменений в условиях жизни и как результат этих изменений, а равновесие, достигнутое на ранних стадиях тем самым нарушается. В этом случае силы, доселе сдерживаемые равновесием, высвобождаются, конкуренция усиливается, изменение происходит относительно быстро до тех пор, пока не установится новое равновесие.
Наивысшая стадия развития сообщества соответствует поре зрелости в жизни индивида.
«В развивающемся отдельно взятом организме каждая стадия развития самореализуется и дает начало новой стадии: так, головастик отращивает щитовидную железу, которая предназначена для того, чтобы перейти из состояния головастика к состоянию лягушонка. То же самое происходит и в развивающемся сообществе организмов - каждая стадия изменяет свою среду обитания, поскольку изменяет и почти необратимо обогащает почву своего произрастания, тем самым фактически приближаясь к собственному завершению, и создает возможность для новых видов растений с большими потребностями в минеральных солях или каких-либо других свойствах почвы для своего процветания на ней. Соответственно, большие и более прихотливые растения постепенно вытесняют предшествующих им первопроходцев до тех пор, пока, наконец, не установится равновесие - предельная возможность для данного климата.»*
* Ibid., pp. 977-78.
Культурное сообщество развивается сходным с биотическим сообществом образом, однако, несколько сложнее. Изобретения, равно как и внезапные катастрофические изменения, видимо, имеют более важное значение для появления циклических изменений в культурном соообществе, нежели в биотическом. Но сам принцип появления изменений в сущности тот же. Во всяком случае, все, или большинство наиболее существенных процессов функционально связаны с конкуренцией и зависят от нее.
Конкуренция, которая на биотическом уровне функционирует в целях контроля и регулирования отношений между организмами, на социальном уровне стремится принять форму конфликта. На тесную связь между конкуренцией и конфликтом указывает тот факт, что война зачастую, если не всегда, имеет, или предполагает, своим источником экономическую конкуренцию, которая в этом случае принимает более сублимированную форму борьбы за власть и престиж. Социальная функция войны, с другой стороны, судя по всему, расширяет сферу, в пределах которой возможно сохранение мира.
IV. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Если, с одной стороны, давление населения дополняется изменениями локальной и более широкой среды так, что в одночасье нарушается биотический баланс и социальное равновесие, это, в то же время, усиливает и конкуренцию. А это косвенным образом приводит к новому, более сложному и одновременно территориально более экстенсивному разделению труда.
Под влиянием усилившейся конкуренции и увеличившейся активности, предполагаемой этой конкуренцией, все индивиды и все виды, каждый по-своему, стремятся найти свою особую нишу в физической и жилой среде, где он сможет выжить и процветать в наибольшей степени, соответствующей его неизбежой зависимости от своих соседей.
Именно так устанавливается и поддерживается территориальная организация и биологическое разделение труда в среде сообщества. Это объясняет, хотя бы отчасти, тот факт, что биотическое сообщество одно время воспринималось как нечто вроде сверхорганизма, а затем и как экономическая организация для эксплуатации природных ресурсов своей среды обитания.
X. Дж. Уэллс со своими сотрудниками Джулианом Хаксли и Дж. П. Уэллсом в интересном обзоре под названием «Наука жизни» описывают экологию как «биологическую экономику», которая занимается в большей мере «балансами и взаимным давлением друг на друга видов, обитающих в одной среде»*.
* Ibid.
«Экология, - пишут они, - это распространение экономики на все живое». С другой стороны, наука экономики в традиционном смысле, несмотря на то, что она на целое столетие старше экологии, является просто отраслью более общей науки экологии, которая включает человека вместе со всеми живыми существами. В известном смысле то, что традиционно описывалось как экономика и строго привязывалось к деятельности человека, можно вполне описать и как экологию человека, как несколько лет назад Бэрроуз описал географию. Именно в этом смысле и используют этот термин Уэллс и его соавторы.
«Наука экономики - сначала ее называли политической экономией - на столетие старше экологии. Она была и остается наукой о социальном жизнеобеспечении, о потребностях и их удовлетворении, о труде и богатстве. Она стремится прояснить отношения производителя, торговца, потребителя в человеческом сообществе и показать, как держится вся система. Экология расширяет это исследование до всеобщего изучения отдачи и получения, усилия, накопления и потребления во всех уголках жизни. Экономика, поэтому, есть лишь экология человека, это узкое и специальное изучение в рамках экологии весьма своеобразного сообщества, в котором мы живем. Она могла бы, стать лучшей и более ясной наукой, если бы она начиналась с биологических основ»*.
* Н. Н. Barrows. Geography as Human Ecology // Annals Association American Geographers, 13 (1923): 1-14. See H. G. Wells, et al., pp. 961 - 962.
Поскольку экология человека не может быть одновременно и географией, и экономикой, можно принять в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что она не является ни тем, ни другим, но представляет собой нечто независимое от обеих. Но и тогда причины отождествления экологии с географией, с одной сторны, и с экономикой - с другой, достаточно очевидны.
С точки зрения географии растение, животное и популяция людей вместе с ее обиталищем и другими свидетельствами человеческого пребывания на земле являются лишь частью ландшафта, к детальному описанию и представлению которого и стремится географ.
С другой стороны, экология (биологическая экономика), даже когда она включает в себя некую неосознанную кооперацию и естественное, спонтанное и нерациональное разделение труда, представляет собой нечто отличное от коммерческой экономики, нечто не укладывающееся в рамки торговли на рынке. Коммерция, как отметил где-то Зим-мель, - одно из более поздних и наиболее сложных социальных отношений, которые усвоили люди. Человек - это единственное животное, которое торгуется и обменивается.
Экология и экология человека, если она не отождествляется с экономикой на специфически человеческом и культурном уровне, отличается все же и от статического порядка, обнаруживаемого социальным географом, когда тот описывает культурный ландшафт.
Сообщество, описываемое географом отличается от сообщества описываемого экологом, хотя бы по той причине, что закрытая система с сетью коммуникаций, распространенная человеком по всей земле - это не то же, что и «ткань жизни», связывающая живые существа по всему свету жизненными узами.
V. СИМБИОЗ И ОБЩЕСТВО
Экология человека, не отождествляемая ни с экономикой, ни с географией, как таковая отличается во многих отношениях и от экологии растений и животных. Взаимоотношения между людьми и взаимодействие человека со средой обитания сопоставимы, но не тождественны отношениям других форм жизни, живущих совместно и осуществляющих нечто вроде «биологической экономии» в пределах общей среды обитания.
Прежде всего, человек не столь непосредственно зависит от своего физического окружения, как другие животные. Благодаря существующему всеобщему разделению труда, отношение человека к его физическому окружению опосредовано вторжением другого человека. Обмен товарами и услугами способствовал его освобождению от зависимости от его локального окружения.
Более того, человек, благодаря изобретениям и различного рода техническим изыскам развил невероятную способность преобразовывать не только свое непосредственное окружение и реагировать на него, но осваивать свой мир. Наконец, человек воздвиг на основе биотического сообщества институциональную структуру, укорененную в традиции и обычае.
Структура, там, где она существует, сопротивляется изменению, по меньшей мере - изменению, навязываемому извне; тогда как внутренние изменения она, вероятно, стремится накапливать*. В сообществах растений и животных структура предопределена биологически и, в той мере, в какой вообще существует разделение труда, она имеет физиологические и инстинктивные основания. Одним из самых любопытных примеров этого факта могут служить социальные насекомые, а одной из причин изучения их повадок, как отмечает Уилер, является то, что они показывают, до какой степени социальная организация может быть развита начисто физиологическом и инстинктивном основании; то же самое можно отнести и к людям, находящимся в естественной семье, в отличие от институциональной**.
* Это, очевидно, является еще одним свидетельством той органической природы взаимодействий организмов в биосфере, которую отмечают Артур Томпсон и другие. Она указывает на тот способ, каким конкуренция опо-средует влияния извне, приспосабливая вновь и вновь отношения внутри сообщества. В этом случае «внутри» совпадает с траекторией процесса конкуренции, постольку, поскольку результаты этого процесса существенны и очевидны. Сравни также с зиммелевским определением общества и социальной группы в пространстве и времени, приведенном во «Введении в науку социологии» Парка и Бэрджесса (2-е изд.), ее. 348-356.
** William Morton Wheeler. Social life among the Insects. - Lowell Institute Lectures, March, 1922. - pp. 3-18.
Однако в случае человеческого общества эта структура сообщества подкрепляется обычаем и приобретает институциональный характер. В человеческих обществах, в отличие от сообществ животных, конкуренция и индивидуальная свобода ограничиваются обычаем и консенсусом на каждом уровне, следующим за биотическим.
Случайность этого более или менее произвольного контроля, который обычай и консенсус налагают на естественный социальный порядок, усложняет социальный процесс, но не меняет его существенно, а если и меняет, то результаты биотической конкуренции проявят себя в последующем социальном порядке и в ходе последующих событий.
Таким образом, можно считать, что человеческое общество, в отличие от сообществ растений и животных, организовано на двух уровнях - биотическом и культурном. Есть симбиотическое общество, основанное на конкуренции, и культурное общество, основанное на коммуникации и консенсусе. По сути дела эти два общества являются лишь разными аспектами одного общества, они, несмотря на все перипетии и изменения, остаются, тем не менее, в определенной зависимости друг от друга. Культурная над-структура основывается на симбиотической подструктуре, а возникающие силы, которые проявляются на биотическом уровне как передвижения и действия, на высшем, социальном, уровне принимают более утонченные, сублимированные формы.
Однако, взаимоотношения людей гораздо более разнообразны и сложны, они не сводятся к этой дихотомии - симбиотического и культурного. Этот факт находит подтверждение в самых различных системах человеческих взаимоотношений, которые выступают предметом специальных социальных наук. Поэтому следует иметь в виду, что человеческое общество, в его зрелом и более рациональном виде, представляет собой не только экологический, но и экономический, политический и моральный порядки. Социальные науки состоят не только из социальной географии и экологии, но из экономики, политических наук и культурной антропологии.
Примечательно, что эти различного рода социальные порядки организованы в своего рода иерархию. Можно сказать, что они образуют пирамиду, основанием которой служит экологический порядок, а вершиной - моральный. На каждом из последовательно расположенных уровней - на экологическом, экономическом, политическом и моральном - индивид оказывается полнее инкорпорированным в социальный порядок, более подчиненным ему, нежели на предшествующем уровне.
Общество повсюду является организацией контроля. Его функция состоит в том, чтобы организовывать, интегрировать и направлять усилия составляющих его индивидов. Наверное, можно сказать и так, что функцией общества везде является сдерживание конкуренции и, тем самым, установление более эффективной кооперации органических составляющих этого общества.
Конкуренция на биотическом уровне, как это наблюдается в растительных и животных сообществах, представляется относительно неограниченной. Общество, по факту своего существования, является анархичным и свободным. На культурном уровне эта свобода индивида конкурировать сдерживается конвенциями, пониманием и законом. Индивид более свободен на экономическом уровне, чем на политическом, и более свободен на политическом, нежели на моральном.
По мере развития общества контроль все более распространяется и усиливается, свободная коммерческая деятельность индивидов ограничивается, если не законом, то тем, что Джильберт Мюррей называет «нормальным ожиданием человечества». Нравы - это лишь то, чего люди привыкли ожидать в определенного рода ситуации.
Экология человека, в той мере, в какой она соотносится с социальным порядком, основанным более на конкуренции, нежели на согласии, идентична, по крайней мере в принципе, экологии растений и животных. Проблемы, с которыми обычно имеет дело экология растений и животных, - это, по сути, проблемы популяции. Общество, в представлениях экологов, - это популяция оседлая и ограниченная местом своего обитания. Ее индивидуальные составляющие связаны между собой свободной и естественной экономикой, основывающейся на естественном разделении труда. Такое общество территориально организованно, и связи, скрепляющие его, скорее физические и жизненные, нежели традиционные и моральные.
Экология человека, однако, должна считаться с тем фактом, что в человеческом обществе конкуренция ограничивается обычаем и культурой. Культурная надструктура довлеет как направляющая и контролирующая инстанция над биотической субструктурой.
Если человеческое сообщество свести к его элементам, то можно его себе представить как состоящее из населения и культуры, последняя, при этом, включает в себя 1) совокупность обычаев и верований, 2) соответствующую первой совокупность артефактов и технологических изобретений.
К этим трем элементам, или факторам, - населению, артефактам (технологической культуре) и обычаям и верованиям (нематериальной культуре) - составляющим социальный комплекс, следует, наверное, добавить и четвертый, а именно - природные ресурсы среды обитания.
Именно взаимодействие этих четырех факторов - населения, артефактов (технологической культуры), обычаев и верований (нематериальной культуры) и природных ресурсов - поддерживает одновременно и биотический баланс, и социальное равновесие всегда и везде, где они существуют.
Изменения, которые интересны для экологии, - это движение населения и артефактов (товаров), это изменения в местоположении и занятии - фактически любое изменение, которое влияет на сложившееся разделение труда или отношение населения к земле.
Экология человека по сути своей является попыткой исследовать процесс, в котором биотический баланс и социальное равновесие 1) сохраняются, как только они установлены и 2) процесс перехода от одного относительно стабильного порядка к другому, как только биотический баланс и социальное равновесие нарушены.
ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
Основную часть книги образуют переводы работ современных теоретиков.
Библиографическое оформление этих переводов было по возможности унифицировано. Списки используемой литературы размещаются в конце каждой статьи в алфавитном порядке. В ряде случаев они дополнены библиографическими описаниями русских переводов цитируемых произведений. В переводах классических сочинений библиографическое оформление соответствует оригиналу.
В наиболее сложных теоретических работах необходимые для понимания по-русски, но отсутствующие в оригинале слова или фрагменты фраз заключены в квадратные скобки.
Отточия в квадратных скобках означают незначительные сокращения. В угловые скобки заключены слова на языке оригинала, если перевод предполагает возможные разночтения или нуждается в соответствующем уточнении.
ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ
Первоначальный замысел этой книги был связан с публикацией под одной обложкой ряда социологических работ, опубликованных в русских переводах в альманахе THESIS. В конечном счете было отобрано только три из них, вошедших в выпуск № 4 за 1994 г. («Научный метод»):
Р. Коллинз. Социология: наука или антинаука? (CollinsR. Sociology: Pro-science or Antiscience? // American Sociological Review, 1989, vol. 54 (February). P. 124-139), THESIS. № 4. C. 71-96; Г. Терборн. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке (Goran Therborn. Cultural Belonging, Structural Location and Human Action. Explanation in Sociology and in Social Science //Acta Sociologica. 1991. Vol. 34. No 3. P. 177-192). THESIS, № 4. C. 97-118; Дж. Тернер. Аналитическое теоретизирование (Jonathan Turner. Analytical Theorizing// Social Theory Today / Ed. by Giddens A., Turner J. Stanford: Polity Press, 1987. P. 156-194). THESIS. № 4. C. 119-157. Для данного издания эти переводы были заново сверены и отредактированы. Печатаются с разрешения издателей THESIS'а.
РаботаМ Арчер «Реализм и морфогенез» (Realism and Morphogenesis) была получена в рукописи в 1994 г., еще до выхода книги: Archer Margaret S. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, в которой она должна была стать пятой главой. В русском переводе частично опубликована в «Социологическом журнале». 1994. № 4. С. 50-68. Для данного издания редактором были частично переработаны, а частично переведены заново некоторые фрагменты, выпущенные в первой публикации. Весь перевод был сверен и основательно отредактирован.
Статья Г. Вагнера «Социология: к вопросу о единстве дисциплины» (Gerhard Wagner. Soziologie: Uberlegungen zur Einheit des Faches. Ms. 1995) была написана по моей просьбе и предоставлена в рукописи. В русском переводе впервые опубликована в «Социологическом журнале», 1996, № ѕ. С. 60-83 Для настоящего издания перевод заново сверен.
Статья Ф. Макнотена и Дж. Урри «Социология природы» (PhilMacnagh-ten, John Urry. A Sociology of Nature) была предоставлена в рукописи по моей просьбе в 1995 г. специально для данного издания. Перевод публикуется впервые.
Отдельная история связана с публикацией работы Н. Лумана «Теория общества» (Nik/as Luhmann. Theorie der Gesellschaft. Fassung San Foca' 89). Рукопись я получил от Лумана в феврале 1991 г. Он отнюдь не радовался возможной публикации на русском языке, потому что считал свое сочинение еще далеко не доработанном. Луман много раз перерабатывал рукопись, использовал как основу для курсов лекций, читанных, прежде всего, в Билефельде, но также и в других университетах; в частности, он работал над ней в Италии (отсюда подзаголовок: «Вариант San Foca' 89»), с которой вообще связывал в это время много не сбывшихся позже планов. Поддавшись на мои уговоры, он просил только предуведомить читателя, что это далеко еще не зрелый плод его труда. Однако, когда в 1997 г. вышла монументальная монография Лумана «Общество общества» (Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp), я сравнил тексты первой главы имеющейся у меня рукописи и окончательного варианта. Мне показалось, что выбранные для перевода параграфы если и отличаются от книжного текста, то очень незначительно. Таким образом, не нарушая волю автора, я все-таки могу уверить читателя в том, что он держит в руках отнюдь не полуфабрикат теории. К сожалению, известить Лумана о готовящейся публикации я уже не смог. Он скончался в ноябре 1998 г.
Статья Гая Оукса «Прямой разговор об эксцентричной теории» (Guy Oakes. Straight Thinkinh about Queer Theorizing) была предоставлена в рукописи по моей просьбе. Перевод публикуется впервые.
Работу над переводом «Философии денег» Георга Зиммеля я начал очень давно, перспективы ее завершения далеко не ясны. Между тем, интерес именно к этой книге Зиммеля заметно растет. Не имея возможности удовлетворить ожиданиям коллег полным текстом, я все-таки надеюсь, что этот небольшой фрагмент (представляющий собой две трети первой главы книги) окажется небесполезным. Перевод сделан по изданию: Georg Simmel. Philosophic des Geldes. Zweite, vermehrte Auflage. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1907. S. in-ГХ, 3-61. Сверен по изданию: SimmelG. Philosophic des Geldes / Hrsgg. v. David P. Frisby und Klaus Christian Kohnke. Ge-org Simmel Gesamtausgabe / Hrsgg. v. Otthein Rammstedt. Bd. 6. Frankfurt a.M.: Suhrlamp, 1989. S. 9-14, 23-92.
Перевод статьи Робрета Парка «Экология человека» был выполнен специально для настоящего издания и публикуется впервые. Перевод сделан по изданию: Robert E. Park. Human Ecology // Rober E. Park. On Social Control and Collective Behavior. Selected Papers / Edited and with an Introduction by Ralph H. Turner. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1967. P. 69-84.
А. Филиппов
ОБ АВТОРАХ
Маргарет Арчер (Margaret Archer) - профессор университета Уорика (Warwick), Великобритания. Основные публикации: Social Origins of Educational Systems. London: Sage, 1979; Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Герхард Вагнер (Gerhard Wagner) - приват-доцент Билефельдского университета (Bielefeld), ФРГ. Основные публикации: Geltung und normativer Zwang. Freiburg / Milnchen: Karl Alber, 1987; Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwindung der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
Рэндал Коллинз (Randall Collins) - профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: Collins R. Sociology since Midcentury. Essays in Theory Cumulation. N.Y.: Academic Press, 1981; Theoretical Sociology. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
НикласЛуман (NiklasLuhmann) (1927-1998) - в 1968-1993 гг. - профессор Билефельдского университета, ФРГ. Основные публикации: Sozio-logische Aufklarung. Bde. 1-6. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1970-1995; Gesellschaftstruktur und Semantik. Bde. 1-4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1980- 1995; Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984 и др.
Фил Макнотен (PhilMacnaghten) - сотрудник Ланкаширского Центра исследований изменений окружающей среды, Ланкастерский университет (Lancaster), Великобритания. Основная публикация: Contested Natures (соавтор - J. Urry). London: SAGE, 1998.
Гай Оукс (Guy Oakes) - профессор Монмутского (Monmouth) университета, США. Переводчик сочинений Зиммеля и Риккерта. Основные публикации, помимо переводов: Weber and Rickert. Concept Formation in the Cultural Sciences. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1988; The Imaginary War: Civil Defense and American cold war culture. N.Y.: Oxford University Press, 1994; The Soul of the Salesman : The Moral Ethos of Personal Sales. Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press International, 1990.
Гёран Терборн (Goran Therborn) - профессор Уппсальского (Uppsala) университета, Швеция. Основные сочинения: The Ideology of Power and the Power of Ideology. London: NLB, 1980; What Does the Ruling Class Do When It Rules? London: Verso, 1980; European Modernity and Beyond: the Trajectory of European Societies, 1945-2000. London: Sage, 1995
Джонатан Тернер (Jonathan Turner) - Профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: The Body and Society. Oxford: Blackwell, 1986; A Theory of Social Interaction. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1988; The Strcuture of Sociological Theory. 5th ed. Belmont, Ca.: Wadsworth, 1991.
Джон Урри (John Urry) - профессор Ланкастерского университета, Великобритания. Основные публикации: The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society. London: Sage, 1990; Economies of Signs and Space (соавтор - S. Lash). London: Sage, 1994. Consuming Places. London: Routledge, 1995.
Памяти Никласа Лумана
Никлас ЛУМАН 8.12.1927-6.11.1999
Скончался Никлас Луман. Социологов такого масштаба после второй мировой войны было совсем немного, и ничто не предвещает появления в ближайшем будущем фигуры даже не равновеликой, а хотя бы только сопоставимой с ним по дарованию и продуктивности.
Странные чувства вызывает известие о его кончине. Помимо обычных, человеческих - сожаления и горечи - еще и удивление. Кажется почти невероятным, что остановился поток публикаций, что каждый новый год не принесет одну-две новые книги Лумана. За удивлением следует - как бы кощунственно это ни звучало - своеобразное удовлетворение, вроде того, какое высказала Марина Цветаева, узнав что Волошин умер в полдень - «в свой час». Последняя книга Лумана, более чем тысячестраничная монография «Общество общества»*, так и выглядит - как последняя книга, монументальный труд, итог грандиозного проекта, дело всей жизни. Считать ли ее вершиной творчества или отчаянной неудачей (оценки книги сильно разнятся), все равно несомненно, что это - завершение, после которого могло следовать лишь новое, неожиданное начало. Огромный труд исчерпал видимые возможности теории и жизненные силы теоретика. Структурная связка аутопойесиса жизни и аутопойесиса теории была столь совершенна, что завершение труда и завершение жизни не могли не совпасть.
* Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997.
Писать о Лумане безотносительно к его трудам, даже по столь скорбному поводу, кажется, почти невозможно. Но труды остаются с нами - оборвалась жизнь: что мы скажем о ней? То же, что и о любом профессоре: диплом - диссертация - профессура? Случай Лумана, впрочем, несколько особый: то, что у других ученых растягивается на годы, у него спрессовано в наикратчайший период, которому предшествует необыкновенно затянувшееся начало и за которым уже не следует никаких изменений: в 1968 г. Луман получает профессуру в новом, только что основанном Биле-фельдском университете и остается там четверть века до выхода на пенсию. Профессуре предшествует (в 1966 году) защита диссертаций - в высшей степени необычная, а по нынешним представлениям в Германии попросту невозможная: обе диссертации (Promotion, дающая докторскую степень, и Habilitation, открывающая путь к профессуре) защищаются с перерывом всего в полгода. В том, что это удалось, заслуга не только Лумана, но и виднейшего немецкого социолога X. Шельски, основателя Билефельд-ского университета. Шельски замечает Лумана еще раньше - точная дата их знакомства мне неизвестна, но то обстоятельство, что Луман еще до получения ученых степеней становится (в 1965 году) руководителем подразделения Центра социальных исследований в Дортмунде, который возглавляет Шельски, достаточно примечательно. А что до этого? Сотрудничество с Высшей школой наук управления в Шпейере, где в это время профессорствует знаменитый Арнольд Гелен, старший друг и коллега Шельски, в соавторстве с которым он, в частности, написал первый учебник по социологии в послевоенной Германии. Установить, откуда тянется ниточка знакомств и важных связей, невозможно: краткие биографии Лумана только сообщают нам, что в Шпейере он оказывается через год после возвращения из США, где в 1960-61 гг. учится (слово сомнительное: не студентом же он туда поехал! возможно, мы бы назвали это стажировкой) у Толкота Парсонса. В это время Луман уже зрелый человек, за его плечами не только учеба на юридическом факультете Фрайбургского университета, но и почти десяток лет ответственной чиновничьей работы (к 1962 г. он занимает пост старшего правительственного советника в министерстве культов земли Нижняя Саксония). Собственно, как чиновник он и устроил себе стажировку: «Я сидел и оформлял документы для тех, кто собирался учиться в Америке, - рассказывал он впоследствии. - Мне пришло в голову, что я могу сделать то же и для себя». Все просто, если только не принимать в расчет, что преуспевающий чиновник, профессиональный юрист вдруг круто меняет всю свою жизнь. Что должно было произойти, какие предпосылки определили этот выбор? Что там в прошлом, до этого?
Он родился в семье пивовара в Люнебурге, родном городе Генриха Гейне. Впрочем, о последнем обстоятельстве Луман не знал*. Гейне и так-то не очень почитаем в Германии, но тут другое: все сознательное детство Лумана приходится на эпоху нацизма, правда, он посещает классическую гимназию и даже на старости лет не отказывает себе в удовольствии проспрягать для куда менее образованных современных студентов какой-нибудь греческий глагол. Но он не принадлежит по происхождению к образованному бюргерству. Как и многие послевоенные социологи, он чуть ли не первый в своем роду, кто получает университетское образование.
* Я как-то случайно выяснил это в разговоре.
Однако, до университета еще надо просто дожить, хотя, в отличие от Гелена и Шельски, воевавших на Восточном фронте, Лумана война, так сказать, задевает только краем. Шельски в середине 70-х напишет: «Вообще-то меня должны были закопать в Восточной Пруссии». Луман же, которого в 1944 г. забирают в армию, не дав закончить гимназию, служит помощником авиационного техника в самой Германии, остро ощущает абсурд происходящего и в 1945 г., подобно многим сверстникам, ищет только возможности сдаться в плен американцам или англичанам и уцелеть. В конце концов, ему это удается.
Он заканчивает учебу в университете в год образования обеих Германий - Федеративной и Демократической; и всего только за два с небольшим года до выхода на пенсию успевает сказать прощальное слово той старой, «неполной» Федеративной Республике, в которой прошла вся его взрослая жизнь. Луман - социолог ФРГ в самом прямом смысле этого слова. И вместе с тем его интерес к социологии вообще довольно типичен для людей его поколения и его круга. Типичен-то он типичен, но было ли его решение необходимым? Сам Луман, наверное, не удержался бы здесь от ехидных замечаний. Одно из основных понятий его концепции - «Kontingenz», что можно перевести как «ненеобходимость». В мире нет ничего прочного, субстанциального, неизменного. Существование каждого человека контингентно хотя бы потому, что само его появление на свет стало следствием стечения множества обстоятельств.
Какое-то предощущение своего призвания, у него, видимо, сложилось все-таки очень рано. Известно, что Луман уже в 1952- 53 гг. начинает создавать свои знаменитые картотечные ящики. Именно создавать, потому что ничего похожего не было ни раньше, ни позже. Правда, эта первоначальная картотека, видимо, еще не похожа на позднейшую, в ней больше сходства с обычными подборками карточек, которые ведет для себя любой ученый. На карточках - прежде всего цитаты. Картотека служит упорядочиванию чужих идей. «Настоящая» картотека Лумана появляется позже. Своеобразие ее в том, что она служит прежде всего организации идей самого теоретика, а не чьих-то еще. Представьте себе компьютер, в котором каждый текстовый файл содержит лишь небольшое суждение или группу суждений (иногда - вместе с отсылками к литературе) и может находиться лишь на строго определенном месте, в директории (папке), субдиректории и т. п., в соответствии со своим содержанием. При этом он, с одной стороны, подобно гипертексту, содержит «линки», отсылающие к другим файлам и директориям, а с другой, - сам может выступать не только как файл, но и как директория. Изначально количество директорий невелико и хорошо упорядочено, однако затем они начинают наполняться файлами (которые тоже становятся - или не становятся - директориями), члениться все дальше и дальше; здесь образуются новые и новые пересечения и отсылки. Вот это и есть идея картотеки Лумана. Поначалу теория организована только в самом общем виде. С течением времени теоретику приходит в голову больше идей, некоторые старые идеи, казавшиеся лишь элементом рассуждения, влекут за собой целые серии новых рассуждений, каждое суждение, записанное на карточке, снабжено четкой системой отсылок, позволяющей в считанные минуты извлекать и затем снова ставить на место все карточки - повторим еще раз: с собственными суждениями теоретика! - которые имеют отношение к предмету его работы в данный момент. Текст для публикации, по идее, образуется, в основном, из множества мелких фрагментов, работа над которыми занимает основное время. Это компьютер без компьютера, это рабочий инструмент человека, еще в начале 90-х гг. предпочитавшего всем новинкам оргтехники электрическую пишущую машинку. Сама идея не проста, но ее реализация бесконечно сложна. Сложность возникает из-за все увеличивающегося количества карточек и связей между ними. Картотека воплощает одну из основных категорий Лумана - «сложность», «комплексность» («Komplexitat»). Сложна картотека, сложна теория, сложен мир, упростить который пытается сложная теория. Теория и ее картотека, однако, суть составляющие мира, они одновременно и уменьшают («редуцируют») и увеличивают его сложность.
Как можно было додуматься до этого, самое позднее, в конце 50-х? Как можно было, додумавшись, воплотить замысел хотя бы даже в первоначальной форме? Как можно было поддерживать, развивать этот замысел на протяжении почти четырех десятилетий?
Кажется, ответ есть только на последний вопрос. К середине 60-х годов у Лумана, можно сказать, кончается биография. «Биографии, - говорит он, - суть в большей мере цепочки случайностей, которые организуются в нечто такое, что затем постепенно становится менее подвижным». Биография Лумана почти неподвижна с конца 60-х гг. Мы узнаем из посвящения к книге «Функция религии»*, что в 1977 г. скончалась его жена. Вдовец с тремя детьми так и не женится больше, и не один дружелюбный коллега в Билефельде полусочувственно, а скорее осуждающе расскажет вам, что детьми Луман совсем не занимается, предоставив их попечению домработницы. Он живет в Орлингхаузене**, городке, где когда-то был укоренен род Макса Вебера по отцовской линии. Дом Лумана стоит на улице, названной в честь жены Макса, Марианны. На большом участке земли мог бы поместиться еще один дом - так и было задумано, но не состоялось, семейство не разрастается.
* Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977.
** Oerlinghausen, дифтонг в начале произносится как «ё» в имени Гёте.
Луман, подобно Максу Веберу, не хлопочет за своих учеников, не сколачивает школы, больше похожей на мафиозный клан, как это сплошь и рядом случается в современной науке*. Он агрессивен в теории и любезен в жизни. Его атакуют, его идеи вызывают раздражение. Ему указывают на слабости теории, на ошибки в аргументации, на то, что «редукция комплексности» - это переряженное понятие «разгрузки» философской антропологии Гелена. Луман постоянно отбивается, он вступает в жесткую полемику с Хабермасом**, задавшую стиль теоретическим дискуссиям чуть ли не на два десятилетия. Луман постоянно совершенствует, меняет, развивает теорию. Оппоненты выдыхаются. Они не поспевают за Луманом: только что он говорил об открытых системах в духе Берталанфи - и вдруг нечувствительно усваивает феноменологию позднего Гуссерля; только что его феноменологические штудии были подвергнуты критике, а он уже говорит о закрытых системах, аутопойесисе Матураны и Варелы и логике Дж. Спенсера Брауна. Но Луман не ограничивается исследованием философских оснований теории. Он, напротив, не оставляет без внимания ни одной области современной жизни. Он поражает эрудицией. Его называют «Арно Шмидт*** социологии», раздражаясь, указывают на ошибки в цитировании, на сомнительность интерпретаций... Луман кротко замечает, что у него нет памяти на тексты и филологического чутья - и продолжает писать. Оппоненты, в который раз, отступают. Вырабатывается специфический стиль Лумана: энергичный, сжатый, ироничный, предполагающий безумное количество ссылок на литературу, иногда весьма неожиданных. Луман создает своего читателя, потратившего немало сил на овладение его специфической терминологией и убедившегося на практике, что на этом языке профессионалу легко говорить. Луман гипнотизирует читателя, он заметает следы, не давая увидеть подлинные идейные истоки своих рассуждений, он пускает в ход и эрудицию, и самую изощренную логику, и - безупречный прием - намеки на то, что подлинно современный человек должен мыслить именно так, все остальное - предрассудки и отсталость. Постепенно он становится всемирно известен. Его переводят все больше и больше, не всегда, впрочем удачно. «Я говорил ему, - сетует крупный исследователь Вебера американский социолог Г. Рот, - что так писать для американцев нельзя; это перевести невозможно, и читать такие тексты они не будут». Луман не отступает - в конце концов, многие его сочинения находят своего читателя и на английском языке.
* Современные последователи Лумана, безусловно, образуют плотную и основательно организованную, в частности, в Билефельде группу. Однако тенденции к ее оформлению определились сравнительно поздно, всего за несколько лет до выхода Лумана на пенсию.
** См.: Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnolo-gie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1971.
*** Немецкий писатель, знаменитый своей филологической эрудицией.
В 1988 г. Луман получает премию имени Гегеля города Штуттгарта и... и все. Биограф умолкает, сказать больше нечего. Еще десять лет - и «билефельдский мастер» умолкает навсегда. Мировая социология не начала говорить на языке его теории, но и пройти мимо нее трудно. Ближайшие десятилетия покажут, в должной ли мере передалась его сочинениям энергетика его мысли. Во всяком случае, оставляя в стороне маловразумительный вопрос об «истинности» или «неистинности» столь обширной, сложной, претенциозной теории, мы рискнем высказаться о Лумане нарочито архаически, вопреки букве и духу его сочинений:
Он подлинно служил науке, он отдал ей всю жизнь, он пожертвовал для нее очень многим, он умер, свершив свой труд.
 Экономика: Общество - Социология
Экономика: Общество - Социология
- Экономика и общество
- Экономические исследования
- Экономика и общество в России
- Экономика социальная
- Человек и социальная экономика
- Социология
- Государство и социология
- История социологии
- Практическая социология
- Социология в России
Гай Оукс ПРЯМОЙ РАЗГОВОР ОБ ЭКСЦЕНТРИЧНОЙ ТЕОРИИ*
Сплошь эксцентричное
Для постмодернистского движения на нынешней стадии его эволюции более всего характерно культивирование необычных форм интеллектуализма. Один из наиболее колоритных и свежих продуктов его развития - это «эксцентричная теория», недавно воспетая в дискуссии на страницах журнала «Sociological Theory»[22]**.* Oakes G. Straight thinking about queer theory.
** Благодарю Бердетт Гарднер за замечания к первому варианту данной статьи.
Социальные теории всегда паразитировали на философии. Об их зависимости от влиятельных направлений академической философии соответствующей эпохи свидетельствует, например, тот факт, что Маркс многим обязан Гегелю, а неокантианское движение оказало сильное влияние на Г. Зиммеля, Э. Дюркгейма и М. Вебера. Следует также упомянуть взаимоотношения американского прагматизма и Чикагской социологической школы, попытки в рамках ведущих направлений социальной теории удовлетворить суровым требованиям логического позитивизма, а также связи между критической социальной теорией и европейской неомарксистской философией. Эксцентричная теория - продукт вульгаризации совсем недавнего европейского (преимущественно французского) постфилософского критицизма, в основном, произведенный американскими академическими защитниками антигетеросексуальной (т. е. противниками разнополой) политики в самоопределении, или идентификации индивида*.
Эксцентричные теоретики изображают свой проект как сознательную и бескомпромиссную программу теоретической критики, или трансгрессии**. С пылом молодого Маркса лево гегельянского периода эксцентричная теория проповедует беспощадную критику всего существующего. «Эксцентричность, - говорят нам, - это всеобъемлющая идентичность, которая бросает вызов и сопротивляется окостенению частных определений человеческой индивидуальности и категорий познания» [11, 243], а эксцентричная теория подразумевает «теоретическую чувствительность к проблематике трансгрессии или вечного мятежа» [17, 173]. Цель эксцентричной теории - предпринять «массированное нарушение границ всех условных категорий познания и способов анализа» [19, 182]. «Переступательный» порыв эксцентричной теории с особой страстью обрушивается на принятую таксономию сексуальности, строящуюся вокруг противоположения гетеро- и гомосексуального - полярности, само существование которой эксцентричные теоретики приписывают нахальной самонадеянности XIX в. Отсюда их обязательства «расстроить гетеросексуальную гегемонию», «сдвигая с привычного места гетерооексуальность, гомосексуальность и отношения между ними» [15, 230].
* Участники симпозиума, кажется, особенно благосклонны к следующим авторам: [2; 14; 3; 10; 13]. Лайза Дагген характеризует Седжуик - весело, но также и совершенно серьезно - как «Джуди Гарленд» гомосексуальных исследований (см.: [4, 24]).
** В данном случае «трансгрессию» можно истолковать как «систематическое переступание границ». - Прим. перев.
Оспаривая устойчивые на вид категории, эксцентричные теоретики применяют свое оружие не только против господствующей гетеросексуальности, но и против лесби-янства и мужской гомосексуальности. Фактически эксцентричная теория нападает на существующий «режим сексуальности как таковой» [17, 174]. Ее приверженцы утверждают, что конечный принцип, на который этот режим опирается, - это исчерпывающая бинарная оппозиция гомосексуальности и гетеросексуальности. И потому в итоге и универсализация эксцентричности», и построение эксцентричной теории зависят от того, удастся ли оспорить предположение, что эта дихотомия дает достаточное основание для объяснения сексуальности.
Вероятно из-за иконоборческого рвения эксцентричных теоретиков, горячо убежденных в своей причастности к героическому штурму цитадели гетеросексуальности, у них возникают фантазии, свойственные герметическим сектам посвященных: иллюзии относительно своей оригинальности и отваги - будто бы ими сказано новое слово, которого никто прежде не произносил, и раскрыто нечто остающееся скрытым от непосвященных. Эту веру в теоретическую оригинальность эксцентричного воображения можно поддерживать, только практикуя подозрительные «умолчания» о классических социологических подходах к анализу модерна. По-видимому, эксцентрическим теоретикам понадобится еще и обвинять авторов таких подходов в невежестве или предрассудках, помешавших им адекватно исследовать, как сформировалась современная концептуализация и организация сексуальности, где аналитики приписывают привилегированный статус собственному биологическому (sex) и социокультурному (gender) полу. Заявления, будто социологические классики молчат о поле и тендере, будто они «никогда не рассматривали социальное формирование современного порядка регуляции тела и сексуальности» [17, 167], безусловно ложны. Например, Георг Зиммель, ни разу не упомянутый ни участниками симпозиума, ни их излюбленными авторами, пространно, систематически и на протяжении всей карьеры писал о немецком женском движении своего времени, социальном производстве альтернативных кодов и концепций женственности, мужественности и эротизма, а также о теориях формирования половой идентичности, называемых теперь «эссенциализмом» и «конструктивизмом» (см. следующие работы Зиммеля [20]*).
* Некоторые из этих материалов стали доступны десять лет назад на английском языке (ел.: [21]).
Абсолютной убежденностью в правоте воображаемого этически просвещенного авангарда, атакующего морально обанкротившуюся ортодоксию, можно объяснить и курьезную предрасположенность эксцентричных теоретиков хвалить друг друга за «смелость» [17, 174; 9, 203; 13, IX- X], судя по всему - без малейшей иронии. Эксцентричные теоретики вращаются в кругу самых престижных американских институтов высшего образования, включая Ам-херст, Корнелл, Дьюк, университеты Джонса Хопкинса и Уэсли, Принстон и Йель. Их исследования публикуют ведущие журналы и академические издания и поддерживают такие организации, как «Американский совет научных обществ», «Институт высших исследований» и «Фонд Гуг-генхейма». Вероятно эти триумфы в устройстве карьеры должны оставлять всех не столь щедро взысканных институционной благодатью с открытым ртом от восхищения, удивления и зависти. Несмотря на приличные ассигнования на преподавание, интерес студентов, поощрительное отношение коллег и щедрое финансирование отпусков на разные внеучебные путешествия и исследования, эксцентричные теоретики упорно подчеркивают «риск», которому они подвергаются. Такое нагнетание псевдоопасностей, видимо, только и возможно на почве экстравагантного этического нарциссизма или колоссального самообмана.
Философский молот, которым размахивает эксцентричная теория, угрожая деструкцией принятым сексуальным таксономиям, - это радикальное истолкование доктрины социального конструктивизма. Оно заключается в том, что социальная реальность не является неким ансамблем объектов, существующих независимо от человеческих намерений, целей и интересов. Социальный мир надо понимать как артефакт, сконструированный или конституированный в процессе дискурсов и практик, продуцирующих социальные категории и таксономии. Поскольку социальные категории суть продукты человеческой деятельности, их можно считать просто «изобретениями». Социальные категории всегда искусствены и ни одна из них не обладает привилегией на окончательную «подлинность» или общезначимость. Все они контингентны*, произвольны, подвижны и неустойчивы, «постоянно открыты и оспоримы». Фактически нам говорят, что дестабилизация социальных категорий влечет за собой не только их произвольность и текучесть, но и их внутреннюю несовместимость, взаимопротиворечивость. Так как выбор среди социальных категорий нельзя обосновать логически или эмпирически, он Должен быть понят как «прагматическое» решение, основанное на соображениях «ситуационного преимущества, политического выигрыша и концептуальной полезности» [17, 173; 11, 241, 243]**.
* То есть способны быть замененными и другими. - Прим. перев.
** О роли социального конструктивизма в эксцентричной теории см.: [7; 8; 12]. Стивен Эпстайн, один из участников симпозиума, организованного журналом «Sociological Theory», утверждает в другом месте: «Поскольку существует логически когерентный теоретический взгляд на гомосексуальность именно как на гомосексуальность, он превращается в конструктивизм» (см.: [6, 13п]). О радикализации коструктивистской концепции социальной реальности см.: [16].
Если же «все культуры исторически контингентны и придуманы» и если социальный мир с определяющими его категориями пребывает в вечном движении, тогда то же самое должно быть верным и для сексуальных категорий и таксономии. Поэтому дестабилизация социального знания вдобавок ко всему прочему «проблематизирует гетеросексуальную точку отсчета», подвергая сомнению и ге-теросексуальность как всеобщую норму, и общезначимость дихотомии гетеросексуальное/гомосексуальное [19, 185; 11,241].
Вопреки навязчивым повторам своих утверждений об искусственности, контингентности и нестабильности социальных категорий, эксцентричные теоретики настаивают на уникальном концептуальном статусе сексуальности и наивысшей важности пола как главного ключа к социальной идентичности. Даже если «все культуры конструируются» и значения устанавливаются как результат «вечных притирок» социальных категорий друг к другу, «сексуальность и культура и далее будут центральными социальными темами». Отсюда следует, что категория сексуальности удержится «на переднем плане социальной теории» [11, 245].
Нижеследующий анализ сосредоточен на нескольких догматах эксцентричной теории: доктрине радикального конструктивизма; концепции социальной идентичности; принципе трансгрессии и эксцентричной концепции культуры.
Парадоксы радикального конструктивизма
Эксцентричная теория утверждает, что все социальные категории и концептуальные схемы суть социальные конструкты, произвольные измышления, не имеющие никакой обязывающей достоверности. Разумеется, радикальным конструктивизмом можно назвать также и концептуальную схему, придуманную социальными теоретиками, которые отвергают эмпирицистскую и реалистскую эпистемо-логию. Но если радикальный конструктивизм признает лишь чистые социальные конструкты, он не может притязать на какую-либо общезначимость. А это значит, что нет разумных оснований для предпочтения радикального конт-руктивизма любым другим способам анализа социальной реальности, включая и те, с которыми он несовместим. Радикальный конструктивизм, этот философский молот эксцентричной теории, рассыпается в пыль при попытке им воспользоваться.Своим радикальным конструктивизмом эксцентричные теоретики намерены подорвать легитимность определенных «гегемонистских» категорий и дихотомий (вроде гете-росексуальности и бинарной оппозиции «гетеросексуальное/гомосексуальное»), попросту доказав, что они являются социальными конструктами. Но похоже, что эти теоретики недооценивают саморазрушительную силу собственной аргументации. По той же логике, наряду со всеми прочими социальными конструктами, лишается всякой достоверности и сам радикальный конструктивизм. Положение эксцентричной теории здесь безвыходное. Из посылок радикального конструктивизма следует, что он сам всего лишь социальный конструкт, после чего рушится его общезначимость и база эксцентричной теории.
Радикальный конструктивизм порождает также бесконечный регресс. Он предполагает, что данная социальная категория, например «гетеросексуальность», социально сконструирована из определенных практик и дискурсов. Эти практики и дискурсы, в свою очередь, социально сконструированы из других практик и дискурсов, которые сами сконструированы и т. д. Гетеросексуальность, практики и дискурсы, на которые она опирается, а также более отдаленные практики и дискурсы как основа первых - все это разоблачается как произвольные изобретения простым указанием на их социальную сконструированность. В принципе эта цепь доказательств бесконечна. Она либо уводит в дурную бесконечность, подрывая в этом попятном движении значимость каждой очередной категории, либо произвольно обрывает его, приписывая некую несоциально обусловленную значимость особо предпочитаемой категории, которая становится эпистемологическим неподвижным двигателем. Однако такое произвольное решение несовместимо с радикальным конструктивизмом. Вышеупомянутый регресс фатален для него, ибо и этот способ рассуждения не может уйти от судьбы любой другой концептуальной схемы. Он построен из социальных практик и дискурсов, которые также построены из других социальных практик и дискурсов, имеющих тот же гносеологический статус. Регресс к какой-то общезначимой практике или дискурсу, которые смогли бы обеспечить достаточную обоснованность радикальному конструктивизму, не может иметь успеха, так как, согласно самой же этой доктрине, такой практики или дискурса не существует. Поэтому радикальный конструктивизм может избежать подобного регресса и провозгласить свою общезначимость (тем самым отделяя себя от всех других концептуальных схем и освобождая себя от последствий собственных посылок), только если он решится противоречить самому себе. Выход не слишком удачный. Радикальный социальный конструктивизм либо порождает бесконечный регресс, отрицающий его притязания на общезначимость, либо, дабы пресечь эту нескончаемую редукцию, соглашается на противоречие самому себе.
Наконец, радикальный конструктивизм рефлексивно наносит удар по собственным притязаниям не только на общезначимость, но и на простую понятность. Если значимость всех социальных категорий подрывается указанием на то, что они социально сконструированы, то это распространяется и на категории, существенные для описаний строения общества, такие как понятия социального действия, социального смысла и социальных отношений. Если эти понятия лишить значимости, то понятие общества нельзя будет даже членораздельно выразить. В таком случае радикальный конструктивизм, который возможен лишь на базе какого-то понятия общества, недоступен разумному пониманию. В результате эта доктрина подрывает собственную логическую согласованность.
Парадоксы эксцентричной теории
Эксцентричные теоретики описывают свой проект на объективистском языке эпистемологического реализма, пытаясь тем самым охранить эксцентричную теорию от разрушительных следствии радикального конструктивизма. С одной стороны, эксцентричная теория проявляет особое нерасположение к бинарным оппозициям и, по-видимому, осуждает их все скопом, отдавая на расправу неумолимой логике радикального конструктивизма. С другой стороны, очевидно, что эксцентричная теория, в свою очередь, возможна лишь на базе оппозиций «эксцентричное/прямое» или «эксцентричное/ конвенциональное». Без этих или равноценных дихотомий эксцентричная теория не имела бы никакой опоры, чтобы начать свою атаку против общепринятой мудрости, и никаких позиций, с которых можно критиковать условные категории и переступать правила. Без какого-то эпистемологически привилегированного различения, на основе которого формируется понятие эксцентричности, соответствующая теория была бы невозможна [3, XV-XIX]. Эта теория вынуждена оберегать «универсализм эксцентричности» и предпосылки, на которые он опирается (включая центральное теоретическое положение категории сексуальности), от понятийного опустошения, производимого радикальным конструктивизмом. Короче говоря, эксцентричная теория проявляет пламенный энтузиазм, характеризуя на языке радикального конструктивизма все позиции, кроме одной. И эта одна позиция, конечно, та, которую она занимает сама.Переиначив остроту Шопенгауэра, скажем, что радикальный конструктивизм - это не такси, из которого каждый может выйти, когда заблагорассудится. Цена, которую эксцентричная теория платит за свое освобождение из-под власти радикального конструктивизма, - непоследовательность. Из-за этой внутренней непоследовательности эксцентричная теория не в состоянии дать связный отчет о самой себе. Как могут эксцентричные теоретики избежать противоречия самим себе? Только оставаясь верными своим предпосылкам. Эксцентрики обязаны допускать, что бинарная оппозиция «эксцентричное/прямое» и понятие сексуальности - это просто социальные конструкты. То же самое верно для всех теоретических посылок эксцентричной теории, для понятий, используемых при построении этих посылок, и для критериев истинности и значимости, на которых основаны и ее посылки и понятия. Если строго следовать конструктивной логике и применять ее к самой эксцентричной теории, тогда проект такой теории предстанет всего лишь еще одним произвольным социальным изобретением. С логической точки зрения он имеет такой же непоследовательный теоретический статус как и все остальные позиции, отвергаемые эксцентриками. Результат? Эксцентричная теория оказывается либо самопротиворечивой, либо рефлексивно самоубийственной.
Парадокс идентичности
Чтобы свергнуть гегемонию гетеросексуальной идентичности в модернистской нормативной системе сексуальности, представители эксцентричной теории используют оружие радикального конструктивизма и предпринимают генеральное наступление против самого понятия социальной идентичности. Следуя логике радикального конструктивизма, они утверждают, что любая идентификация искусственна произвольна, непостоянна и самопротиворечива. Однако это мнимо универсальное развенчание понятия идентификации подрывает также идентичность самой эксцентричности и эксцентричного теоретика. Можно привести правдоподобные доводы в пользу того, что эксцентричная теория на ее теперешней программной и «прагматической» стадии служит, в основном, средством выделения, легитимации и навязывания идентичности эксцентричного теоретика. Это предположение способно объяснить примечательную склонность таких теоретиков к автобиографическим отступлениям и исповедальным примечаниям в их достаточно компактных, в остальном, теоретических писаниях. Эти личные добавки, как правило, затрагивают темы «Что я такое и как я вступил на этот путь» или «Во что я верю и почему это так важно» (см.: [19, 179 п2; 13, 54-63; 18])** Сидман признается в своей приверженности к «постмодерну», «прагматическим, оправдательным стратегиям, которые подчеркивают практический и риторический характер социального дискурса», а также прибегают к «генеалогиям, историческому деконструктивистскому анализу и социальным повествованиям местных рассказчиков», не задерживаясь ни для объяснений, зачем введены эти разнообразные элементы, ни для разбора их логической совместимости, по отдельности или в совокупности (см.: [18, 142 п58]). Если суть этого сидмановского исповедания веры в произнесении ритуальных заклинаний, по которым члены секты опознают друг друга, тогда вопросы логической согласованности и совместимости, необходимые при заявлении любой интеллектуально защитимой позиции, здесь, конечно, неуместны.
Но если всякая идентификация - это просто произвольный конструкт, почему мы должны всерьез воспринимать эксцентричную теорию и ее страдальцев?
На основании посылок самой эксцентричной теории, эксцентричный теоретик должен бы выглядеть как исторически контингентная, но очень свойственная концу XX в. разновидность экономически привилегированного и праздного интеллектуала, посвятившего себя профессиональному самоутверждению, поискам безопасности и престижа. Из-за преходящего и переменчивого характера всякой человеческой идентификации эксцентричные теоретики исчезнут, когда сойдут на нет удовлетворяющие их исторические условия существования. Эксцентричный тезис о самопротиворечивости идентичностей (нацеленный на изничтожение конвенциональных половых идентичностей, основанных на дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное») влечет даже более разрушительные последствия, чем названное выше. С таких позиций невозможно никакое последовательно проведенное понятие социальной идентичности, потому, что любое такое понятие будет противоречить самому себе. Этот тезис разрушает социальную идентичность эксцентричного и само понятие эксцентричности, на котором держится проект эксцентричной теории.
Парадокс трансгрессии
Главное критическое устремление эксцентричной теории - трансгрессия как беспощадная война со всеми социологическими категориями. Этот принцип влечет саморазрушительные последствия для программы эксцентричной теории. Атакуя все социологические категории, эксцентрическая теория неосторожно поражает и себя. Подобно теории Л. Троцкого о перманентной революции эксцентричная теория перманентного теоретического бунта самоубийственна в этой своей оргии многократного уничтожения всего без разбора. Например, ее представители отрицают положение, согласно которому сексуальность необходимо организована вокруг дихотомии «гетеросексуальное/гомосексуальное». Они даже бросают вызов «режиму» сексуальности. Обе атаки предпринимаются от имени «всеобщей эксцентричности». Но она в эксцентричной теории имеет статус социологической категории - аксиоматической социологической категории par excellence. И, следовательно, «всеобщая эксцентричность» тоже становится жертвой всеобщего разорения, которым грозит социологии принцип трансгрессии.Эксцентричная теория пускается в критику социологических категорий, чтобы лишить силы господствующие сексуальные таксономии. Из-за универсальных претензий этой критики она распространяется и на эксцентричную теорию. Поэтому, если воспринимать эту теорию серьезно, ее собственный принцип трансгрессии, дестабилизируя категории, обесценивает и саму теорию. В самом деле, если все социальные категории находятся в постоянном движении и не могут претендовать на общезначимость, то это же будет верным и для категорий, устанавливающих принцип трансгрессии. И опять эксцентричные теоретики поставлены здесь перед выбором между отречением от собственных предпосылок или принятием их самоубийственных следствий. Подобно философской доктрине радикального скептицизма, ставящей под сомнение все суждения, эксцентричная теория опровергает себя и тем самым не в состоянии породить никаких значимых критических последствий.
Парадокс эксцентричной культуры
Эксцентричная теория представляет культуру как изобретение. Все культурные артефакты суть исторически специфичные и произвольные продукты человеческой деятельности, ни один из которых не может притязать на общезначимость. По духу этой теории культуры каждая посылка эксцентричной теории осуждена на произвольность и познавательную бессвязность чистой выдумки. Радикальный конструктивизм, доктрина социальной идентичности, устанавливаемой путем «переговоров», и принцип трансгрессии - все это культурные изобретения, результаты особенных исторических условий, воздействующих на конкретных проводников эксцентричности. Как следствие, их притязания на общезначимость не более весомы, чем притязания отрицаемых ими позиций.Так как сама эксцентричная теория культуры - тоже изобретение, она обесценивается подобной логикой рассуждения. Если культурные артефакты суть простые фабрикации, которым нельзя приписывать никакой общезначимости, тогда то же справедливо и для эксцентричной теории культуры. Она, подобно всем другим положениям эксцентричной теории, внутренне непоследовательна и не может быть изложена без самоопровержения.
Предостережение и заключение
Эксцентричные теоретики не смогут разделаться с этой критикой, сетуя, что она мол выражена в «фаллоцентрической» логике господства, являющейся продуктом модернистской гетеросексуальной интеллектуальности, что она несоизмерима с логикой эксцентричной теории и т. п. Вышеприведенные аргументы представляют собой имманентную критику, поражающую эксцентричных теоретиков их же собственным оружием, которое они выковали для битвы с империей зла, созданной гетеросексуальной социальной наукой. Разрабатывая лишь те предпосылки, которые извлечены из самой эксцентричной теории, мы атакуем ее согласно законам стратегии, установленным ее представителями для расправы со своими критиками. Эксцентричные теоретики торжественно возвещают также о своих ожиданиях, что их будут воспринимать всерьез, и пытаются определенными аргументами обосновать эти ожидания. Данный очерк, заимствуя их теоретический инструментарий, доказывает их полную несостоятельность.
Эксцентричную теорию губит то, что она нарушает некое правило, достаточно важное для всех социокультур-ных наук, чтобы заслуживать особого имени. Назовем его правилом теоретической рефлексивности и сформулируем так: любой теоретический принцип в социокультурных науках, претендующий на всеобщность, рефлексивен в том смысле, что он должен быть истинным и для самого себя. Такой принцип следует применять к нему самому, т. е. референты или объекты в сфере его действия должны включать сам этот принцип. Это правило основывается на том соображении, что всякое теоретическое утверждение в социокультурных науках, наделенное свойством неограниченной всеобщности, будет вынуждено ссылаться на самое себя. Поскольку социокультурные теории тоже суть социокультурные артефакты, то теория, притязающая на неограниченную всеобщность, должна обладать этим свойством самореферентности: объекты, охватываемые данной теорией, включают саму теорию. Именно в этом смысле истинность такой теории зависит от ее рефлексивности. Правило теоретической рефлексивности определяет источник саморазрушительных следствий эксцентричной теории. Так как ее посылки не могут ссылаться на самих себя, не порождая парадоксов, они не выдерживают проверки на рефлексивность.
Без сомнения существует некая причина, оправдывающая «эксцентричную манеру теоретизирования». В принципе, однако, она обязывает к практическому воплощению не больше, чем причина, побуждающая делать теорию увечной, неполноценной или ослабленной. Возможных направлений для развития социальной теории, хотя и не бесконечно много, но все-таки столько, что это поистине способно вызвать ужас. Вебер писал: «Жизнь в ее иррациональной действительности и содержащиеся в ней возможные значения неисчерпаемы...» [1, 413]. Что из этого следует? «Меняются мыслительные связи, в рамках которых «исторический индивидуум» рассматривается и постигается научно. Отправные точки наук о культуре будут и в будущем меняться до тех пор, пока китайское окостенение духовной жизни не станет общим уделом людей и не отучит их задавать вопросы всегда одинаково неисчерпаемой жизни» [1, 383].
Применительно к любого рода создаваемой теории, каковы бы ни были ее внетеоретические интересы и ее ценность в деле достижения каких-то политических целей, подтверждения социальной идентичности или карьерного продвижения, элементарный урок данного очерка гласит: теоретик должен располагать концептуальным аппаратом, который не рушится под тяжестью собственных противоречий.
ЛИТЕРАТУРА
1.Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
2.Butler J. Gender trouble. N.Y., 1990.
3.Doty A. Making things perfectly queer. Minneapolis, 1993.
4.Duggen L. Making it perfectly queer // Socialist Review. 1992. № 22.
5.Epstein S. A queer encounter: Sociology and the study of sexuality II Sociological Theory. 1994. № 12. P. 188-202.
6.Epstein S. Gay politics, ethnic identity: The limits of social constructionism // Socialist Review. 1987. Vol. 17. P. ‘l3n.
7.Greenberg D. The construction of homosexuality. Chicago, 1988.
8.Halperin D. One hundred years of homosexuality. N.Y., 1990.
9.Ingraham C. The heterosexual imaginary: Feminist sociology and theories of gender // Sociological Theory. 1994. №>’l2. P. 203-219.
10.Inside/out / Ed. by Fuss D. N.Y., 1991.
11.IrvineJ. M. A place in the rainbow: Theorizing lesbian and gay culture // Socilogical Theory. 1994. No 12. P. 232-248.
12.Kitzinger C. Social construction of lesbianism. L., 1987.
13.Kosofsky-Sedgwick E. Epistemology of the closet. Berkley; Los Angeles, 1990.
14.Lauretis T. de. Queer theory: Lesbian and gay sexualities // Differences. 1991. №3. P. Ш-XVIII.
15.Namaste K. The politics of inside/out: Queer theory, post-structuralism, and a sociological approach to sexuality // Sociologi-cal Theory. 1994. № 12. P. 220-231.
16.Pollner M. The reflexivity of constructionism and the construction of reflexivity // Constructionist controversies: Issues in social problem theory / Ed. by Gale Miller, James A. Holstein. N.Y., 1993.
17.Seidman S. Symposium: Queer theory/sociology (A dialogue) // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-177.
18.Seidman S. Identity and politics in a «postmodern» gay culture: Some historical and conceptual notes // Fear of queer pla-net: queer politics and social theory / Ed. by Michael Warner. Min-neapolis, 1993. P. 105-142.
19.Stein A., Plummer K. «I can’t even think straight»: «Queer» theory and the missing sexual revolution in sociology // Sociological Theory. 1994. № 12. P. 178-187.
20.Simmel G. Die Verwandtenehe // Georg Simmel: Aufsatze und Abhand-lungen, 1894 bis 1900 / Ed. by Heinz-Jurgen Dahme, David P. Frish by. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 5. Frankfurt, 1992 [1894]. S. 9-36; Idem. Der Militarismus und die Stellung der Frauen // Ibid. S. 37-51; Idem. Der Frauenkongress und die Sozialdemokratie //Die Zukunft. 1896. Bd. 17. S. 80- 84; Idem. Die Rolle des Geldes in den Beziehungen der Geschlechter. Fragment aus einer «Philosophic des Geldes» // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1894 bis 1900 [1898]. S. 246-265; Idem. Philosophic der Geschlechter. Fragmente 7 Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen. 1901-1908 / Ed. by Alessandro Cavalli, Volkhard Krech. Georg Simmel Gesamtausgabe. Bd. 8. Frankfurt. 1993 [1906]. S. 74-81; Idem. Die Frau und die Mode // Georg Simmel: Aufsatze und Abhandlungen, 1901-1908. [1908]. S. 344- 347; Idem. Das Relative und das Absolute im Geschlechterproblem •” Idem. Philosophische Kultur. Leipzig, 1911. S. 67-100; Idem. Die Koketterie // Ibid. S. 101 - 123; Idem. Weibliche Kultur // Ibid. S. 278-319; Idem. Uber die Liebe (Fragment) // Fragmente und Aufsatze aus dem Nachlass und Ve-roffentlichungen der letzten Jahre. Mimchen, 1923. S. 47-123; Idem. Der platonische und der moderne Eros // Ibid, S. 125-145.
21.Simmel G. On women, sexuality, and love / Translated by Guy Oakes. New Haven, 1984.
22.Sociological Theory. 1994. № 12. P. 166-248: [17; 19; 5; 9; 15; 11].
Из социологической классики
Георг Зиммель ФИЛОСОФИЯ ДЕНЕГ
ПРЕДИСЛОВИЕ
У всякой области исследований имеются две границы, пересекая которые мысль в своем движении переходит из точной формы в философскую. Демонстрация и проверка предпосылок познания вообще, а также аксиом каждой специальной области [знания] происходит уже не в пределах такой специальной сферы, но в некоторой более принципиальной науке, бесконечно удаленной целью которой является беспредпосылочное мышление (отдельные науки, и шага не могущие сделать без доказательства, то есть без предпосылок содержательного и методического характера, не ставят себе такой цели). Поскольку философия демонстрирует эти предпосылки и исследует их, она не может устранить таковые и для себя самой; однако именно здесь всякий раз находится конечный пункт познания, где и вступает в силу и властно повелевает нами призыв к недоказуемому, тот пункт, который - в силу прогресса доказуемости - никогда не фиксирован безусловно. Если начала сферы философской здесь как бы обозначают нижнюю границу области точного [знания], то верхняя ее граница проходит там, где содержания позитивного знания, всегда фрагментарные, восполняются завершающими понятиями, [образуя вместе с ними] некую картину мира, и [здесь же они] востребуют соотнесения с целостностью жизни. Если история наук действительно показывает, что философский род познания примитивен, что это - не более чем приближение <Uberschlag> к явлениям в общих понятиях, то все-таки этот предварительный процесс еще неизбежен по отношению к некоторым вопросам, в особенности, касающимся оценок и самых общих связей духовной жизни, [т. е. вопросам,] на которые у нас до сих пор нет точного ответа, но от которых невозможно отказаться. Наверное, даже самая совершенная эмпирия никогда не заменит философию как толкование, окрашивание и индивидуально избирающее акцентирование действительного, подобно тому, как совершенство механической репродукции явлений не сделает излишним изобразительное искусство.
Из этого определения местоположения философии в целом вытекают и те права, которыми она пользуется применительно к отдельным предметам. Если философия денег должна существовать, то располагаться она может только за пределами обеих границ экономической науки. С одной стороны, она может продемонстрировать те предпосылки, заложенные в душевной конституции, в социальных отношениях, в логической структуре действительностей и ценностей, которые указывают деньгам их смысл и практическое положение. Это - не вопрос о происхождении денег, который относится к истории, а не к философии. И как бы высоко ни ставили мы те выгоды, которые понимание некоторого явления извлекает из исторического становления последнего, все-таки содержательный смысл и значение ставшего часто основывается на связях понятийной, психологической, этической природы, которые не временны, но чисто объективны* и, хотя и реализуются историческими силами, но не исчерпываются случайностью последних. Например, значимость, достоинство, содержание права или религии, или познания всецело находятся за пределами вопроса о путях их исторического осуществления. Таким образом, в первой части этой книги деньги будут выводиться из тех условии, на которых основывается их сущность и смысл их наличного бытия.
* В оригинале: «sachlich», от многозначного «die Sache» - «вещь», «предмет», «дело». «Sachlich» было бы правомерно переводить как «вещный», «вещественный», «объективный», «предметный» и «деловой». Как правило, ради сохранения единства словоупотребления, мы используем термин «вещественный». Предложенный перевод имеет, разумеется, тот недостаток, что собственно вещь - осязаемая, вожделеемая и т. п. - обозначается у Зиммеля словом «Ding», от которого есть и соответствующие прилагательные («dinglich», «dinghaft»). Кроме того, Зиммелю, особенно в последних главах его сочинения, отнюдь не чуждо использование «Sach-lichkeit» в смысле деловитости и объективности. Однако, в тех главах, где трактуется фундаментальная философская проблематика, образование прилагательного от «вещь» нам показалось, в общем, более адекватным, нежели чем от «объект» или «предмет». В ряде случаев перевод оговаривается.
Что же касается исторического явления денег, идею и структуру которого я пытаюсь вывести из ценностных чувств, практики, имеющей дело с вещами <Dinge>, и взаимоотношений людей как предпосылки этого явления, то вторая, синтетическая часть прослеживает его воздействие на внутренний мир: жизнечувствие индивидов, сплетение их судеб, общую культуру. Здесь, таким образом, речь идет, с одной стороны, о связях, которые по своей сути точны и могли бы быть исследованы по отдельности, но при нынешнем состоянии знания недоступны для такого исследования и потому должны рассматриваться только в соответствии с их философским типом: в общем приближении, через изображение отдельных процессов отношениями абстрактных понятий. С другой стороны, речь идет о душевном причинении, которое для всех эпох будет делом гипотетического толкования и художественного воспроизведения, неотделимого в полной мере от его индивидуальной окраски. Таким образом, переплетение <Verzweigung> денежного принципа с развитиями и оценками внутренней жизни находится столь же далеко позади экономической науки о деньгах, насколько далеко впереди нее была первая проблемная область, которой посвящена первая часть книги. Одна из них должна позволить понять сущность денег, исходя из условий и отношений жизни вообще, другая же, наоборот, - понять сущность и форму последней, исходя из действенности денег.
В этих исследованиях нет ни строчки, написанной в духе национальной экономии. Это значит, что явления оценки и покупки, обмена и средств обмена, форм производства и стоимости состояний, которые национальная экономия рассматривает с одной точки зрения, рассматриваются здесь совершенно с другой. Лишь то, что обращенная к национальной экономии сторона их более всего интересна практически, основательнее всего разработана, доступна Для самого точного изображения, - лишь это обосновало мнимое право рассматривать их просто как «факты национальной экономии». Но точно так же, как явление основателя религии отнюдь не только религиозно, но может быть исследовано и в категориях психологии, а возможно Даже и патологии, всеобщей истории, социологии; подобно тому, как стихотворение - это не только факт истории литературы, но и факт эстетический, филологический, биографический; подобно тому, как вообще точка зрения одной науки, всегда основанной на разделении труда, никогда не исчерпывает реальности в целом - так и то, что два человека обмениваются своими продуктами друг с другом, отнюдь не есть только факт национальной экономии, ибо такого факта, содержание которого исчерпывал бы его национально-экономический образ, вообще не существует. Напротив, всякий обмен может столь же легитимно рассматриваться как факт психологический, факт истории нравов и даже как факт эстетический. И даже будучи рассмотрен с точки зрения национальной экономии, он не заводит в тупик, но и в этой форме <Formung> становится предметом философского рассмотрения, которое проверяет свои предпосылки - на нехозяйственных понятиях и фактах, а свои следствия - для нехозяйственных ценностей и взаимосвязей.
Деньги в этом круге проблем представляют собой лишь средство, материал или пример изображения тех отношений, которые существуют между самыми внешними, реалистическими, случайными явлениями и идеальными потенциями бытия, глубочайшими течениями индивидуальной жизни и историей. Смысл и цель целого состоит лишь в том, чтобы с поверхности хозяйственных явлений прочертить линию, указывающую на конечные ценности и значимости <Bedeutsamkeiten> всего человеческого. Абстрактное философское построение системы держится на такой дистанции от отдельных явлений, особенно практического существования, чтобы, собственно, лишь постулировать их избавление от, на первый взгляд, изолированности, недуховности и даже отвратности <Widrigkeit>. Нам же придется совершить это высвобождение на примере такого явления, которое, как деньги, не просто демонстрирует безразличие чисто хозяйственной техники, но, так сказать, есть самое индифференция, поскольку все его целевое значение заключено не в нем самом, но в его переводе в другие ценности. Итак, поскольку здесь предельным образом напрягается противоположность между, по видимости, самым внешним и несущностным и внутренней субстанцией жизни, то и примирение ее должно быть самым действенным, если эта частность не только переплетается со всем объемом духовного мира как его носитель и несомое, но и открывает себя как символ существенных форм его движения. Итак, единство наших исследований состоит совсем не в утверждении о единичном содержании знания и постепенно вырастающих его доказательств, но в предлагаемой возможности в каждой частности жизни обнаруживать целостность ее смысла. - Необыкновенное преимущество искусства перед философией состоит в том, что оно каждый раз ставит перед собой частную, узко очерченную проблему: некоторого человека, ландшафт, настроение - и затем заставляет ощущать всякое расширение таковых до [степени] всеобщего, всякое прибавление великих черт мирочувствия как некое обогащение, подарок, словно бы как незаслуженное счастье. Напротив, философия, проблемой которой сразу же является вся совокупность существования, обычно сужается по отношению к последней и дает меньше, чем она, как кажется, обязана давать. Итак, здесь, напротив, проблему пытаются умалить и ограничить, чтобы отдать ей должное, расширяя ее и выводя к тотальности и самому всеобщему.
В методическом аспекте это намерение можно выразить так: под исторический материализм следует подвести еще один этаж, таким образом, чтобы обнаружилась объяснительная ценность включения хозяйственной жизни в [число] причин духовной культуры, но сами эти хозяйственные формы постигались как результат более глубоких оценок и течений, психологических и даже метафизических предпосылок. Для практики познания это должно разворачиваться в бесконечной взаимообразности: к каждому истолкованию некоторого идеального образования через некоторое экономическое должно присоединяться требование понимать это последнее, исходя, в свою очередь, из более идеальных глубин, в то время как для них опять-таки должен быть найден всеобщий экономический фундамент, и так далее до бесконечности. В такой альтерации и взаимопоглощении принципов познания, категориально противоположных друг другу, единство вещей, кажущееся нашему познанию неуловимым и все же обосновывающее их взаимосвязь, становится для нас практическим и Жизненным.
Обрисованные таким образом намерения и методы не могли бы претендовать ни на что принципиальное, если бы не способны были послужить содержательному многообразию основных философских убеждений. Подключение частностей и поверхностных явлений жизни к ее глубочайшим и сущностнейшим движениям и истолкование их в соответствии с ее совокупным смыслом может совершаться и на почве идеализма, и на почве реализма, рассудочной или волевой, абсолютизирующей или релятивистской интерпретации бытия. То, что нижеследующие исследования выстраиваются на [фундаменте] одной из этих картин мира, которую я считаю самым адекватным выражением современного содержания знания и направления чувств, а противоположная картина мира самым решительным образом исключается, может в худшем случае [привести к тому, что] им будет отведена роль школьного примера, хотя и неудовлетворительного в содержательном отношении, но именно поэтому позволяющего выступить на передний план их методическому значению как форме того, что в будущем окажется правильным.
В этом новом издании изменения нигде не касаются существенных мотивов. Однако я все-таки попытался, приводя новые примеры и разъяснения, а прежде всего, - углубляя основоположения, увеличить шансы на то, что мотивы эти будут поняты и приняты.
Глава первая ЦЕННОСТЬ И ДЕНЬГИ
I
Вещи как естественные реальности включены в порядок, основу которого составляет предпосылка о единстве сущности как носителе всего многообразия их свойств: равенство перед законом природы, постоянство сумм вещества и энергии, преобразование друг в друга самых разных явлений примиряют их, на первый взгляд, удаленность друг от друга, превращая ее в совершенное родство, в равноправие всех. Правда, при более близком рассмотрении это понятие означает только, что произведенное механизмом природы находится, как таковое, за рамками вопроса о каком бы то ни было праве: их [вещей] несомненная определенность не оставляет места какому бы то ни было выделению, могущему служить подтверждением или умалением <Abzug> их бытия или так-бытия. Однако мы не удовлетворяемся этой равнодушной необходимостью, составляющей естественнонаучный образ вещей. Совсем наоборот: невзирая на их порядок в этом ряду, мы сообщаем их внутреннему образу некий иной порядок, в котором всеобщее равенство полностью нарушено, в котором наибольшее возвышение одного пункта соседствует с самым решительным унижением другого и глубочайшая сущность которого состоит не в единстве, но в различии, ранжировании по ценностям. То, что предметы, мысли, события Ценны, совершенно нельзя прочитать по их чисто естественному существованию, а их порядок согласно ценностям сильнее всего отклоняется от порядка естественного. Природа бесчисленное множество раз уничтожает то, что, с точки зрения его ценности, могло бы требовать наибольшей продолжительности [существования], и она консервирует самое неценное и даже то, что отнимает у ценного жизненное пространство <Existenzraum>. Тем самым не утверждается, будто два этих ряда враждебны друг другу и полностью исключают один другой. Такое утверждение означало бы, что они все же как-то соотносятся между собой - а результатом был бы мир дьявольский, но, с точки зрения ценности, определенный, хотя и с противоположным знаком. Нет, как раз наоборот: отношение между ними абсолютно случайно. С тем же безразличием, с каким природа предлагает нам предметы наших ценностных оценок, она в другой раз отказывает нам в них, так что именно возникающая иногда гармония обоих рядов, реализация рядом действительности требований, источником которых является ряд ценности, обнаруживает всю беспринципность их отношения не менее, чем прямо противоположный случай. Мы можем осознавать одно и то же жизненное содержание и как действительное, и как ценное; но его внутренний удел в первом и во втором случае имеет совершенно разный смысл. Ряды естественных событий можно было бы описать с совершенной, без пробелов, полнотой, но при этом ценность вещей не обнаружится нигде - и точно так же шкала наших оценок сохраняет свой смысл, независимо от того, как часто их содержание обнаруживается в действительности и происходит ли это вообще. К, так сказать, готовому, всесторонне определенному в своей действительности, объективному бытию только добавляется оценка, как свет и тень, источником которых не может быть оно само, но только что-то еще. Однако отсюда вовсе не следует делать вывод, будто бы образование ценностного представления как психологический факт тем самым уже не подвластно становлению в соответствии с законами природы. Сверхчеловеческий дух, который бы с абсолютной полнотой понимал мировой процесс <Weltgeschehen> в соответствии с законами природы, нашел бы среди фактов этого процесса также и тот, что у людей есть ценностные представления. Но эти последние не имели бы для него, познающего чисто теоретически, никакого смысла и никакой значимости, помимо своего психического существования. За природой как механической каузальностью [мы] отрицаем здесь только вещественное, содержательное значение ценностного представления, в то время как душевный процесс, делающий это содержание фактом нашего сознания, все равно принадлежит природе. Оценка как действительный психологический процесс <Vorgang> есть часть природного мира; но то, что мы имеем в виду, [совершая оценку,] ее понятийный смысл, есть нечто независимо противостоящее этому миру, столь мало являющееся частью его, что, напротив, само оно, будучи рассмотрено с особой точки зрения, представляет собой целый мир. Редко отдают себе отчет в том, что вся наша жизнь, со стороны сознания, протекает в чувствах ценности и соображениях о ценности и вообще обретает смысл и значение лишь благодаря тому, что механически развертывающиеся элементы действительности, помимо своего вещественного содержания <Sachgehalt>, имеют для нас бесконечно многообразные меры и виды ценности. Всякий миг, когда душа наша не просто незаинтересованно отражает действительность (чего она, пожалуй, не делает никогда, ибо даже объективное познание может проистекать лишь из некоторой оценки этой действительности), она обитает в мире ценностей, который заключает содержания действительности в совершенно автономный порядок.
Тем самым ценность в некотором роде образует противоположность бытию, именно как охватывающую форму и категорию картины мира ее можно многократно сравнивать с бытием. Кант подчеркивал, что бытие не есть свойство вещей; ибо если я говорю об объекте, который прежде существовал только в моих мыслях, что он существует, то он тем самым не обретает новых свойств; потому что иначе существовала бы не та же самая вещь, которую я прежде мыслил, но иная. Так и благодаря тому, что я называю некую вещь ценной, у нее не возникает никаких новых свойств; ибо она только и ценится за те свойства, которыми обладает: именно ее бытие, уже всесторонне определенное, восходит в сферу ценности. Основанием здесь служит одно из тех [совершаемых] нашим мышлением членений, которые достигают наибольшей глубины. Мы способны мыслить содержания картины мира, полностью отвлекаясь от их реального существования или несуществования. Комплексы свойств, которые мы называем вещами, со всеми законами их взаимосвязи и развития, мы можем представлять себе в их чисто вещественном, логическом значении и, совершенно независимо от этого, спрашивать, осуществлены ли эти понятия или внутренние созерцания, [и если да,] то где и как часто. Подобно тому, как этого содержательного смысла и определенности объектов не касается вопрос о том, обнаруживаются ли они затем в бытии, так же и не затрагивает их и другой [вопрос]: занимают ли они место, и какое [именно], на шкале ценностей. Если же, с одной стороны, речь у нас должна идти о теории, а с другой, - о практике, то мы должны вопрошать эти содержания мышления и о том, и о другом, и в обоих аспектах ни одно из них не может уйти от ответа [на эти вопросы]. Напротив, надо, чтобы можно было недвусмысленно высказаться о бытии или небытии каждого из них, и каждый должен для нас занимать совершенно определенное место на шкале ценностей - начиная от высших и, далее, через безразличие - к негативным ценностям; ибо безразличие есть отказ от оценки, который по существу своему может быть очень позитивным, но за этим отказом всегда кроется возможность интереса, которой только не пользуются в данный момент. Конечно, в принципиальном значении этого требования, обусловливающего всю конституцию нашей картины мира, отнюдь ничего не меняется оттого, что наших средств познания очень часто не хватает, чтобы решить, насколько реальны понятия, и столь же часто [недостаточны] объем и надежность наших чувств для ценностного ранжирования вещей, особенно устойчивого и общезначимого. Миру только понятий, вещных качеств и определений противостоят великие категории бытия и ценности, всеохватные формы, которые берут свой материал из этого мира чистых содержаний. Общий характер обоих миров - фундаментальность, т. е. несводимость одного к другому или к более простым элементам. Поэтому непосредственно бытие какой-либо вещи совершенно невозможно доказать логически; напротив, бытие есть изначальная форма наших представлений, которая воспринимается, переживается, принимается на веру, но не может быть дедуцирована для того, кто еще не знает о ней. Если только однажды неким деянием, внеположным логическому, эта форма ухватила отдельное содержание, то логические связи вбирают и несут ее дальше, докуда достают они сами. Так что мы, как правило, можем, конечно, сказать, почему мы принимаем некую определенную действительность: потому что мы уже приняли некую иную действительность, определенность которой связана с первой через ее содержание. Однако действительность этой последней может быть доказана подобного же рода сведением <Zuruckschiebung> к действительности еще более фундаментальной. Но у этого регресса должен быть последний член, бытие которого дано только непосредственным чувством убеждения, утверждения, признания, точнее говоря: [оно дано именно] как такое чувство. Точно так же относится и ценность к объектам. Все доказательства ценности последних означают лишь принуждение признать уже предполагаемую для какого-либо объекта и в настоящий момент несомненную ценность также и за другим, ныне сомнительным объектом. О мотивах, по которым мы это делаем, следует сказать ниже; здесь же мы ограничимся только следующей констатацией: то, что мы усматриваем путем доказательств ценности, есть всегда лишь перенос определенной ценности на новые объекты; напротив, ни существо самой ценности, ни основание Того, почему она изначально прилепилась <geheftet> к этому объекту, который затем излучает ее на другие объекты, мы не усматриваем.
Если только имеется некоторая ценность, то пути ее осуществления, ее дальнейшее развитие можно понять рассудочным образом, ибо теперь она следует - по крайней мере, частично <abschnittsweise> - структуре содержаний действительности. Но что она вообще имеется, - это есть первофеномен. Все дедукции ценности позволяют лишь понять условия, при которых она появляется*, в конечном счете, без какого бы то ни было посредства, не будучи, однако, продуктом этих условий, - подобно тому, как все теоретические доказательства могут только подготовить условия, при которых наступает это чувство утверждения или бытия-присутствия <Dasein>.
* В оригинале: «auf diehiner sich [...] einstellt». «Sicheinstellen» может быть переведено как «наступать», «появляться», но не в смысле возникновения из ничего, атак, как наступает весна или приходят гости. «Sicheinstellen auf» обычно переводится как «настраиваться на», «приспосабливаться к». Поскольку ценности противоположны бытию, нельзя сказать, что они «появляются» или «возникают». Они также и не «приспосабливаются» к ситуациям. Но только при определенных условиях можно сказать, что «имеется» («gibt es») ценность.
Сколь мало умели сказать, что же есть собственно бытие, столь же мало могут ответить на этот вопрос и применительно к ценности. И именно поскольку они [(бытие и ценность)] относятся к вещам формально тождественным образом, постольку они так же чужды друг другу, как, по Спинозе, [чужды друг другу] мышление и протяжение: так как оба они выражают одно и то же, абсолютную субстанцию, но каждое своим собственным образом и каждое само по себе полностью, то одно никогда не сможет перейти в другое. Они никогда не соприкасаются, потому что вопрошают понятия вещей о совершенно различном. Но этим рядоположением без соприкосновения мир отнюдь не разорван, [не превращен в] в стерильную двойственность, которая не позволяет потребностям духа успокоиться в единстве - даже если его судьбой и формулой его поисков было бы бесконечное движение от множества к единству и от единства к множеству. Выше ценности и действительности расположено то, что обще им обеим: содержания, - то, что Платон, в конечном счете, подразумевал под «идеями». Это нечто такое в действительности и в наших оценках, что может быть обозначено, нечто качественное, непременно выражаемое в понятиях, то, что равным образом может войти как в тот, так и в другой порядок. Однако ниже ценности и действительности располагается то, чему общи оба этих порядка: душа, которая вбирает и то, и другое в свое таинственное единство или порождает их из него. Действительность и ценность - как бы два различных языка, на которых логически взаимосвязанные содержания мира, значимые в его идеальном единстве, как говорят, его «что», делаются понятными единой душе - или же языки, на которых может выразить себя душа как чистый, еще вне этой противоположности находящийся образ этих содержаний. И, быть может, оба совокупных представления <Zu-sammenfassungen> этих содержаний, познающее и оценивающее, еще раз охватываются метафизическим единством, для которого нет подходящего слова в языке, разве что среди религиозных символов. Быть может, имеется основание мира, с точки зрения которого воспринимаемые нами чуждость и расхождения между действительностью и ценностью, уже не существуют, где оба ряда обнаруживают себя как один и тот же - потому ли, что это единство вообще не затрагивается данными категориями и с благородным безразличием возвышается над ними, либо же потому, что оно означает совершенно гармоническое, во всех точках однородное переплетение обоих, которое искажается лишь нашим способом постижения, словно бы испорченный зрительный аппарат разнимает его на отдельные куски и противоположные ориентации.
Обычно характер ценности, как он до сих пор проявлялся по контрасту с действительностью, называют ее субъективностью. Поскольку один и тот же предмет может в одной душе обладать ценностью наивысшей степени, в другой же - самой низшей, а, с другой стороны, всестороннее, исключительное многообразие объектов прекрасно совмещается с их равноценностью, то кажется, будто основанием оценки может тогда служить только субъект с его нормальными или совершенно особенными, постоянными или меняющимися настроениями и способами реагирования. Вряд ли стоит упоминать о том, что эта субъективность ничего не имеет общего с той, которой препоручен был весь мир как «мое представление». Ибо субъективность, о которой говорят применительно к ценности, противопоставляет ее готовым, данным объектам, все равно, каким образом они появились. Иными словами, субъект, объемлющий все объекты, есть иной, чем тот, который противопоставляет себя им, та субъективность, которую ценность разделяет со всеми объектами, при этом вообще не учитывается. Субъективность ценности не может также иметь смысл произвола: вся эта независимость от действительного не означает, что воля с необузданной и прихотливой свободой могла бы распределять ценность, [помещая ее] то туда, то сюда. Напротив, сознание предна-ходит ее как факт, в котором он непосредственно может изменить столь же мало, как и в действительностях. Если исключить эти значения, то субъективность ценности первоначально сохранит лишь значение негативное: то, что ценность не в том же смысле присуща самим объектам, как цвет или температура; ибо эти последние, хотя и чувственными свойствами <Sinnesbeschaffenheiten>, все-таки сопровождаются чувством непосредственной зависимости от объекта - чувством, легко отказываться от которого по отношению к ценности нас научает видимое безразличие между рядами действительности и ценности. Однако более существенны и более плодотворны, чем это определение, те случаи, когда психологические факты их, как кажется, все-таки опровергают.
В каком бы эмпирическом или трансцендентальном смысле ни говорили о «вещах» <Dinge> в отличие от субъекта - «свойством» их является отнюдь не ценность, но пребывающее в субъекте суждение о них. Однако ни более глубокий смысл и содержание понятия ценности, ни его значение в пределах индивидуальной душевной жизни, ни практически-социальные события и формы <Gestaltungen>, которые сопряжены с ним, не понимаются сколько-нибудь удовлетворительным образом, если отвести этому понятию место в «субъекте». Путь к такому пониманию лежит в слое <Schicht>, с точки зрения которой эта субъективность кажется чем-то всего лишь преходящим и, собственно, не очень существенным.
Размежевание субъекта и объекта далеко не столь радикально, как можно подумать, исходя из вполне оправданного членения по этим категориям и мира практического, и мира научного. Напротив, душевная жизнь начинается с состояния неразличенности, в котором Я и его объекты еще покоятся в нераздельности, в котором впечатления или представления наполняют сознание, причем носитель этих содержаний еще не отделяет себя от них. Что в актуально определенном, действительном в данный момент состоянии обладающий субъект может быть отличен от содержания, которым он обладает, есть только вторичное сознание, дополнительное разделение. Развитие явно ведет part passu* к тому, что человек говорит самому себе «Я» и признает сущие для себя** объекты вне этого Я. И если в метафизике иногда бытует мнение, что трансцендентная сущность бытия абсолютно едина, [что она -] по ту сторону противоположности субъекта и объекта, то для этого обнаруживается психологический pendant***, [когда душа бывает] просто, примитивно заполнена содержанием представлений, что можно наблюдать у ребенка, который еще не говорит о себе «Я», и что в рудиментарной форме, видимо, сопутствует нам всю жизнь. Единство, из которого категории субъекта и объекта развиваются сначала в связи друг с другом, в ходе процесса, который еще нуждается в объяснении, - это единство лишь потому кажется нам субъективным, что мы подходим к нему с понятием объективности, которое вырабатывается лишь вполедствии, а для единств такого рода у нас вообще нет правильного выражения, и мы имеем обыкновение называть их по одному из односторонних элементов, взаимодействием которых они кажутся в последующем анализе. Так, утверждали, что действование по своей абсолютной сущности всегда совершенно эгоистично - в то время как эгоизм имеет понятное содержание лишь в рамках действования и в про-тивоположность альтруизму как своему корреляту; так, пантеизм назвал всеобщность бытия Богом, позитивное понятие которого можно обрести, однако же, только дистанцировавшись от всего эмпирического. Это эволюционистское соотнесение субъекта и объекта повторяется, наконец, в самых крупных размерах: духовный мир классической древности существенным образом отличается от Нового времени, поскольку лишь это последнее привело, с одной стороны, к самому глубокому и отчетливому понятию «Я», предельно заостренному в том неведомом древности значении, [какое придается] проблеме свободы, а с другой стороны, - к самостоятельности и мощи понятия «объект», выраженному в представлении о нерушимой законосообразности природы. Древность еще не так далеко, как последующие эпохи, отошла от состояния нераз-личенности, в котором содержания представляются просто, без расчленяющего их проецирования на субъект и объект.
* «В той же мере», «равным образом» (лат.).
** «Для себя» и «в себе» - устойчивые переводы для немецких «fur sich» и «an sich». Тем не менее в ряде случаев Зиммель явно использует эти выражения, не вкладывая в них большой философский смысл, что позволило предложить более удобочитаемый перевод: «сам (сама, само) по себе». Однако, выражение «в себе и для себя» переводится только традиционным образом.
*** Здесь: «пара», «соответствие» (фр.).
Основанием этого расходящегося развития представляется один и тот же, но словно бы действующий в различных слоях мотив. Ибо осознание субъектности само уже есть объективация. Здесь заключен первофеномен личностной формы духа; то, что мы можем сами себя наблюдать, знать, оценивать как некий «предмет», что мы все-таки разлагаем Я, воспринимаемое как единство, на представляющий Я-субъект и представляемый Я-объект, причем оно из-за этого отнюдь не теряет своего единства, а, напротив, собственно, только и осознает себя в этой внутренней игре противоположностей <Gegenspiel>, - именно это и является фундаментальным деянием нашего духа, определяющим все его формообразование <Gestammg>. Обоюдное требование субъектом объекта и объектом субъекта здесь словно бы сходится в некоторой точке, оно овладевает самим субъектом, которому обычно весь мир противостоит как объект. Таким образом у человека, коль скоро он осознает сам себя, говорит сам себе «Я», имеется основополагающая форма <Form> отношения к миру, так реализует он свое восприятие мира. Но прежде нее, как по смыслу, так и по душевному развитию, имеет место простое представление содержания, не вопрошающее о субъекте и объекте и еще не разделенное между ними. А с другой стороны, само это содержание как логическое, понятийное образование, ничуть не менее внеположно решению, выбирающему между субъективной и объективной реальностью. Мы можем мыслить любой и каждый предмет исключительно в соответствии с его определениями и их взаимосвязью, совершенно не задаваясь вопросом, дан ли или может быть дан этот идеальный комплекс качеств также и как объективное существование. Конечно, поскольку такое чистое вещественное содержание бывает помыслено, оно является представлением, а значит, и субъективным образованием. Только вот субъективное есть здесь лишь динамический акт представления, функция, воспринимающая это содержание; само содержание мыслится именно как нечто независимое от того, что оно представляется. Наш дух имеет примечательную способность мыслить содержания как нечто независимое от того, что оно помыслено <Gedachtwerden> - это первичное, ни к чему далее не сводимое его свойство; у таких содержаний имеется понятийная или вещественная определенность и взаимосвязи, которые, правда, могут представляться, однако не растворяются в представлении, но значимы, независимо от того, воспринимаются ли они моим представлением или нет: содержание представления не совпадает с представлением содержания. Так же, как это примитивное, недифференцированное представление, состоящее исключительно в осознании некоего содержания, нельзя называть субъективным, ибо оно еще вообще не погружено в противоположность субъекта и объекта, так и это содержание вещей или представлений отнюдь не объективно, но равно свободно и от этой дифференциальной формы, и от ее противоположности и только находится в готовности выступить в одной или другой из них. Субъект и объект рождаются в одном и том же акте: логически - потому что чисто понятийное, идеальное вещественное содержание дается то как содержание представления, то как содержание объективной действительности; психологически - потому что еще лишенное «Я» представление, в котором личность и вещь содержатся в состоянии неразличенности, расступается и между Я и его предметом возникает дистанция, благодаря которой каждый из них только и обретает свою отличную от другого сущность.
К тому же этот процесс, который, наконец, приводит к появлению нашей интеллектуальной картины мира, совершается и в практике воления. И здесь разделение на вожделеющий, наслаждающийся, оценивающий субъект и считающийся ценностью объект тоже не охватывает ни всех состояний души, ни всей вещественной систематики практической сферы. Когда человек лишь пользуется каким-либо предметом, [тогда] имеет место сам по себе совершенно единый акт. В такое мгновение у человека есть восприятие, которое не содержит ни сознания противостоящего нам объекта как такового, ни сознания «Я», которое было бы обособлено от своего моментального состояния. Здесь встречаются самые глубокие и самые высшие явления. Грубое влечение, особенно безлично-всеобщей природы, желает только исчерпать себя в предмете, только удовлетворить себя - все равно, чем; сознание наполнено одним только наслаждением и не акцентирует, обращаясь к ним по отдельности, ни, с одной стороны, свой носитель, ни, с другой стороны, свой предмет. Но вместе с тем, та же форма обнаруживается и у эстетического наслаждения, когда оно достигает наивысшей интенсивности. Также и здесь «мы сами себя забываем», однако, и произведение искусства мы уже не воспринимаем как нечто, противостоящее нам, ибо душа полностью слита с ним, оно столь же включено в нее, как и она отдает себя ему. И в том, и в другом случае психологическое состояние еще не или уже не затрагивается противоположностью субъекта и объекта, лишь вновь начинающийся процесс сознания исторгает из непосредственного единства этого состояния указанные категории и затем уже только рассматривает чистое наслаждение содержанием как, с одной стороны, состояние противостоящего объекту субъекта, а с другой стороны, - как воздействие объекта, независимого от субъекта. Это напряжение, которое разнимает наивно-практическое единство субъекта и объекта, только и создавая и то, и другое (одно в другом) для сознания, производится сначала простым фактом вожделения. Поскольку мы вожделеем то, чем еще не обладаем и не наслаждаемся, содержание его выступает перед нами. Правда, в развитой эмпирической жизни готовый предмет сначала предстоит нам и только затем оказывается вожделен - уже потому, что- помимо событий воления, объективацию душевных содержаний вызывают многие другие [события], теоретические и чувственные; только в пределах практического мира самого по себе, с точки зрения его внутреннего порядка и возможности понимать его, возникновение объекта как такового и вожделение объекта субъектом суть соотносительные понятия, две стороны процесса дифференциации, рассекающего непосредственное единство процесса наслаждения.
Утверждают, что наши представления об объективной действительности берут начало в том сопротивлении, которое мы испытываем со стороны вещей <Dinge>, в особенности при посредстве осязания. Это можно без оговорок перенести на практическую проблему. Мы вожделеем вещи лишь вне их непосредственной самоотдачи нашему потреблению и наслаждению, т. е. именно постольку, поскольку они ему как-то сопротивляются; содержание становится предметом, коль скоро оно противостоит нам, причем не только в своей воспринимаемой непроницаемости, но и в дистанцированности еще-не-наслаждения, субъективной стороной которого является вожделение. Кант говорил: возможность опыта есть возможность предметов опыта - потому что познавать на опыте означает, что наше сознание образует из чувственных восприятий предметы. Точно так же и возможность вожделения есть возможность предметов вожделения. Возникающий таким образом объект, характеризуемый дистанцией по отношению к субъекту, чье вожделение равно фиксирует эту дистанцию и стремится преодолеть ее, - [такой объект] мы называем ценностью. Сам миг наслаждения, когда субъект и объект смиряют свои противоположности, как бы поглощает <konsumiert> ценность, и она снова возникает только при отделении субъекта - как противоположности - от объекта. Простейшие наблюдения: что то, чем мы владеем, становится нам дорого как ценность по-настоящему лишь при утрате его; что один только отказ в [получении] вожделеемой вещи часто сообщает ей ценность, которой лишь в весьма малой степени соответствует достигнутое наслаждение; что удаленность от предметов наших наслаждений - ив самом непосредственном, и в любом переносном смысле слова «удаление» - показывает их преображенными и более возбуждающими, - все это производные, модификации, смешанные формы того основополагающего факта, что ценность берет начало не в цельном единстве момента наслаждения, но [возникает лишь постольку,] поскольку содержание его отрывается как объект от субъекта и выступает перед ним как только теперь вожделеемое, добыть которое можно только преодолением расстояний, препятствий, трудностей. Воспользуемся аналогией, к которой мы уже прибегли выше: в конечном счете, быть может, не реальности вторгаются в наше сознание, благодаря создаваемым ими для нас препятствиям, но те представления, с которыми связаны восприятия сопротивлений и ощущения помех, называются у нас объективно реальными, независимо существующими вне нас. Поэтому не из-за того, что они ценны, трудно заполучить эти вещи, но ценными мы называем те из них, которые выставляют препятствия нашему вожделению заполучить их. Поскольку в них это вожделение как бы надламывается или застопоривается, у них появляется такая значительность, для признания которой беспрепятственная воля никогда не видела повода.
Ценность, которая, таким образом, выступает одновременно с вожделеющим Я и как его коррелят в одном и том же процессе дифференциации, относится кроме того еще к одной категории, той же самой, которая имела силу и для объекта, обретаемого на пути теоретического представления. В этом последнем случае оказывалось, что содержания, которые, с одной стороны, реализованы в объективном мире, а с другой, - живут в нас как субъективные представления, обладают, помимо всего этого, еще и своеобразным идеальным достоинством. Понятие треугольника или организма, каузальность или закон гравитации имеют логический смысл, значимость <Gultigkeit> внутренней структуры, благодаря которой они, правда, определяют свое осуществление в пространстве и сознании, но даже если бы дело никогда и не дошло до такого осуществления, они все равно относились бы к уже не поддающейся дальнейшему членению категории значимого <Gultigen> или значительного <Bedeutsamen> и безусловно отличались бы от фантастических или противоречивых понятийных образований, которым они, однако же, были бы совершенно тождественны в аспекте физической или психической нереальности. Аналогично (хотя и с модификациями, обусловленными различием самих областей) обстоит дело и с ценностью, возникающей у объектов субъективного вожделения. Подобно тому, как мы представляем себе некоторые предложения истинными, причем это сопровождается осознанием того, что истинность их не зависит от этого представления, так и по отношению к вещам, людям, событиям мы воспринимаем, что они не только воспринимаются нами как ценные, но были бы ценны, даже если бы их не ценил никто. Самый простой пример - это ценность, которую мы приписываем убеждениям людей - нравственным, благородным, сильным, прекрасным. Выражаются ли когда-нибудь эти внутренние свойства в деяниях, которые позволят или даже вынудят признать их ценность; даже то, рефлектирует ли над ними с ощущением своей ценности сам их носитель, - все это применительно к факту самой их ценности не только нам безразлично, но как раз это безразличие относительно их признанности или осознанности придает этим ценностям особую окраску. Возьмем другой пример: [вот -] интеллектуальная энергия и тот факт, что она выводит на свет сознания сокровеннейшие силы и порядки природы; [вот -] сила и ритм тех чувств, которые в узком пространстве индивидуальной души все-таки бесконечно превосходят по своему значению весь внешний мир, даже если верно пессимистическое утверждение о преизбытке страдания; [вот, затем, - тот факт,] что вообще природа вне человека совершает движение в надежных рамках прочных норм, а множество ее форм тем не менее оставляет пространство для глубинного единства целого, что ее механизм и поддается истолкованию согласно идеям, и способен к производству красоты и грации*, - [пусть так], мы же на все это заявим, что мир именно ценностей, все равно, воспринимаются ли эти ценности сознанием или нет.
* В оригинале - совершенно неудобопонятная по-русски форма двойного отрицания: «sich weder der Deutung nach Ideen entzieht, noch sich weigert, Schonheit und Anmut zu erzeugen».
И то же самое будет иметь силу, опускаясь вплоть до уровня экономического количества ценности, которое мы приписываем некоторому объекту обмена <Tauschverkehrs>, даже если никто не готов, например, дать за него соответствующую цену .и даже если он вообще остается нежеланным и непродажным. Также и в этом направлении утверждает себя фундаментальная способность духа: одновременно противопоставлять себя содержаниям, которые он в себе представляет, представлять их так, словно бы они были независимы от того, что они представляемы. Конечно, всякая ценность, поскольку мы ее чувствуем, есть именно чувство; но вот что мы подразумеваем под этим чувством, есть в себя и для себя значащее содержание, которое, правда, психологически реализуется чувством, но не тождественно ему и не исчерпывается им. Эта категория явственным образом оказывается по ту сторону спорного вопроса о субъективности или объективности ценности, ибо она отвергает соотносительность <Korrelativitat> с субъектом, без которой невозможен объект; она есть, напротив, нечто третье, идеальное, что, правда, сопрягается с этим двойством <Zweiheit>, но не растворяется в нем. Практическому характеру той области, к которой она принадлежит, отвечает и особенная форма отношения к субъек^ ту, которая недоступна в случае сдержанного теоретического представления сугубо абстрактно «значимых» содержаний. Эту форму можно назвать требованием или притязанием. Ценность, которая прилепилась <haftet> к какой-либо вещи, личности, отношению, событию, жаждет признания. Конечно, это стремление как событие можно обнаружить только в нас, субъектах; но только вот исполняя его, мы ощущаем, что тем самым не просто удовлетворяем требованию, которое поставили себе мы сами, - и уж тем более не воспроизводим некоторую определенность объекта. Значение какого-либо телесного символа, состоящее в возбуждении у нас религиозного чувства; нравственное требование со стороны определенной жизненной ситуации революционизировать ее или оставить, как есть, развивать далее или направить движение назад; ощущение того, что долг наш - не быть равнодушными перед лицом великих событий, но реагировать на них всей душой; право наглядно созерцаемого быть не просто принятым к сведению, но включенным во взаимосвязи эстетической оценки - все это притязания, которые, правда, воспринимаются и осуществляются только внутри Я и для которых в самих объектах нельзя обнаружить никакого соответствия, никакой вещественной точки приложения, но которые, как притязания, столь же мало могут быть размещены в Я, как и в предметах, коих они касаются. С точки зрения естественной вещественности, такое притязание может казаться субъективным, с точки зрения субъекта, - объективным; в действительности же это третья категория, которую нельзя составить из первых двух, это как бы нечто между нами и вещами. Я говорил, что ценность вещей относится к тем образам содержания, которые мы, представляя их, одновременно воспринимаем как нечто самостоятельное, хотя именно представляемое, нечто оторванное от той функции, благодаря которой оно живет в нас; в том же случае, когда ценность образует содержание этого «представления», оно, если присмотреться внимательнее, оказывается именно восприятием притязания, данная «функция» есть требование, не существующее как таковое вне нас, но, по своему содержанию, берущее начало в идеальном царстве, которое находится не в нас, которое также не присуще <anhaftet> объектам ценностной оценки как их качество; напротив, оно есть <besteht> значение, которое эти объекты имеют для нас как субъектов благодаря своему расположению в порядках этого идеального царства. Ценность, которую мы мыслим независимой от ее признанности, есть метафизическая категория; как таковая она находится по ту сторону дуализма субъекта и объекта, подобно тому, как непосредственное наслаждение находилось по сию сторону этого дуализма. Последнее есть конкретное единство, к которому еще не приложены эти дифференциальные категории, первое же - это абстрактное, или идеальное единство, в для-себя-сущем значении которого этот дуализм снова исчез - подобно тому, как во всеохватности сознания, которую Фихте называет «Я», исчезает противоположность эмпирического Я и эмпирического He-Я. Как наслаждение в момент полного слияния функции со своим содержанием нельзя назвать субъективным, ибо нет никакого противостоящего объекта, который бы оправдывал понятие субъекта, так и эта сущая для себя, значимая в себе ценность не объективна, ибо она мыслится именно как независимая от субъекта, который ее мыслит; она выступает, правда, внутри субъекта как требование признания, однако ничего не утрачивает в своей сущности и при неисполнении этого требования.
При восприятии ценностей в повседневной практике жизни, эта метафизическая сублимация понятия не учитывается. Здесь речь идет только о ценности, живущей в сознании субъектов, и о той объективности, которая возникает в этом психологическом процессе оценивания как его предмет. Выше я показал, что этот процесс образования ценности происходит с увеличением дистанции между наслаждающимся и причиной его наслаждений. А поскольку величина этой дистанции варьирует (не по мере наслаждения, в котором она исчезает, но по мере вожделения, которое появляется одновременно с дистанцией и которое пытается преодолеть наслаждающийся), то постольку лишь и возникают те различия в акцентировании ценностей, которые можно рассматривать как разницу между субъективным и объективным. По меньшей мере, что касается тех объектов, на оценке которых основывается хозяйство, ценность, правда, является коррелятом вожделения (подобно тому, как мир бытия есть мое представление, так мир ценности есть мое вожделение) однако, несмотря на логико-физическую необходимость, с которой всякое вожделеющее влечение ожидает удовлетворения от некоторого предмета, оно во многих случаях, по своей психологической структуре, направляется на одно лишь это удовлетворение, так что сам предмет при этом совершенно безразличен, важно только, чтобы он утихомиривал влечение. Если мужчину может удовлетворить любая баба без индивидуального выбора; если он ест все, что только может прожевать и переварить; если спит на любой койке, если его культурные потребности можно удовлетворить самым простым, одной лишь природой предлагаемым материалом, - то [здесь] практическое сознание еще совершенно субъективно, оно наполнено исключительно собственным состоянием субъекта, его возбуждениями и успокоениями, а интерес к вещам ограничивается тем, что они суть непосредственные причины этих действий. Правда, это скрывает наивная проективная потребность примитивного человека, его направленная вовне жизнь, принимающая интимный мир как нечто самоочевидное. Одно только осознанное желание нельзя всегда считать вполне достаточным показателем действительно эффективного восприятия ценности. Легко понятная целесообразность в дирижировании нашими практическими силами достаточно часто представляет нам предмет как ценный, тогда как возбуждает нас, собственно, вовсе не он сам в своем вещественном значении, но субъективное удовлетворение потребности, которое он должен для нас создать. Начиная с этого состояния - которое, конечно, не всегда должно иметь значение первого по времени, но всегда должно считаться самым простым, фундаментальным, как бы систематически первым - сознание бывает направлено на сам объект двумя путями, которые, однако, снова соединяются. А именно, коль скоро одна и та же потребность отвергает некоторое количество возможностей удовлетворения, может быть, даже все, кроме одной, то есть там, где желаемо не просто удовлетворение, но удовлетворение определенным предметом, там открыт путь к принципиальному повороту от субъекта к объекту. Конечно, можно было бы возразить, что речь идет в каждом случае лишь о субъективном удовлетворении влечения, только в последнем случае само по себе влечение уже настолько дифференцировано, что удовлетворить его может лишь точно определенный объект; иными словами, и здесь тоже предмет ценится лишь как причина восприятия, но не сам по себе. Конечно, такое возражение могло бы свести на нет это сомнительное различие, если бы дифференциация влечения заостряла его на одном единственном удовлетворяющем ему объекте действительно столь исключительным образом, что удовлетворение посредством других объектов было бы вообще исключено. Однако это - весьма редкий, уникальный случай. Более широкий базис, на котором развиваются даже самые дифференцированные влечения, изначальная всеобщность потребности, содержащей в себе именно действие влечения <Getriebenwerden>, но не особенную определенность цели, обычно и впоследствии остается той подосновой, которая только и позволяет суженным желаниям удовлетворения осознать свою индивидуальную особенность. Поскольку все большая утонченность субъекта ограничивает круг объектов, удовлетворяющих его потребностям, он резко противопоставляет предметы своего вожделения всем остальным, которые сами по себе тоже могли бы утихомирить его потребность, но которые он, тем не менее, теперь уже не ищет. Это различие между объектами, как показывают известные психологические наблюдения, в особенно высокой степени направляет на них сознание и заставляет их выступить в нем как предметы самостоятельной значимости. На этой стадии кажется, что потребность детерминирована предметом; по мере того, как влечение уже не кидается на любое, лишь бы только возможное удовлетворение, уже не terminus a quo*, но terminus ad quern** все более и более направляет практическое восприятие, так что увеличивается пространство, которое занимает в сознании объект как таковой. Взаимосвязь здесь еще и следующая. Покуда влечения насилуют человека, мир образует для него, собственно, неразличимую массу; ибо, пока они означают для него только само по себе иррелевантное средство удовлетворения влечений (а этот результат к тому же может быть также вызван множеством причин), до тех пор с предметом в его самостоятельной сущности не бывает связано никакого интереса. Но то, что мы нуждаемся в совершенно особенном, уникальном объекте, позволяет более четко осознать, что мы вообще нуждаемся в каком-либо объекте. Однако это сознание известным образом более теоретично, оно понижает слепую энергию влечения, стремящегося только к самоисчерпанию.
* Исходный пункт (лат.).
** Конечный пункт (лат.).
В то время как дифференцирующее заострение потребности идет рука об руку с ослаблением ее стихийной силы, в сознании освобождается больше места для объекта. То же получается, если посмотреть с другой стороны: поскольку утончение и специализация потребности вынуждает сознание ко все большей самоотдаче объекту, у солипсистской потребности отнимается некоторое количество силы. Повсюду ослабление аффектов, т.е. безусловной самоотдачи Я моментальному содержанию своего чувства, взаимосвязано с объективацией представлений, с выведением их в противостоящую нам форму существования. Так, например, возможность выговориться является одним из мощнейших средств притупления аффектов. В слове внутренний процесс как бы проецируется вовне и противостоит [говорящему] как воспринимаемый образ, а тем самым уменьшается резкость аффекта. Смирение страстей и представление объективного как такового в его существовании и значении суть лишь две стороны одного и того же основного процесса. Очевидно, что отвратить внутренний интеpec от одной только потребности и ее удовлетворения и посредством сужения возможностей последнего обратить этот интерес на объект можно с тем же и даже большим успехом также и со стороны объекта - поскольку он делает удовлетворение трудным, редким и достижимым только обходными путями и благодаря специальному приложению сил. То есть если мы предположим наличие даже очень дифференцированного, направленного лишь на самые избранные объекты вожделения, то и оно все-таки будет воспринимать свое удовлетворение как нечто относительно самоочевидное, покуда это удовлетворение будет обходиться без трудностей и сопротивления. Дело в том, что для познания собственного значения вещей необходима дистанция, образующаяся между ними и нашим восприятием. Таков лишь один из многих случаев, когда надо отойти от вещей, положить пространство между нами и ними, чтобы обрести объективную картину их. Конечно, и она определена субъективно-оптически не в меньшей степени, чем нечеткая или искаженная картина при слишком большой или слишком малой дистанции, однако по внутренним основаниям целесообразности познания именно в этих крайних случаях субъективность оказывается особенно акцентированной. Изначально объект существует только в нашем к нему отношении, вполне слит с [этим отношением] и противостоит нам лишь в той мере, в какой он уже не во всем подчиняется этому отношению. Дело точно так же лишь там, где желание не совпадает с исполнением, доходит и до подлинного вожделения вещей, которое признает их для-себя-бытие, именно поскольку пытается преодолеть его. Возможность наслаждения, как образ будущего, должна быть сначала отделена от нашего состояния в данный момент, чтобы мы вожделели вещи, которые сейчас находятся на дистанции от нас. Как в области интеллектуального изначальное единство созерцания, которое можно еще наблюдать у детей, лишь постепенно расчленяется на сознание Я и осознание противостоящего ему объекта, так и наивное наслаждение лишь освободит место осознанию значения вещи, как бы уважению к ней, когда вещь ускользнет от него. Также и здесь проявляется взаимосвязь между ослаблением аффектов вожделения и началом объективации ценностей, поскольку усмирение стихийных порывов воления и чувствования благоприятствует осознанию Я. Покуда личность еще отдается, не сдерживаясь, возникающему в данный момент аффекту, совершенно преисполняется и увлекается им, Я еще не может образоваться; напротив, сознание Я, пребывающее по ту сторону отдельных своих возбуждений, может обнаружиться как нечто постоянное во всех изменениях этих последних только тогда, когда уже ни одно из них не увлекает человека целиком; напротив, они должны оставить нетронутой какую-то его часть, которая образует точку неразличенности их противоположностей, так что, таким образом, только определенное их умаление и ограничение позволяет возникнуть Я как всегда тождественному носителю нетождественных содержаний. Но подобно тому, как Я и объект суть во всех возможных областях нашего существования понятия соотносительные, которые еще не различены в изначальной форме представления и только вы-дифференцируются из нее, одно в другом, - так и самостоятельная ценность объектов могла бы развиться лишь в противоположности ставшему самостоятельным Я. Только испытываемые нами отталкивания от объекта, трудности получения его, время ожидания и труда, отодвигающее желание от исполнения, разнимают Я и объект, которые в неразвитом виде и без специального акцентирования покоятся в непосредственном примыкании друг к другу потребности и удовлетворения. Пусть даже объект определяется здесь одной только своей редкостью (соотносительно с вожделенностью) или позитивными трудами по его присвоению, - во всяком случае, он сначала полагает тем самым дистанцию между собой и нами, которая, в конце концов, позволяет сообщить ему ценность, потустороннюю для наслаждения этим объектом.
Таким образом, можно сказать, что ценность объекта покоится, правда, на том, что он вожделеем, но вожделение это потеряло свой абсолютный характер влечения. Однако точно так же и объект, если он должен оставаться хозяйственной ценностью, не может повысить количество своей ценности настолько, чтобы практически иметь значение абсолютного. Дистанция между Я и предметом его вожделения может быть сколь угодно велика - будь то из-за реальных трудностей с его получением, будь то из-за непомерной цены, будь то из-за сомнений нравственного или иного рода, которые противодействуют стремлению к нему, - так что дело не заходит о реальном акте воли, но вожделение либо затухает, либо превращается в смутные желания. Таким образом, дистанция между субъектом и объектом, с увеличением которой возникает ценность, по меньшей мере, в хозяйственном смысле, имеет нижнюю и верхнюю границы, так что формулировка, согласно которой мера ценности равна мере сопротивления, оказываемого получению вещей сообразно естественным, производственным и социальным шансам, - эта формулировка не затрагивает существа дела. Конечно, железо не было бы хозяйственной ценностью, если бы получение его не встречало больших трудностей, чем, например, получение воздуха для дыхания; с другой стороны, однако, эти трудности должны были стать ниже определенного уровня, чтобы путем обработки железа вообще можно было изготовить инструменты в таком количестве, что и сделало его ценным. Другой пример: говорят, что творения плодовитого живописца, при том же художественном совершенстве, будут менее ценны, чем у менее продуктивного; но это правильно только в случае превышения определенного количества. Ведь требуется некоторое множество произведений художника, чтобы он вообще мог однажды добиться той славы, которая поднимает цену его картин. Далее, в некоторых странах, где имеют хождение бумажные деньги, редкость золота приводит к тому, что простой народ вообще не хочет принимать золота, если оно ему случайно предлагается. Именно в отношении благородных металлов, которые из-за своей редкости считаются обычно особенно пригодным материалом для денег, теория не должна упустить из виду, что такое значение редкость обретает только после превышения довольно значительной частоты распространения, без которой эти металлы вообще не могли бы служить практической потребности в деньгах и, таким образом, не могли бы обрести той ценности, которой они обладают как денежный материал. Быть может, только практическое корыстолюбие, которое вожделеет превыше всякого данного количества благ и которому поэтому кажется малой всякая ценность, заставляет забыть, что не редкость, но нечто среднее между редкостью и не редкостью образует в большинстве случаев условие ценности. Нетрудно догадаться, что редкость - это момент, который важен для восприятия различий, а частота распространения - это момент, важность которого связана с привыканием. А поскольку жизнь всегда определяется пропорциональным соотношением обоих этих фактов, т. е. тем, что мы нуждаемся и в различии и перемене ее содержаний, и в привыкании к каждому из них, то эта общая необходимость выражается здесь в особой форме: с одной стороны, ценность вещей требует редкости, т. е. некоторого отрыва от них, особого к ним внимания, а с другой стороны, - известной широты, частоты распространения, длительности, чтобы вещи вообще переходили порог ценности.
Всеобщее значение дистанцирования для представляющегося объективным оценивания я намерен показать на примере, который весьма далек от ценностей экономических и как раз поэтому годится, чтобы отчетливее показать также и их принципиальную особенность. Я говорю о ценностях эстетических. То, что мы теперь называем радостью по поводу красоты вещей, развилось относительно поздно. Ведь сколько бы непосредственного физического наслаждения ни приносила нам она в отдельных случаях даже теперь, однако же специфика заключается именно в сознании того, что мы отдаем должное вещи <Sache> и наслаждаемся ею, а не просто состоянием чувственной или сверхчувственной возбужденности, которое, например, она нам доставляет. Каждый культурно развитый <kultivierter> мужчина, в принципе, весьма уверенно различит эстетическую и чувственную радость, доставляемую женской красотой, сколь бы мало ни мог он разграничить в отдельном явлении эти компоненты своего совокупного чувства. В одном аспекте мы отдается объекту, в другом - он отдается нам. Пусть эстетическая ценность, как и всякая другая, будет чужда свойствам самих вещей <Dinge>, пусть она будет проекцией чувства в вещи, однако для нее характерно, что эта проекция является совершенной, т. е. что содержание чувства, так сказать, целиком входит в предмет и являет себя как противостоящая субъекту значимость со своей собственной нормой, как нечто такое, что есть предмет. Но как же, [с точки зрения] историко-психологиче-ской, дело могло дойти до этой объективной, эстетической радости от вещей <Dinge>, если примитивное наслаждение ими, из которого только и может исходить более высокое наслаждение, прочно связано с их способностью быть предметами наслаждения и их полезностью? Быть может, ключ к разгадке даст нам очень простое наблюдение. Если какого-либо рода объект доставил нам большую радость или весьма поощряет нас, то всякий следующий раз, глядя на этот объект, мы испытываем чувство радости, причем даже тогда, когда об использовании его или наслаждении им речь уже не идет. Эта радость, отдающаяся в нас подобно эху, имеет совершенно особенный психологический характер, определяемый тем, что мы уже ничего не хотим от предмета; на место конкретного отношения, которое прежде связывало нас с ним, теперь приходит просто его созерцание как причины приятного ощущения; мы не затрагиваем его в его бытии, так что это чувство связывается только с его явлением, но не с тем, что здесь можно в каком-либо смысле употребить. Короче говоря, если предмет прежде был для нас ценен как средство для наших практических или эвдемонистических целей, то теперь один только его образ созерцания доставляет нам радость, тогда как мы ему противостоим при этом более сдержанно, более дис-танцированно, вовсе не касаясь его. Мне представляется, что здесь уже преформированы решающие черты эстетического, что недвусмысленно обнаруживается, как только это преобразование ощущений прослеживают далее, от индивидуально-психологического - к родовому развитию. Уже с давних пор красоту пытались вывести из полезности, однако из-за чрезмерного сближения того и другого, как правило, застревали на пошлом огрублении прекрасного. Избежать этого можно, только если достаточно далеко отодвинуть в историю рода внешнюю целесообразность и чувственно-эвдемонистическую непосредственность, так, чтобы с образом этих вещей в нашем организме было связано подобное инстинкту или рефлексу чувство удовольствия, которое действует в унаследовавшем эту физико-психическую связь индивиде, даже если полезность предмета для него самого не осознается им или [вообще] не имеет места. Мне нет нужды подробно останавливаться на спорах о наследовании приобретенных таким образом связей, потому что для нашего изложения достаточно и того, что явления протекают так, как если бы приобретенные свойства были унаследованы. Таким образом, прекрасным для нас было бы первоначально то, что обнаружило свою полезность для рода, а восприятие его потому и доставляет нам удовольствие, хотя мы как индивиды не имеем конкретной заинтересованности в этом объекте - что, конечно, не означает ни униформизма, ни прикованности индивидуального вкуса к среднему или родовому уровню. Отзвуки этой всеобщей полезности воспринимаются всем многообразием индивидуальных душ и преобразуются далее в особенности, заранее отнюдь не предрешенные, - так что, пожалуй, можно было бы сказать, что этот отрыв чувства удовольствия от реальности изначального повода к нему стал, наконец, формой нашего сознания, независимой от первых содержаний, вызвавших ее образование, и готовой воспринять в себя любые другие содержания, врастающие в нее в силу [той или иной] душевной констелляции. В тех случаях, когда у нас еще есть и повод для реалистического удовольствия, наше чувство по отношению к вещам - не специфически эстетическое, но конкретное, которое лишь благодаря определенному дистанцированию, абстрагированию, сублимации испытывает метаморфозу, [превращаясь именно в] эстетическое. Здесь происходит то, что случается, в общем-то, довольно часто: после того, как некоторое отношение устанавливается, связующий элемент выпадает, потому что его услуги больше уже не требуются. Связь между определенными полезными объектами и чувством удовольствия стала у [человеческого] рода, благодаря наследственному или какому-то иному механизму передачи традиции, столь прочной, что уже один только вид этих объектов, хотя бы мы ими и не наслаждались, оказывается для нас удовольствием. Отсюда - то, что Кант называет эстетической незаинтересованностью, безразличие относительно реального существования предмета, когда дана только его «форма», т. е. его зримость; отсюда - преображение и надмирность прекрасного - она есть результат временной удаленности реальных мотивов, в силу которых мы теперь воспринимаем эстетически; отсюда - и представление о том, что прекрасное есть нечто типическое, надындивидуальное, общезначимое - ибо родовое развитие уже давно вытравило из этого внутреннего движения все специфическое, сугубо индивидуальное, что относилось к отдельным мотивам и опыту; отсюда - частая невозможность рассудочно обосновать эстетическое суждение, которое к тому же нередко оказывается противоположным тому, что полезно или приятно нам как индивидам. Все это развитие вещей от их ценности-полезности к ценности-красоте есть процесс объективации. Поскольку я называю вещь прекрасной, ее качество и значение совершенно иначе независимы от диспозиций и потребностей субъекта, чем когда она просто полезна. Покуда вещи только полезны, они функциональны, т. е. каждая иная вещь, которая имеет тот же результат, может заменить каждую. Но коль скоро они прекрасны, вещи обретают индивидуальное для-себя-бытие, так что ценность, которую имеет для нас одна из них, не может быть заменена иною вещью, которая, допустим, в своем роде столь же прекрасна. Не обязательно прослеживать генезис эстетического, начиная с его едва заметных признаков и кончая многообразием развитых форм, чтобы понять: объективация ценности возникает в отношении дистанцированности, образующейся между субъективно-непосредственным истоком оценки объекта и нашим восприятием его в данный момент. Чем дальше отстоит по времени и как таковая забывается полезность для рода, которая впервые заставляет связать с объектом заинтересованность и оценку, тем чище эстетическая радость от одной лишь формы и созерцания объекта, т. е. он тем более противостоит нам со своим собственным достоинством, и мы тем более придаем ему то значение, которое не растворяется в случайном субъективном наслаждении им, а наше отношение к вещам, когда мы оцениваем их лишь как средства для нас, тем более уступает место чувству их самостоятельной ценности.
Я выбрал этот пример, потому что объективирующее действие того, что я называю дистанцированием, оказывается особенно наглядным в случае временной удаленности. Конечно, это более интенсивный и качественный процесс, так что количественная характеристика с указанием на дистанцию является только символической. И поэтому тот же самый эффект может быть вызван рядом других моментов, как это фактически уже и обнаружилось: редкостью объекта, трудностями его получения, необходимостью отказа от него. Пусть в этих случаях, которые существенны для хозяйства, важность вещей всегда будет важностью для нас и потому останется зависимой от нашего признания - однако решающий поворот состоит в том, что в результате этого развития вещи противостоят нам как сила <Macht> противостоит силе, как мир субстанций и энергий <Krafte>, которые своими свойствами определяют, удовлетворяют ли они, и насколько именно, наши вожделения, и которые, прежде чем отдаться нам, требуют от нас борьбы и трудов. Лишь если встает вопрос об отказе - отказе от ощущения (а ведь дело, в конце концов, в нем), появляется повод направить сознание на предмет такового. Стилизованное представлением о рае состояние, в котором субъект и объект, вожделение и исполнение еще не разделились, отнюдь не есть состояние исторически ограниченной эпохи и выступает повсюду и в самых разных степенях; это состояние, конечно, предопределено к разложению, но тем самым опять-таки и к примирению: смысл указанного дистанцирования заключается в том, что оно преодолевается. Страстное желание, усилие, самопожертвование, вмещающиеся между нами и вещами, как раз и должны нам их доставить. «Дистанцирование» и приближение также и практически суть понятия взаимообразные, каждое из них предполагает другое, и оба они образуют стороны того отношения к вещам, которое мы субъективно называем своим вожделением, а объективно - их ценностью. Конечно, мы должны удалить от себя предмет, от которого мы получили наслаждение, дабы вожделеть его вновь; что же касается дальнего, то это вожделение есть первая ступень приближения, первое идеальное отношение к нему. Такое двойственное значение вожделения, т. е. то, что оно может возникнуть только на дистанции к вещам, преодолеть которую оно как раз и стремится, но что оно при этом все-таки предполагает уже какую-то близость между нами и вещами, дабы имеющаяся дистанция вообще ощущалась, - это значение прекрасно выразил Платон, говоривший, что любовь есть среднее состояние между обладанием и необладанием. Необходимость жертвы, уяснение в опыте, что вожделение успокоено не напрасно, есть только заострение или возведение в степень этого отношения: тем самым мы оказываемся принуждены осознать удаленность между нашим нынешним Я и наслаждением вещами, причем именно благодаря тому, что та же необходимость и выводит нас на путь к преодолению удаленности. Такое внутреннее развитие, приводящее одновременно к возрастанию дистанции и сближения, явственно выступает и как исторический процесс дифференциации. Культура вызывает увеличение круга интересов, т. е. периферия, на которой находятся предметы интереса, все дальше отодвигается от центра, т. е. Я. Однако это удаление возможно только благодаря одновременному приближению. Если для современного человека объекты, лица и процессы, удаленные от него на тысячи миль, имеют жизненное значение, то они должны быть сначала сильнее приближены к нему, чем к естественному человеку, для которого ничего подобного вообще не существует; поэтому для последнего они еще находятся по ту сторону позитивного определения, [т. е. определения их] близости или удаленности. И то, и другое начинает развиваться из такого состояния неразличенности только во взаимодействии. Современный человек должен работать совершенно иначе, чем естественный человек, прилагать усилия совершенно иной интенсивности, т. е. расстояние между ним и предметами его воления несравнимо более дальнее, между ними стоят куда более жесткие условия, но зато и бесконечно более велико количество того, что он приближает к себе - идеально, через свое вожделение, а также реально, жертвуя своим трудом. Культурный процесс - тот самый, который переводит субъективные состояния влечения и наслаждения в оценку объектов - все резче разводит между собой элементы нашего двойного отношения близости к вещам и удаленности от них.
Субъективные процессы влечения и наслаждения объективируются в ценности, т. е. из объективных отношений для нас возникают препятствия, лишения, появляются требования [отдать] какую-то «цену», благодаря чему причина или вещественное содержание влечения и наслаждения только и удаляется от нас, а благодаря этому, одним и тем же актом, становится для нас подлинным «объектом» и ценностью. Таким образом, отвлеченно-радикальный вопрос о субъективности или объективности ценности вообще поставлен неправильно. Особенно сильно вводит в заблуждение, когда его решают в духе субъективности, основываясь на том, что нет такого предмета, который мог бы задать совершенно всеобщий масштаб ценности, но этот последний меняется - от местности к местности, от личности к личности и даже от часа к часу. Здесь путают субъективность и индивидуальность ценности. Что я вожделею наслаждения или наслаждаюсь, есть, конечно, нечто субъективное постольку, поскольку здесь, в себе и для себя, отнюдь не акцентируется осознание предмета как такового или интерес к предмету как таковому. Однако, в дело вступает совершенно новый процесс, процесс оценки: содержание воли и чувства обретает форму объекта. Объект же противостоит субъекту с некоторой долей самостоятельности, довольствуя его или отказывая ему, связывая с получением себя требования, будучи возведен изначальным произволом выбора себя в законосообразный порядок, где он претерпевает совершенно необходимую судьбу и обретает совершенно необходимую обусловленность. То, что содержания, принимающие эту форму объективности, не суть одни и те же для всех субъектов, здесь совершенно не важно. Допустим, все человечество совершило бы одну и ту же оценку; тем самым у этой последней не приросло бы нисколько «объективности» свыше той, какой она уже обладает в некотором совершенно индивидуальном случае; ибо, поскольку содержание вообще оценивается, а не просто функционирует как удовлетворение влечения, как наслаждение, оно находится на объективной дистанции от нас, которая устанавливается реальной определенностью помех и необходимой борьбы, прибылей* и потерь, соображений [о ценности] и цен.
* В оригинале: «Gewinn». В сочетаниях «GewinndesGegenstandes»,«Gewinn desObjekts» и т. д. мы до сих пор переводили его как «получение» (предмета, объекта и т. п.). В сочетаниях «Gewinn und Verlust», «Gewinnund Verzicht», «Gewinn und Opfer» и т. д. оно будет переводиться как «прибыль» («и потеря», «и отказ», «и жертва» и т. п.).
Основание, в силу которого снова и снова ставится ложный вопрос относительно объективности или субъективности ценности, заключается в том, что мы преднаходим в развитом эмпирическом состоянии необозримое число объектов, которые стали таковыми исключительно по причинам, находящимся в сфере представления. Однако уж если в нашем сознании есть готовый объект, то кажется, будто появляющаяся у него ценность помещается исключительно на стороне субъекта; первый аспект, из которого я исходил, - включение содержаний в ряды бытия и ценности, - кажется тогда просто синонимичным их разделению на объективность и субъективность. Однако при этом не принимают во внимание, что объект воли есть как таковой нечто иное, чем объект представления. Пусть даже оба они располагаются на одном и том же месте пространственного, временного и качественного рядов: вожделенный предмет противостоит нам совершенно иначе, означает для нас нечто совсем иное, чем представляемый. Вспомним об аналогичном случае - любви. Человек, которого мы любим, - совсем не тот же образ, что и человек, которого мы представляем себе в соответствии с познанием [о нем]. Я при этом не имею в виду те смещения или искажения, которые привносит, например, аффект в образ познания. Ведь этот последний все равно остается в области представления и в рамках интеллектуальных категорий, как бы ни модифицировалось его содержание. Однако то, как является для нас объектом любимый человек, - это, по существу, иной род, чем интеллектуально представляемый, он означает для нас, несмотря на все логическое тождество, нечто иное, примерно, так, как мрамор Венеры Милосской означает нечто иное для кристаллографа, чем для эстетика. Таким образом, элемент бытия, удостоверяемый, в соответствии с некоторыми определенностями бытия, как «один и тот же», может стать для нас объектом совершенно различными способами: [способом] представления и [способом] вожделения. В пределах каждой из этих категорий противопоставление субъекта и объекта имеет разные причины и разные действия, так что если практические отношения между человеком и его объектами ставят [нас] перед такого рода альтернативой: [либо] субъективность, либо объективность, которая может быть значима лишь в области интеллектуального представления, то это ведет только к путанице. Ибо даже если ценность предмета объективна и не в том самом смысле, в каком объективны его цвет или тяжесть, то от этого она отнюдь еще не субъективна в том смысле, который соответствует этой объективности; такая субъективность присуща, скорее, например, окраске, возникающей из-за обмана чувств, или какому-либо качеству вещи, которое приписывает ей ложное умозаключение, или некоторому бытию, реальность которого внушает нам суеверие. Напротив, практическое отношение к вещам создает совершенно иной род объективности - благодаря тому, что реальные обстоятельства оттесняют содержание вожделения и наслаждения от самого этого субъективного процесса и тем самым создают для объективности специфическую категорию, которую мы называем ее ценностью.
В хозяйстве же этот процесс происходит таким образом, что содержание жертвы или отказа, становящихся между человеком и предметом его вожделения, одновременно является предметом вожделения кого-то другого: первый должен отказаться от владения или наслаждения, вожделеемых другим, чтобы подвигнуть его на отказ от того, чем он владеет и что вожделеет первый. Ниже я покажу, что и хозяйство изолированного производителя, ориентированного на собственное потребление, может быть сведено к той же формуле. Итак, два ценностных образования <Wertbildungen> переплетаются между собой: необходимо вложить ценность, чтобы получить ценность. Поэтому все происходит так, как если бы вещи обоюдно определяли свои ценности. Ведь в процессе обмена одной на другую практическое осуществление и меру своей ценности каждая ценность обретает в другой. Это - решающее следствие и выражение дистанцирования предметов от субъекта. Пока они находятся в непосредственной близости к нему, пока дифференцированность вожделений, редкость предметов, трудности и сопротивления при их получении не оттесняют их от субъекта, они остаются для него, так сказать, вожделением и наслаждением, но еще не являются предметом ни того, ни другого. Указанный процесс, в ходе которого они становятся [именно предметом], завершается тем, что дистанцирующий и одновременно преодолевающий дистанцию предмет, собственно, и производится для этой цели. Тем самым обретается чистейшая хозяйственная объективность, отрыв предмета от субъективного отношения к личности, а поскольку это производство совершается для кого-то другого, кто предпринимает соответствующее производство для первого, то предметы вступают в обоюдное объективное отношение. Форма, которую ценность принимает в обмене, включает ее в уже описанную выше категорию по ту сторону субъективности и объективности в строгом смысле слова; в обмене ценность становится надсубъектной*, надындивидуальной, не становясь, однако, вещественным <sachlich> качеством и действительностью самой вещи <Ding>: она выступает как требование вещи, как бы выходящее за пределы ее имманентной вещественности, которое состоит в том, чтобы быть отданной, быть полученной лишь за соответствующую ценность с противоположной стороны.
* В оригинале: «ubersubjektiv». Немецкое «subjektiv» может быть передано по-русски и как «субъективный», и как «субъектный», соответственно варьируют и производные от него.
Будучи всеобщим истоком ценностей вообще, Я, тем не менее, настолько далеко отступает от. своих созданий, что они теперь могут мерить свои значения друг по другу, не обращаясь всякий раз снова к Я. Цель этого сугубо вещественного взаимоотношения ценностей, которое совершается в обмене и основано на обмене, явно состоит в том, чтобы, наконец, насладиться ими, т. е. в том, чтобы к нам было приближено больше более интенсивных ценностей, чем это было бы возможно без такой самоотдачи и объективного выравнивания в процессе обмена. Подобно тому, как о божественном начале говорили, что оно, сообщив силы мировым стихиям, отступило на задний план и предоставило их взаимной игре этих сил, так что мы теперь можем говорить об объективном, следующем своим собственным отношениям и законам мире; но также и подобно тому, как божественная власть избрала такое исторжение из себя мирового процесса как самое пригодное средство для наиболее совершенного достижения своих целей касательно мира, - так и в хозяйстве мы облачаем вещи в некоторое количество ценности, как будто это - их собственное качество, и затем предоставляем их движению обмена, объективно определенному этими количествами механизму, некоторой взаимности безличных ценностных действий - откуда они, умножившись и делая возможным более интенсивное наслаждение, возвращаются к своей конечной цели, которая была их исходным пунктом: к чувствованию субъектов. Таковы исток и основа хозяйственного образования ценностей, последствия которого выступают носителем смысла денег. К демонстрации этих последствий мы сейчас и обратимся.
II
Техническая форма хозяйственного общения создает [настоящее] царство ценностей, которое в большей или меньшей степени совершенно оторвалось от своего субъективно-личностного базиса. Индивид совершает покупку, потому, что он ценит предмет и желает его потребить, однако это вожделение индивид эффективно выражает только посредством того предмета, который он обменивает на [желаемый]; тем самым субъективный процесс дифференциации и растущего напряжения между функцией и содержанием, в ходе которого последнее становится «ценностью», превращается в вещественное, надличное отношение между предметами. Личности*, которые побуждаются своими желаниями и оценками к совершению то одного обмена, то другого, реализуют тем самым для своего сознания только ценностные отношения, содержание которых уже заключено в самих вещах: количество одного объекта соответствует по ценности определенному количеству другого объекта, и эта пропорция как нечто объективно соразмерное и словно бы законосообразное столь же противоположна личным мотивам (своему истоку и завершению), как мы это видим в объективных ценностях нравственной и других областей. По меньшей мере, так должно было бы выглядеть вполне развитое хозяйство. В нем предметы циркулируют соответственно нормам и мерам, устанавливающимся в каждый данный момент; индивиду они противостоят, таким образом, как некое объективное царство, к которому он может быть причастным либо непричастным, но если он желает первого, то это для него возможно лишь как для носителя или исполнителя внеположных ему определенностей. Хозяйство стремится (это никогда не бывает совершенно нереальным и никогда не реализуется полностью) достигнуть такой ступени развития, на которой вещи взаимно определяют меры своей ценности, словно бы посредством самодеятельного механизма, - невзирая на то, сколько субъективного чувствования вобрал в себя этот механизм в качестве своего предварительного условия или своего материала. Но именно благодаря тому, что за один предмет отдается другой, ценность его обретает всю ту зримость и осязаемость, какая здесь вообще возможна. Взаимное уравновешение, благодаря которому каждый из объектов хозяйствования выражает свою ценность в ином предмете, изымает их из области сугубо чувственного значения: относительность определения ценности означает его объективацию. Тем самым предполагается основное отношение к человеку, в чувственной жизни которого как раз и совершаются все процессы оценивания, оно, так сказать, вросло в вещи, и они, будучи оснащены им, вступают в то взаимное уравновешение, которое является не следствием их хозяйственной ценности, но уже ее носителем или содержанием.
* В оригинале: «Personen». Немецкие слова «Person» и «Personlichkeit» строго и адекватно передаются русскими «лицо» и «личность». Однако это терминологическое различие не выдержано в данном тексте Зиммеля, и потому мы предлагаем, как представляется, более удобочитаемый перевод.
Таким образом, факт хозяйственного обмена изымает вещи из состояния слитности с сугубой субъективностью субъектов, а поскольку в них тем самым инвестируется их хозяйственная функция, это заставляет их взаимно определять друг друга. Практически значимую ценность предмету сообщает не одно только то, что он вожделен, но и то, что вожделен другой [предмет]. Его характеризует не отношение к воспринимающему субъекту, а то, что это отношение обретается лишь ценой жертвы, в то время как с точки зрения другой стороны, эта жертва есть ценность, которой возможно насладиться, а та первая ценность - жертва. Тем самым объекты взаимно уравновешиваются, а потому и ценность может совершенно особенным образом выступить как объективно присущее им самим свойство. Поскольку по поводу предмета торгуются - а это означает, что представляемая им жертва фиксируется - его значение выступает для обоих контрагентов как нечто гораздо более внеположное им, чем если бы индивид воспринимал его только в отношении к себе самому; ниже мы увидим, что изолированное хозяйство, поскольку оно противопоставляет хозяйствующего требованиям природы, с той же необходимостью заставляет его жертвовать [чем-то] для получения объекта, так что и здесь то же самое отношение, которое только сменило одного носителя, может сообщить предмету столь же самостоятельное, зависимое от его собственных объективных условий значение. Конечно, за всем этим стоит вожделение и чувство субъекта как движущая сила, однако в себе и для себя она не смогла бы породить эту форму ценности, которая подобает только взаимному уравновешению объектов. Хозяйство проводит поток оценок сквозь форму обмена, создавая как бы междуцарствие между вожделениями, истоком всякого движения в человеческом мире, и удовлетворением наслаждения, его конечным пунктом. Специфика хозяйства как особой формы общения и поведения состоит (если не побояться парадоксального выражения) не столько в том, что оно обменивает ценности, сколько в том, что оно обменивает ценности. Конечно, значение, обретаемое вещами в обмене и посредством обмена, никогда не бывает вполне изолировано от их субъективно-непосредственного значения, напротив, они необходимо предполагают друг друга, как форма и содержание. Однако объективный процесс, достаточно часто господствующий над сознанием индивида, так сказать, абстрагируется о того, что его материал образуют именно ценности; здесь наиболее существенным оказывается их равенство - вроде того, как задачей геометрии оказываются пропорции величин, безотносительно к субстанциям, в которых эти пропорции только и существуют реально. Что не только рассмотрение хозяйства, но и само хозяйство, так сказать, состоит в реальном абстрагировании из объемлющей действительности процессов оценки, не столь удивительно, как может показаться на первый взгляд, если только уяснить себе, насколько человеческая деятельность [вынуждена] внутри каждой провинции души считаться с абстракциями. Силы, отношения, качества вещей, к которым в этой связи принадлежит и наше собственное существо - объективно образуют единое нерасчлененное <Ineinander>, которое, чтобы мы могли иметь с ним дело, рассекается на множество самостоятельных рядов или мотивов лишь нашим привходящим интересом. Так, любая наука изучает явления, которые только с ее точки зрения обладают замкнутым в себе единством и совершенно отграничены от проблем других наук, тогда как действительность нимало не озабочена этими разграничениями и, более того, каждый фрагмент мира представляет собой конгломерат задач для самых разнообразных наук. Равным образом и наша практика вычленяет из внешней или внутренней комплексности вещей односторонние ряды и лишь так создает большие системы интересов культуры. То же самое обнаруживается и в деятельности чувства. Если наше восприятие религиозно или социально, если мы настроены меланхолично или радуемся миру, то абстракции, извлеченные из целого действительности, наполняют нас именно как предметы нашего чувства - то ли потому, что наша реактивная способность выхватывает из предлагаемых впечатлений лишь те, которые могут быть подведены под то или иное общее понятие интереса; то ли потому, что она самостоятельно сообщает каждому предмету некоторую окраску, причем это оправдано самим предметом, поскольку в его целостности основание для подобной окраски переплетается в объективно неразличенном единстве с основаниями для иных окрасок. Так что вот еще одна формула для описания отношения человека к миру: из абсолютного единства и взаимной сращенности вещей, где каждая есть основа для другой и все существуют равноправно, наша практика не менее, чем теория, непрерывно извлекает отдельные элементы, чтобы сомкнуть их в относительные единства и целостности. У нас, не считая самых общих чувств, нет отношения к тотальности бытия: лишь поскольку, исходя из потребностей нашего мышления и действования, мы извлекаем из явлений продолжительно существующие абстракции и наделяем их относительной самостоятельностью сугубо внутренней взаимосвязи, [той самостоятельностью,] в которой их объективному бытию отказывает непрерывное мировое движение, - мы обретаем определенное в своих частностях отношение к миру. Таким образом, хозяйственная система, конечно, основана на абстракции, на отношении обоюдности обмена, балансе между жертвой и прибылью, тогда как в реальном процессе эта система неразрывно слита со своим основанием и своим результатом: вожделениями и наслаждениями. Но эта форма существования не отличается от других областей, на которые мы, сообразно своим интересам, разлагаем совокупность явлений.
Чтобы хозяйственная ценность была объективна и тем самым служила определению границ хозяйственной области как самостоятельной, главное - принципиальная зап-редельность этой значимости для отдельного субъекта. Благодаря тому, что за предмет следует отдавать другой, оказывается, что он чем-то ценен не только для меня, но и в себе, т. е. и для другого. В хозяйственной форме ценностей уравнение «объективность = значимость для субъектов вообще» находит одно из своих самых ясных оправданий. Благодаря эквивалентности, которая вообще только в связи с обменом привлекает к себе сознание и интерес, ценность обретает специфические характерные черты объективности. Пусть даже каждый из элементов будет только личностным или только субъективно ценным - но то, что они равны друг другу, есть момент объективный, не заключенный ни в одном из этих элементов как таковом, но и не внеположный им. Обмен предполагает объективное измерение субъективных ценностных оценок, но не в смысле временного предшествования, а так, что и то, и другое существуют в едином акте.
Здесь необходимо уяснить себе, что множество отношений между людьми может считаться обменом; он представляет собой одновременно самое чистое и самое интенсивное взаимодействие, которое, со своей стороны, и составляет человеческую жизнь, коль скоро она намеревается получить материал и содержание. Уже с самого начала часто упускают из виду, сколь многое из того, что на первый взгляд есть сугубо односторонне оказываемое воздействие, фактически включает взаимодействие: кажется, что оратор в одиночку влияет на собрание и ведет его за собой, учитель - класс, журналист - свою публику; фактически же каждый из них в такой ситуации воспринимает определяющие и направляющие обратные воздействия якобы совершенно пассивной массы; в политических партиях повсеместно принято говорить: «раз я ваш вождь, то должен следовать за вами», - а один выдающийся гипнотизер даже подчеркивал недавно, что при гипнотическом внушении (явно представляющем собой самый определенный случай чистой активности, с одной стороны, и безусловной подверженности влиянию, - с другой) имеет место трудно поддающееся описанию воздействие гипнотизируемого на гипнотизера, без которого не был бы достигнут эффект. Однако всякое взаимодействие можно рассматривать как обмен: каждый разговор, любовь (даже если на нее отвечают другого рода чувствами), игру, каждый взгляд на другого. И если [кому-то] кажется, что здесь есть разница, что во взаимодействии отдают то, чем сами не владеют, а в обмене - лишь то, чем сами владеют, то это мнение ошибочно. Ибо, во-первых, во взаимодействии возможно пускать в дело только свою собственную энергию, жертвовать своей собственной субстанцией; и наоборот: обмен совершают не ради предмета, который прежде был во владении другого, но ради своего собственного чувственного рефлекса, которого прежде не было у другого; ибо смысл обмена - т. е. что сумма ценностей после него должна быть больше, чем сумма ценностей прежде него, - означает, что каждый отдает другому больше, чем имел он сам. Конечно, «взаимодействие» - это понятие более широкое, а «обмен» - более узкое; однако в человеческих взаимоотношениях первое в подавляющем большинстве случаев выступает в таких формах, которые позволяют рассматривать его как обмен. Каждый наш день слагается из постоянных прибылей и потерь, прилива и отлива жизненных содержаний - такова наша естественная судьба, которая одухотворяется в обмене, поскольку тут одно отдается за другое сознательно. Тот же самый духовно-синтетический процесс, который вообще создает из рядополож-ности вещей их совместность и [бытие] друг для друга; то же самое Я, которое, пронизывая все чувственные данности, сообщает им форму своего внутреннего единства, благодаря обмену овладевает и естественным ритмом нашего существования и организует его элементы в осмысленную взаимосвязь. И как раз обмену хозяйственными ценностями менее всего можно обойтись без окраски жертвенности. Когда мы меняем любовь на любовь, то иначе вообще не знали бы, что делать с открывающейся здесь внутренней энергией; отдавая ее, мы (с точки зрения внешний последствий деятельности) не жертвуем никаким благом; когда мы в диалоге обмениваемся духовным содержаниями, то количество их от этого не убывает; когда мы демонстрируем тем, кто нас окружает, образ своей личности и воспринимаем образ другой личности, то у нас от этого обмена отнюдь не уменьшается владение собою как тем, что нам принадлежит*. В случае всех этих обменов умножение ценностей происходит не посредством подсчета прибылей и убытков; напротив, каждая сторона <Partei> либо вкладывает что-то такое, что вообще находится за пределами данной противоположности, либо одна только возможность сделать это вложение уже есть прибыль, так что ответные действия партнера мы воспринимаем - несмотря на наше собственное даяние - как незаслуженный подарок. Напротив, хозяйственный обмен - все равно, касается ли он субстанций или труда или инвестированной в субстанции рабочей силы - всегда означает жертвование благом, которое могло бы быть использовано и по-другому, насколько бы в конечном счете ни перевешивало эвдемонистическое умножение [ценностей].
* В оригинале более сжато: «Besitz unser selbst», однако, столь же сжатый русский перевод мог навести на мысль о том, что речь здесь идет о самообладании как сдержанности.
Утверждение, что все хозяйство есть взаимодействие, причем в специфическом смысле жертвующего обмена, должно столкнуться с возражением, выдвинутым против отождествления хозяйственной ценности вообще с меновой ценностью*.
* Здесь мы должны впервые оговорить перевод слова «Wert». Установившийся у нас способ перевода, в частности, работ К. Маркса навязывает здесь замену «ценности» «стоимостью». Однако это полностью нарушило бы единство текста, так как нередко пришлось бы все-таки оставлять «ценность». Мы исходим из того, что, по уверению самого Зиммеля, текст его не экономический, а философский, а значит, уже одним этим, в принципе, может быть оправдан сквозной перевод «Wert» как «ценность».
Говорят, что даже совершенно изолированный хозяин - то есть тот, который ни покупает, ни продает, - должен все-таки оценивать свою продукцию и средства производства, то есть образовать независимое от всякого обмена понятие ценности, чтобы его затраты и результаты находились в правильной пропорции друг к другу. Но этот факт как раз и доказывает, однако, именно то, что должен был опровергнуть. Ведь все соображения хозяйствующего субъекта насчет того, оправданы ли затраты определенного количества труда или иных благ для получения определенного продукта, и оценивание при обмене того, что отдают, в соотношении с тем, что получают, суть для него совершенно одно и то же. Нечеткость в понимании отношений, особенно частая, когда речь идет о понятии обмена, приводит к тому, что о них говорят как о чем-то внешнем для тех элементов, между которыми они существуют. Однако ведь отношение - это только состояние или изменение внутри каждого из элементов, но не то, что существует между ними, в смысле пространственного обособления некоего объекта, находящегося между двумя другими. При сопряжении в понятии обмена двух актов, или изменений состояния, совершающихся в действительности, легко поддаться искушению представить себе, будто в процессе обмена что-то совершается над и наряду с тем, что происходит в каждом из контрагентов, - подобно тому, как если бы понятие поцелуя (ведь поцелуями тоже «обмениваются») было субстанциализировано, так что соблазнительно было бы считать его чем-то таким, что существует где-то вне обеих пар губ, вне их движений и восприятий. С точки зрения непосредственного содержания обмена, он есть только каузальное соединение двукратно совершающегося факта: некий субъект имеет теперь нечто такое, чего у него прежде не было, а за это он не имеет чего-то такого, что у него прежде было. Но тогда тот изолированный хозяин, который должен принести определенные жертвы для получения определенных плодов, ведет себя точно так же, как и тот, кто совершает обмен; только его контрагентом выступает не второй волящий субъект, а естественный порядок и закономерность вещей, обычно столь же мало удовлетворяющий наши вожделения без [нашей] жертвы, как и другой человек. Исчисления ценностей изолированным хозяином, согласно которым он определяет свои действия, в общем, совершенно те же самые, что и при обмене. Хозяйствующему субъекту как таковому, конечно, совершенно все равно, вкладывает ли он находящиеся в его владении субстанции или рабочую силу в землю или он отдает их другому человеку, лишь бы только результат для него оставался одним и тем же. В индивидуальной душе этот субъективный процесс жертвования и получения прибыли отнюдь не является чем-то вторичным или подражательным по сравнению с обменом, происходящим между индивидами. Напротив: обмен отдачи на достижение <Errungenschaft> в самом индивиде есть основополагающая предпосылка и как бы сущностная субстанция всякого двустороннего обмена. Этот последний есть просто подвид первого, а именно, такой, при котором отдача бывает вызвана требованием со стороны другого индивида, в то время как с тем же результатом для субъекта она может быть вызвана вещами и их технически-естественными свойствами. Чрезвычайно важно совершить редукцию хозяйственного процесса к тому, что действительно происходит, т. е. совершается в душе каждого хозяйствующего. Хотя при обмене этот процесс является обоюдным и обусловлен тем же самым процессом в Другом, это не должно вводить в заблуждение относительно того, что естественное и, так сказать, солипсистское хозяйство сводится к той же самой основной форме, что и двусторонний обмен: к процедуре выравнивания двух субъективных процессов в индивиде; этого выравнивания в себе и для себя совершенно не касается второстепенный вопрос, исходило ли побуждение к нему от природы вещей или от природы человека, имеет ли оно характер только натурального хозяйства или хозяйства менового. Таким образом, почувствовать ценность объекта, доступного для приобретения, можно, в общем, лишь отказавшись от других ценностей, причем такой отказ имеет место не только тогда, когда мы, опосредованная работа на себя выступает как работа для других, но и тогда, что бывает достаточно часто, когда мы совершенно непосредственно работаем ради своих собственных целей. Ясно поэтому, что обмен является в точности столь же производительным и образующим ценность, что и производство в собственном смысле. В обоих случаях речь идет о том, чтобы принять отдаваемые нам блага за ту цену, которую назначают другие, причем таким образом, что конечным состоянием будет преизбыток чувств удовлетворения по сравнению с состоянием до этих действий. Мы не можем заново создать ни материала, ни сил, мы способны только переместить данные материалы и силы так, чтобы как можно больше из них взошли из ряда действительности в ряд ценностей. Однако обмен между людьми осуществляет это формальное перемещение внутри данного материала точно так же, как и обмен с природой, который мы называем производством, т. е. оба они подпадают под одно и то же понятие ценности: и там, и тут речь идет о том, чтобы заполнить пустоту, образовавшуюся на месте отданного, объектом более высокой ценности, и только в этом движении объект, прежде слитый с нуждающимся и наслаждающимся Я, отрывается от него и становится ценностью. На глубокую взаимосвязь между ценностью и обменом, благодаря которой не только второе обусловлено первым, но и первое - вторым, указывает уже равенство обоих в создании основы для практической жизни. Как бы сильно ни была наша жизнь определена механикой вещей и их объективностью, мы в действительности не можем сделать ни шага, ни помыслить мысли, не оснащая свое чувствование вещей ценностями и не направляя соответственно этим ценностям нашу деятельность. Но сама эта деятельность совершается по схеме обмена: начиная с удовлетворения низших потребностей и кончая обретением высших интеллектуальных и религиозных благ, всегда требуется вложить ценность, чтобы получить ценность. Что здесь исходный пункт, а что - следствие, определить, видимо, невозможно. Либо в фундаментальных процессах одно невозможно отделить от другого, ибо они образуют единство практической жизни, которое мы, будучи не в состоянии ухватить его как таковое, разнимаем на указанные моменты, либо между ними совершается бесконечный процесс такого рода, что хотя каждый обмен и восходит к ценности, но зато эта ценность восходит к некоторому обмену. Однако, по меньшей мере, для нас более плодотворен и больше дает в смысле объяснения подход от обмена к ценностям, так как обратное кажется более известным и более очевидным. - Ценность представляется нам результатом процесса жертвования, а тем самым нам открывается бесконечное богатство, которым наша жизнь обязана этой основной форме. Стремление по возможности сделать жертву меньше и болезненное ее ощущение заставляют нас поверить, что только полное прекращение жертв подняло бы жизнь к высочайшим вершинам ценности. Но при этом мы упускаем из виду, что жертва отнюдь не всегда является внешним барьером, но что она - внутреннее условие самой цели и пути к ней. Загадочное единство нашего практического отношения к вещам мы разлагаем на жертву и прибыль, помеху и достижение, а поскольку жизнь с ее дифференцированными стадиями часто отделяет по времени одно от другого, мы забываем, что если цель достанется нам без такого препятствия, которое следует преодолевать, то это уже не будет та же самая цель. Сопротивление, которое должна уничтожить наша сила, только позволяет ей удостоверить себя самое; грех, преодолевая который душа восстает к блаженству, только и обеспечивает ей ту «радость на небесах», которую там отнюдь не связывают с изначально праведными; всякий синтез нуждается в одновременно столь же эффективном аналитическом принципе, каковой он как раз и отрицает (а без аналитического принципа это был бы уже не синтез многих элементов, но абсолютное Одно), а равным образом и всякий анализ нуждается в синтезе, в снятии которого он состоит (потому что он все еще требует некоторой сопряженности [элементов], без которой она была бы сугубой несвязностью: даже самая ожесточенная вражда есть еще взаимосвязь в большей степени, чем просто безразличие, а безразличие - больше, чем просто незнание друг о друге). Короче говоря, препятствующее противодействие, устранение которого как раз и означает жертву, часто (а с точки зрения элементарных процессов, даже всегда) является позитивной предпосылкой самой цели. Жертва отнюдь не относится к категории «не-должного», как это совершенно ложно пытаются внушить поверхностность и алчность. Жертва есть условие не только отдельных ценностей, более того, в рамках хозяйственной жизни, о которой здесь идет речь, она является условием ценности вообще; это не только цена, которую приходится платить за отдельные, уже фиксированные ценности, но и цена, благодаря которой они вообще появляются.
Обмен происходит в двух формах, которых я здесь коснусь лишь применительно к трудовой ценности. Поскольку имеется желание праздности или совершенно самодостаточной игры сил, или желание избежать чисто обременительных усилий, всякий труд*, бесспорно, является жертвованием. Однако, наряду с этими побуждениями, имеется еще некоторое количество скрытой трудовой энергии, с которым, как таковым, мы не знаем что делать, либо же оно обнаруживается благодаря влечению к добровольному, не вызываемому ни нуждой, ни этическими мотивами труду. На это количество рабочей силы, отдача которой не является в себе и для себя жертвованием, [притязают,] конкурируя между собой, многочисленные требования, для удовлетворения которых ее недостаточно. Итак, при всяком употреблении силы приходится жертвовать одним или несколькими возможными ее употреблениями. Если бы ту силу, посредством которой мы совершаем работу А, мы бы не могли использовать и для работы В, то первая не стоила бы нам никакой жертвы; но то же самое имеет силу и для работы В, в том случае, например, если бы мы совершили ее вместо работы А. Итак, с уменьшением эвдемонизма, отдается отнюдь не труд, но именно нетруд; в уплату за А мы не приносим в жертву труд, - потому что, как мы здесь предположили, это совсем нас не тяготит, - нет, мы отказываемся от В. Таким образом, жертва, которую мы отдаем в обмен при труде, во-первых, абсолютна, а во-вторых, относительна: страдание, которое мы принимаем, с одной стороны, непосредственно связано с трудом - когда труд для нас есть тягость и наказание; с другой же стороны, [это страдание] косвенно - в тех случаях, когда мы можем заполучить один объект, лишь отказавшись от другого, причем сам труд [оказывается] эвдемонистически иррелевантен или даже имеет позитивную ценность. Но тогда и те случаи, когда труд совершается с удовольствием, сводятся к форме самоотверженного обмена, всегда и повсюду характерного для хозяйства.
* В оригинале: «Arbeit». Переводится как «труд» или как «работа» в зависимости от контекста.
То, что предметы вступают в отношения хозяйства, имея определенного уровня ценность, поскольку каждый из двух объектов любой трансакции для одного контрагента означает прибыль, к которой тот стремится, а для другого - жертву, которую он приносит, - все это, видимо, имеет силу для сформировавшегося хозяйства, но не для основных процессов, которые только его и образуют. Кажется, будто есть логическая сложность, которая, правда, обнаруживается благодаря аналогии: две вещи могли бы иметь равную ценность, только если каждая из них сначала имела бы ценность сама по себе, подобно тому, как две линии могли бы быть равны по длине, только если бы каждая из них уже до сравнения имела определенную длину. Но если присмотреться внимательнее, то выяснится, что на самом деле длина у линии имеется только в момент сравнения. Ведь определение своей длины - потому что она же не просто «длинна» - линия не может получить от себя самой, но получает его только благодаря другой, относительно которой она себя мерит и которой она тем самым оказывает точно такую же услугу, хотя результат измерения зависит не от самого этого акта, но от каждой линии, существующей независимо от другой. Вспомним о категории, которая сделала для нас понятным объективное ценностное суждение, названное мною метафизическим: [речь шла о том, что] в отношении между нами и вещами появляется требование совершить определенное суждение, содержание которого, между тем, не заключено в самих вещах. Подобным же образом совершается и суждение относительно длины: от вещей исходит к нам как бы притязание осуществить некое содержание, но это содержание не предначертано самими вещами, а может быть реализовано лишь нашим внутренним актом. То, что длина вообще только и создается в процессе сравнения и, таким образом, заказана объекту как таковому, о которого она зависит, легко укрывается от нас только потому, что из отдельных относительных длин мы абстрагировали общее понятие длины - исключив при этом, таким образом, именно определенность, без которой не может быть никакой конкретной длины, - а теперь проецируем это понятие внутрь вещей, полагая, будто они должны были все-таки сначала вообще иметь длину, прежде чем она могла быть путем сравнения определена для единичного случая. Сюда еще добавляется, что из бесчисленных сравнений, образующих длину, выкристаллизовались прочные масштабы, через сравнение с которыми определяются длины всех отдельных пространственных образований, так что эти длины, будучи как бы воплощениями абстрактного понятия длины, кажутся уже не относительными, потому что все измеряется по ним, они же совсем не измеряются - заблуждение не меньшее, чем уверенность в том, что падающее яблоко притягивается землей, а она им - нет. Наконец, ложное представление о том, что отдельной линии самой по себе присуща длина, внушается потому, что для нас в отдельных частях линии уже имеется множество элементов, в отношениях которых состоит длина. Подумаем, что было бы, если бы во всем мире имелась бы только одна линия: она вообще не была бы «длинна», так как у нее отсутствовало бы соотношение с какой-либо другой, - потому-то и признается, что невозможно говорить об измерениях мира как целого, ибо вне мира нет ничего, в соотношении с чем он мог бы иметь некую величину. Но фактически так обстоит дело с каждой линией, покуда она рассматривается без сравнения с другими или без сравнения ее частей между собой: она ни коротка, ни длинна, но еще внеположна всей этой категории. Итак, эта аналогия, вместо того чтобы опровергнуть относительность хозяйственной ценности, только делает ее еще яснее.
Если нам приходится рассматривать хозяйство как особый случай всеобщей жизненной формы обмена, при которой отдают, чтобы получить, то уже с самого начала мы будем предполагать ситуации, когда и внутри него ценность полученного не бывает доставлена, так сказать, в готовом виде, но возрастает у вожделеемого объекта отчасти или даже всецело по мере для этого, как для [его получения] требуется жертва. Такие случаи, столь же частые, сколь и важные для учения о ценностях, таят в себе, правда, одно внутреннее противоречие: получается, что мы должны приносить в жертву ценность ради вещей, которые по себе ценности не имеют. Однако ведь разумным образом никто не отдает ценность, не получая за нее нечто по меньшей мере столь же ценное, а так, чтобы цель, наоборот, обретала свою ценность лишь благодаря цене, которую мы должны за нее отдать, может случаться лишь в извращенном мире. Это [рассуждение] правильно уже применительно к непосредственному сознанию, причем даже в большей мере, чем, с точки зрения этого популярного подхода, считается в других случаях. Фактически та ценность, которую субъект отдает за другую, при фактических сиюминутных обстоятельствах никогда не может для самого субъекта превышать ту, которую он на нее выменивает. И если кажется, что все обстоит наоборот, то это всегда происходит оттого, что действительно воспринимаемую субъектом ценность путают с той, которая присуща соответствующему предмету обмена согласно средней или представляющейся объективной оценке. Так, в крайней нужде некто отдает драгоценность за кусок хлеба, потому что последний при данных обстоятельствах важнее для него, чем первая. Но чтобы с некоторым объектом было связано некоторое чувство ценности всегда нужны определенные обстоятельства, потому что носителем каждого такого чувства является весь многочленный, находящийся в постоянном движении, приспособлении и преобразовании комплекс нашего чувствования; а уникальны ли эти обстоятельства или относительно постоянны, в принципиальном смысле явно безразлично. Отдавая драгоценность, голодный однозначно доказывает, что хлеб для него более ценен. Итак, нет сомнения, что в момент обмена, принесения жертвы, ценность выменянного предмета образует ту границу, выше которой не может подняться ценность отдаваемого предмета. И совершенно независимо от этого ставится вопрос, откуда же получает свою столь необходимую ценность тот первый объект, не из тех ли жертв, которые надо принести, чтобы получить его, так что эквивалентность полученного и его цены устанавливается как бы a posteriori и с точки зрения последней. Мы сейчас увидим, сколь часто ценность психологически возникает именно таким, кажущимся нелогичным, образом. Но если уж она однажды появилась, то, конечно, и по отношению к ней - не меньше, чем по отношению к ценности, конституированной любым другим образом, - психологически необходимо, чтобы она считалась позитивным благом, по меньшей мере, таким же большим, как и негативное, - приносимая ради нее жертва. В действительности уже поверхностному психологическому рассмотрению известен целый ряд случаев, когда жертва не просто повышает, но именно только и создает ценность цели. Прежде всего, в этом процессе находит выражение радость от доказательства своей силы, от преодоления трудностей, а часто и противодействия. Необходимость идти обходным путем для достижения определенных вещей часто является поводом, но часто - и причиной, чтобы почувствовать их ценность. Во взаимоотношениях людей, прежде всего и яснее всего в эротических, мы замечаем, как сдержанность, равнодушие или отказ возбуждают как раз самое страстное желание победить, несмотря на препятствия, и побуждают нас к усилиям и жертвам, которых эта цель, не будь такого противодействия, казалась бы, не заслуживает. Для многих людей эстетическое потребление альпийских восхождений не стоило бы внимания, если бы его ценой не были чрезвычайные усилия и опасности, которые только и придают ему важность, притягательную силу и достоинство. Очарование древностей и редкостей нередко заключено в том же; если с ними не связан никакой эстетический или исторический интерес, то заменой ему служит одна только трудность их получения: они настолько ценны, сколько они стоят, и только затем уже оказывается, что они стоят столько, насколько они ценны. Далее, нравственные заслуги всегда означают, что для совершения нравственно желательного деяния сначала было необходимо побороть противоположно направленные влечения и желания и пожертвовать ими. Если же оно совершается без какого бы то ни было преодоления, как само собой разумеющийся результат беспрепятственных импульсов, то сколь бы ни было объективно желательно его содержание, ему тем не менее не приписывается в том же смысле субъективная нравственная ценность. Напротив, только благодаря жертвованию низшими и все-таки столь искусительными благами достигается вершина нравственных заслуг, тем более высокая, чем соблазнительнее были искушения и чем глубже и обширнее было жертвование ими. Наивысший почет и наивысшую оценку получают такие дела людей, которые обнаруживают или, по крайней мере, кажется, что обнаруживают, максимум углубленности, затраты сил, постоянной концентрации всего существа, - а тем самым также и отречения, жертвования всем посторонним, отдачи субъективного объективной идее. А если несравненную привлекательность демонстрирует, напротив, эстетическая продукция и все легкое, приятное, источаемое самоочевидным влечением, то и эта особенность объясняется подспудным ощущением, что обычно-то аналогичный результат обусловлен тяготами и жертвами. Подвижность наших душевных содержаний и неисчерпаемая их способность вступать в комбинации часто приводит к тому, что важность некоторой связи переносится на прямую ее противоположность, так, примерно, как ассоциация двух представлений совершается и потому, что они согласуются между собой, и потому, что они друг другу противоречат. Полученное без преодоления трудностей и словно подарок счастливого случая мы воспринимаем как совершенно особенную ценность только благодаря тому, какое значение имеет для нас достигаемое с трудом, измеряемое жертвами - это та же самая ценность, но с обратным знаком, и первична именно она, а другая может быть только выведена из нее, но никак не наоборот.
Таковы, конечно, скорее, крайние или исключительные случаи. Но если мы хотим выявить их тип в широкой области хозяйственных ценностей, требуется, видимо, сначала отделить понятие хозяйственности как специфического различия, или формы, от ценностей как всеобщего, или их субстанции. Примем, что ценность есть нечто данное и теперь уже не подлежащее дискуссии, и тогда, после всего, что уже было сказано, не подлежит сомнению, по меньшей мере, то, что хозяйственная ценность как таковая присуща не изолированному предмету в его для-себя-бытии, а только затрате другого предмета, который отдается за первый. Дикорастущий плод, сорванный без труда, не отдаваемый в обмене и вкушаемый непосредственно, не есть хозяйственное благо; таковым он может считаться в лучшем случае лишь тогда, когда его потребление избавляет, скажем, от иных хозяйственных затрат; но если бы все требования жизни <Lebenshaltung> удовлетворялись таким образом, чтобы ни один момент не был связан с жертвой, то и люди уже не хозяйствовали бы, как птицы, рыбы или жители страны дураков. Каким бы способом ни стали ценностями оба объекта, А и В, но хозяйственной ценностью А становится лишь потому, что я должен отдать за него В, а В - лишь потому, что я могу получить за него А; причем, как уже сказано, принципиально все равно, совершается ли жертвование путем отдачи ценности другому человеку, то есть путем обмена между индивидами, или в пределах круга интересов самого индивида, путем подсчета усилий и результатов. В объектах хозяйства невозможно найти совершенно ничего, кроме того значения, которое каждый из них прямо или косвенно имеет для нашего потребления, и обмена, совершающегося между ними. А так как признается, что первого как такового еще недостаточно, чтобы сделать предмет хозяйственным, то последнее только и способно добавить к нему специфическое различие, которое мы называем хозяйственным. Однако это разделение между ценностью и ее хозяйственной формой движения искусственно. Если хозяйство поначалу представляется только формой в том смысле, что оно уже предполагает ценности как свои содержания, чтобы иметь возможность включить их в движение уравнивания жертвы и прибыли, то все-таки в действительности тот же самый процесс, который из ценностей как предпосылок образует хозяйство, можно обрисовать как производство самих ценностей следующим образом.
Хозяйственная форма ценности находится между двух границ: с одной стороны, вожделение объекта, которое подсоединяется к предвосхищаемому чувству удовлетворения от обладания и наслаждения им; с другой стороны, - само это наслаждение, которое, строго говоря, не есть хозяйственный акт. Ведь если согласиться с тем, о чем мы только что говорили (а это достаточно общепринятый взгляд), то есть что непосредственное потребление дикорастущих плодов не является хозяйственной деятельностью, а сами эти плоды, таким образом, не являются хозяйственной ценностью, то и потребление собственно хозяйственных ценностей тогда уже не является хозяйственным: ибо акт потребления в этом последнем случае абсолютно не отличается от акта потребления в первом случае: для того, кто ест плод, в акте еды и его прямых последствиях нет никакой разницы, случайно ли он нашел этот плод, вырастил сам или купил. Но предмет, как мы видели, -вообще еще не ценность, пока он, как непосредственный возбудитель чувств, еще непосредственно слит с субъективным процессом, составляя как бы самоочевидную компетенцию нашей чувственной способности. Он должен быть сначала отделен от нее, чтобы получить для нас то подлинное значение, которое мы называем ценностью. Дело не только в том, что в себе и для себя вожделение, конечно, вообще не могло бы выступать основанием какой бы то ни было ценности, если бы не наталкивалось на препятствия - ведь если бы всякое вожделение удовлетворялось без борьбы и без остатка, то не только никогда не возникло бы хозяйственного обращения ценностей, но и само вожделение при беспрепятственном удовлетворении никогда не достигало бы сколько-нибудь значительных высот. Только отсрочка удовлетворения из-за препятствий, опасения, что объект может ускользнуть, напряжение борьбы за [обладание] им, суммирует моменты вожделения: интенсивность воления и непрерывность обретения. Но если бы даже наивысшее по силе вожделение имело сугубо внутреннее происхождение, то и тогда, как это неоднократно подчеркивалось, за объектом, который его удовлетворяет, не признавалось бы никакой ценности, если бы он доставался нам без ограничений. Тогда для нас был бы важен, конечно, весь род [объектов], существование которого гарантирует нам удовлетворение наших желаний, а не то ограниченное количество, которым мы фактически обладаем, потому что его точно так же можно было бы без труда заменить другим, причем, однако, и вся эта совокупность осознавалась бы как ценная только при мысли о том, что ее могло бы не быть. Наше сознание в этом случае было бы просто наполнено ритмом субъективных вожделений и удовлетворений, не уделяя внимания посредствующему объекту. Сами по себе потребность и удовлетворение не содержат ни ценности, ни хозяйства. И то, и другое осуществляется одновременно только благодаря обмену между двумя субъектами, каждый из которых делает для другого условием чувства удовлетворения некоторый отказ, или благодаря аналогу [такого обмена] в солипсистском хозяйстве. Благодаря обмену, то есть хозяйству, одновременно возникают ценности хозяйства, потому что оно является носителем или создателем дистанции между субъектом и объектом, которая переводит субъективное состояние чувства в объективное оценивание. Я уже приводил выше слова Канта, суммировавшего свое учение о познании следующим образом: условия опыта суть одновременно условия предметов опыта, то есть процесс, который мы называем опытом, и представления, которые образуют его содержания или предметы, подлежат одним и тем же законам рассудка. Предметы могут входить в наш опыт, постигаться нами на опыте потому, что они суть наши представления, и та же самая сила, которая образует и определяет опыт, обнаруживается и в образовании предметов. И в том же самом смысле мы можем здесь сказать, что возможность хозяйства есть одновременно возможность предметов хозяйства. Именно процесс, происходящий между двумя собственниками объектов (субстанций, рабочей силы, прав, вообще всего, что только можно передать), который устанавливает среди них отношение «хозяйства», то есть [процесс] - взаимной - отдачи, в то же самое время возвышает каждый из этих объектов, относя его к категории ценности. Трудность, угрожавшая нам со стороны логики, а именно, что сначала ценности должны были бы существовать, существовать как ценности, прежде чем вступить в форму в хозяйства и его движение, теперь преодолена, благодаря уясняемому значению того психического отношения, которое мы назвали дистанцией между нами и вещами. Дистанция дифференцирует изначально субъективное состояние чувств на вожделеющий субъект, только антиципирующий чувства, и противостоящий ему объект, который теперь содержит в себе ценность, - тогда как дистанция создается в области хозяйства благодаря обмену, т. е. благодаря обоюдному установлению границ, препятствий, отказов. Таким образом, для производимых ценностей хозяйства, равно как и для хозяйственного характера <Wirtschaftlichkeit> ценностей свойственны одна и та же взаимность и относительность.
Обмен - это не сложение процесса отдачи и процесса принятия, но некое новое третье, которое возникает, поскольку каждый из них есть в одно и то же время и причина другого, и его результат. Благодаря этому ценность, которую сообщает объекту необходимость отказа, становится хозяйственной ценностью. Если, в общем, ценность возникает в интервале, который препятствия, отказы, жертвы устанавливают между волей и ее удовлетворением, то раз уж процесс обмена состоит в такой взаимообусловленности принятия и отдачи, то нет нужды в предшествующем процессе оценивания, который бы делал ценностью один только данный объект для одного только данного субъекта. Все что здесь необходимо, совершается ео ipso* в акте обмена. В эмпирическом хозяйстве вещи, вступающие в обмен, обычно уже снабжены, конечно, знаками ценности. Мы же здесь имеем в виду только внутренний, так сказать, систематический смысл понятия ценности и обмена, от которого в исторических явлениях остались лишь рудименты или идеальное значение, не та форма, в которой эти явления живут как реальные, но та, которую они обнаруживают в проекции на уровень объективно-логического, а не историке-генетического понимания.
* Само собой (лат.).
Перевод хозяйственного понятия ценности, имеющего характер изолированной субстанциальности, в живой процесс соотнесения, можно, далее, объяснить тем, что обычно рассматривается как конституирующие ценность моменты: нужностью и редкостью. Нужность здесь выступает как первое условие, заложенное в самой организации <Verfassung> хозяйственных субъектов, лишь при соблюдении которого объект вообще может иметь значение для хозяйства. А вот чтобы обрести конкретную высоту отдельной ценности, к нужности должна добавиться редкость как определенность самого ряда объектов. Если бы решили устанавливать хозяйственные ценности путем спроса и предложения, то спрос соответствовал бы нужности, а предложение - моменту редкости. Пригодность играла бы решающую роль при определении того, есть ли у нас вообще спрос на предмет, а редкость - в вопросе о том, с какой ценой предмета мы были бы вынуждены согласиться. Пригодность выступает как абсолютная составляющая хозяйственных ценностей, величина которой должна быть определена, чтобы с нею она и вступала в движение хозяйственного обмена. Правда, редкость с самого начала следует признать чисто негативным моментом, так как она означает исключительно то - количественное - отношение, в котором соответствующий объект находится с наличной совокупностью себе подобных, иначе говоря, [редкость] вообще не затрагивает качественную сущность объекта. Однако, нужность, как кажется, существует до всякого хозяйства, до сравнения, соотнесения с другими объектами и, будучи субстанциальным моментом хозяйства, делает зависимыми от себя его движения.
Но, прежде всего, указанное обстоятельство неправильно обозначать понятием нужности (или полезности). В действительности здесь имеется в виду вожделенноетъ объекта. Сколь бы ни был нужен предмет, само по себе это не может стать причиной хозяйственных операций с ним, если из его нужности не следует вожделенность. Так и получается. Любое представление о нужных нам вещах может сопровождать какое-нибудь «желание», однако подлинного вожделения, которое имеет хозяйственное значение и предваряет нашу практику, не возникает и по отношению к ним, если ему противодействуют продолжительная нужда, инертность конституции, уход к другим сферам интересов, равнодушие чувства по отношению к теоретически признанной пользе, очевидная невозможность [ее] достижения, а также другие позитивные и негативные моменты. С другой стороны, мы вожделеем и, следовательно, хозяйственно оцениваем многие вещи, которые невозможно обозначить как нужные или полезные, разве только произвольно расширяя словоупотребление. Но если допустить такое расширение и все хоз.яйственно вожделеемое подводить под понятие нужности, тогда логически необходимо (а иначе не все полезное будет также и вожделее-мо), чтобы решающим моментом хозяйственного движения считалась вожделенность объектов. Однако и этот момент, даже с такой поправкой, отнюдь не абсолютен и не избежал относительности оценивания. Во-первых, как мы уже видели, само вожделение не получает сознательной определенности, если между объектом и субъектом не помещаются препятствия, трудности, жертвы; мы подлинно вожделеем лишь тогда, когда мерой наслаждения предметом выступают промежуточные инстанции, когда, во всяком случае, цена терпения, отказа от других стремлений и наслаждений отодвигают от нас предмет на такую дистанцию, желание преодолеть которую и есть его вожделение. А во-вторых, хозяйственная ценность предмета, возникающая на основании его вожделенности, может рассматриваться как усиление или сублимация уже заложенной в вожделении относительности. Ибо практической, то есть вступающей в движение хозяйства ценностью вожделее-мый предмет становится лишь благодаря тому, что его вожделенность сравнивается с вожделенностью иного и только так вообще обретает некую меру. Только если есть второй объект, относительно которого мне ясно, что я хочу его отдать за первый или первый - за второй, можно указать на хозяйственную ценность обоих объектов. Изначально для практики точно так же не существует отдельной ценности, как для сознания изначально не существует единицы. Двойка, как это подчеркивали разные авторы, древнее единицы. Если палка разломана на куски, требуется слово для обозначения множества, целая - она просто «палка», и повод назвать ее «одной» появляется, только если дело уже идет о двух как-то соотнесенных палках. Так и вожделение объекта само по себе еще не ведет к тому, чтобы у него появилась хозяйственная ценность, - для этого здесь нет необходимой меры: только сравнение вожделений, иными словами, обмениваемость их объектов фиксирует каждый из них как определенную по своей величине, т. е. хозяйственную ценность. Если бы в нашем распоряжении не было категории равенства (одной из тех фундаментальных категорий, которые образуют из непосредственно [данных] фрагментов картину мира, но только постепенно становятся психологически реальными), то «нужность» и «редкость», как бы велики они ни были, не создали бы хозяйственного общения. То, что два объекта равно достойны вожделения или ценны, при отсутствии внешнего масштаба можно установить лишь таким образом, что в действительности или мысленно их обменивают друг на друга, не замечая разницы в (так сказать, абстрактном) ощущении ценности. Поначалу же, видимо, не обмениваемость указывала на равноценность как на некоторую объективную определенность самих вещей, но само равенство было не чем иным, как обозначением возможности обмена. В себе и для себя интенсивность вожделения еще не обязательно повышает хозяйственную ценность объекта. Ведь, поскольку ценность выражается только в обмене, то и вожделение может определять ее лишь постольку, поскольку оно модифицирует обмен. Даже если я очень сильно вожделею предмет, ценность, на которую его можно обменять, тем самым еще не определена. Потому что или у меня еще нет предмета - тогда мое вожделение, если я не выражаю его, не окажет никакого влияния на требования нынешнего владельца, напротив, он будет предъявлять их в меру своей собственной или некоторой средней заинтересованности в предмете; или же, [если] у меня самого есть предмет, мои требования будут либо столь завышены, что предмет окажется вообще исключен из процесса обмена, или мне придется их подстраивать под меру заинтересованности в этом предмете потенциального покупателя. Итак, решающее значение имеет следующее: хозяйственная, практически значимая ценность никогда не есть ценность вообще, но - по своей сущности и понятию - всегда есть определенное количество ценности; это количество вообще может стать реальным только благодаря измерению двух интенсивностей вожделения, служащих мерами друг для друга; форма, в которой это совершается в рамках хозяйства, есть форма обмена жертвы на прибыль; вожделенность предмета хозяйства, следовательно, не содержит в себе, как это кажется поверхностному взгляду, момента абсолютной ценности, но исключительно как фундамент или материал - действительного или мыслимого - обмена сообщает предмету некую ценность. Относительность ценности - вследствие которой данные вожделеемые вещи, возбуждающие чувство, только в процессе взаимной отдачи и взаимного обмена становятся ценностями - заставляет, как кажется, сделать вывод, что ценность есть не что иное, как цена, и что по величине между ними нет никаких различий, так что частыми расхождениями между ценой и ценностью теория якобы оказывается опровергнута. Однако, теория утверждает, что первоначально ни о какой ценности вообще не было бы речи, если бы не то всеобщее явление, которое мы называем ценой. То, что вещь чисто экономически чем-то ценна, означает, что она чем-то ценна для меня, т. е. что я готов что-то за нее отдать. Всю свою практическую эффективность ценность как таковая может обнаружить лишь настолько, насколько она эквивалентна другим, т. е. насколько она обмениваема. Эквивалентность и обмениваемость суть понятия взаимозаменимые, оба они выражают в разных в формах одно и то же положение дел, [одно -] как бы в состоянии покоя, а [другое -] в движении. Да и что же, скажите, вообще могло бы подвигнуть нас не только наивно-субъективно наслаждаться вещами, но еще и приписывать им ту специфическую значимость <Bedeutsamkeit>, которую мы называем их ценностью? Во всяком случае, это не может быть их редкость как таковая. Потому что если бы она существовала просто как факт и мы совершенно не могли бы ее модифицировать (а ведь это возможно, причем не только благодаря производительному труду, но и благодаря смене обладателя), то мы, пожалуй, примирились бы с тем, что это - естественная определенность внешнего космоса, пожалуй, даже не осознаваемая из-за отсутствия различий, которая не добавляет к содержательным качествам вещей никакой дополнительной важности. Эта важность появляется лишь тогда, когда за вещи приходится что-то платить: терпением ожидания, трудами поиска, затратами рабочей силы, отказом от чего-то другого, что тоже достойно вожделения. Итак, без цены (поначалу мы говорим о цене в этом более широком смысле) ни о какой ценности речи не идет. Весьма наивно это выражено в вере, бытующей на некоторых островах южных морей, будто если не заплатить врачу, то не подействует и предписанное им лечение. То, что из двух объектов один более ценен, чем другой, как внешне, так и внутренне выглядит таким образом, что субъект готов отдать второй за первый, но не наоборот. В практике, которая еще не стала сложной и многосоставной, большая или меньшая ценность может быть только следствием или выражением этой непосредственной воли к обмену. А если мы говорим, что обменяли одну вещь на другую, потому что они равноценны, то это тот нередкий случай, когда понятия, язык все выворачивают наизнанку и мы думаем, будто любим кого-то за то, что он обладает определенными качествами, - тогда как это мы сообщили ему эти качества только потому, что любим его; - или же мы выводим нравственные императивы из религиозных догм, тогда как в действительности мы в них верим именно потому, что они живут в нас.
Итак, по своей сущности, как она схватывается в понятии, цена совпадает с экономически объективной ценностью; без цены вообще не удалось бы отграничить эту последнюю от субъективного наслаждения предметом. Выражение же, что обмен предполагает равную ценность, неправильно именно с точки зрения субъектов-контрагентов. А и В хотят обменяться между собой предметами своего владения се и р, так как оба они равноценны. Однако у А не было бы повода отдавать свой а, если бы он действительно получал за него равную по величине ценность р. Р должен означать для него большее количество ценности, нежели то, которым он прежде обладал как а; а равным образом и В должен больше приобретать, чем терять при обмене, чтобы вступить в него. Итак, если для А р более ценен, чем а, а для В, напротив, - а более ценен, чем р, то, конечно, с точки зрения наблюдателя, объективно это уравнивается. Однако этого равенства ценности нет для контрагента, который больше получает, чем отдает. И если он все-таки убежден, что поступил с другим по праву и справедливости и выменял у него [нечто] равноценное, то применительно к А это следует выразить так: конечно, объективно он отдал В равное за равное, цена (а) эквивалентна предмету (Р), однако субъективно ценность р для него, конечно, больше, чем ценность а. Но чувство ценности, связывающее А с Р, есть само по себе некое единство, а в нем уже невозможно различить даже мельчайшей черточки, которая бы разделяла объективное количество ценности и его субъективное признание. Итак, исключительно тот факт, что объект обменивается, то есть является некой ценой и стоит некую цену, задает эту границу, определяет в пределах субъективного количества его ценности ту часть [объекта], которая вступает в общение как встречная ценность.
Другое наблюдение ничуть не менее поучительно. [Оно заключается в том,] что обмен отнюдь не обусловлен предшествующим представлением об объективной равноценности. Присмотримся к тому, как совершают обмен ребенок, человек импульсивный и (как по всему кажется) человек примитивный. Они что угодно отдадут за предмет, который страстно вожделеют именно в данный момент, даже если, по общему мнению, цена его слишком высока, да и сами они, спокойно поразмыслив, думают так же. Однако это не противоречит результату наших предшествующих рассуждений, что всякий обмен должен представляться выгодным для сознания субъекта именно потому, что субъективно такие действия в целом еще не имеют отношения к вопросу о равенстве или неравенстве объектов обмена. Как раз для рационализма, [подходящего к вопросу] столь непсихологически, кажется, между прочим, самоочевидным, будто каждый обмен предполагает, что уже взвешены все жертвы и прибыли, и в результате, по меньшей мере, одно было приравнено к другому. А к тому же еще [полагают, будто участник обмена] объективен по отношению к своему вожделению, что вовсе не характерно для душевных конституций, о которых только что шла речь. Неразвитый или пристрастный дух не отступает от своего интереса, обострившегося в данный момент, так далеко, чтобы затевать сравнение, он хочет в данный момент именно лишь одного и, отдавая другое, не считает поэтому, что умаляет желанное удовлетворение, то есть отдача не воспринимается как цена. Мне-то, напротив, в виду той бездумности, с какой ребячливые, неопытные, порывистые люди «любой ценой» заполучают то, что является предметом их сию-минутного вожделения, кажется вероятным, что суждение о тождестве является только результатом опыта и мно-жества перемен во владении, совершившихся без каких бы то ни было соображений, [взвешивающих жертвы и прибыли]. Совершенно одностороннее, полностью оккупирующее дух вожделение должно сначала успокоиться благодаря обладанию [предметом], чтобы [оно могло] вообще допустить другие объекты к сравнению с ним. Не вышколенный и необузданный дух, между тем, придает одно значение своим интересам в данный момент, и совершенно другое - всем остальным представлениям и оценкам. Поэтому он пускается на обмен прежде, нежели дело дойдет до суждений о ценности, т. е. об отношении между собой различных количеств вожделения. Не должно вводить в заблуждение то обстоятельство, что в случае развитого по-нятия ценности и достаточного самообладания суждение о равной ценности предшествует обмену. Вполне вероятно, что и здесь, как это нередко бывает, рациональное отношение развилось только из психологически противоположного отношения (также и в области души то рсут змЬт есть последнее, что цэуей* есть первое), а перемена владения, ставшая результатом чисто субъективных импульсов, только впоследствии демонстрирует нам относительную ценность вещей.
* [То] для нас [есть последнее, что] по природе [есть первое]. (Греч.). (См.: Аристотель. Физика. Кн. первая, Гл. первая: «...надо попытаться определить прежде всего то, что относится к началам. Естественный путь к этому ведет от более понятного и явного для нас к более явному и понятному по природе...». Пер. В. П. Карпова). - Указано Т. Ю. Бородай.
Если, таким образом, ценность является как бы эпигоном цены, то кажется тождественным положение, что величины обеих должны быть одинаковы. Я здесь имею в виду указанную выше постановку вопроса: в каждом индивидуальном случае ни один контрагент не платит цены, которая слишком высока для него в данных обстоятельствах. Если в стихотворении Шамиссо разбойник приставляет пистолет и вынуждает жертву продать ему часы и кольцо за три гроша, то при таких обстоятельствах для последнего (ибо только так он может спасти свою жизнь) полученное в обмен действительно стоит свою цену; никто не стал бы работать за нищенское жалованье, если бы в том положении, в котором он фактически находится, это жалованье не было бы для него все-таки предпочтительнее, чем отсутствие работы. Видимость парадокса в утверждении об эквивалентности ценности и цены в каждом индивидуальном случае возникает только потому, что в это утверждение привносятся определенные представления о другого рода эквивалентности ценности и цены. Сравнительная стабильность отношений, которыми определяется множество действий, ас другой стороны, - аналогии, которые также фиксируют еще колеблющееся отношение ценности соответственно норме уже существующих [отношений ценности], вызывают представление о том, что с определенным объектом сопряжен по своей ценности именно такой-то и такой-то иной объект как его обменный эквивалент, оба эти объекта или круга объектов обладают ценностью одинаковой величины, а если ненормальные обстоятельства заставляют нас обменивать этот объект на другие ценности, которые находятся выше или ниже этого уровня, то ценность и цена здесь расходятся, хотя в каждом отдельном случае, с учетом конкретных обстоятельств, они совпадают. Не следует только забывать, что объективная и справедливая эквивалентность ценности и цены, которую мы делаем нормой для фактически существующей и единичной эквивалентности, имеет силу тоже только при совершенно определенных исторических и правовых условиях, а с изменением их сразу же исчезает. Итак, между самой нормой и теми случаями, которые она характеризует как отклоняющиеся или адекватные, различие здесь не принципиальное <genereller>, а, так сказать, нумериче-ское - что-то вроде того, как об индивиде, стоящем необыкновенно высоко или [упавшем] необыкновенно низко говорят, что это, собственно, уже не человек, тогда как такое понятие человека есть лишь среднее, которое потеряло бы свой нормативный характер в тот момент, когда большинство людей либо поднялось столь же высоко, либо опустилось столь же низко, и тогда уже именно эта его конституция считалась бы единственно человеческой. Но чтобы понять это, требуется самым энергичным образом освободиться от укоренившихся и практически совершенно справедливых представлений о ценностях. Ведь при сколько-нибудь более развитых отношениях эти представления располагаются друг над другом двумя слоями: один [слой] образуют традиции общественного круга, основная часть опыта, кажущиеся чисто логическими требования; другой же [слой] составляют индивидуальные констелляции, то, что требуется в данное мгновение и к чему принуждает случайное окружение. В противоположность скорым переменам, происходящим на этом последнем уровне, медленная эволюция, совершающаяся на первом, и его образование через сублимацию второго оказывается скрытым от нашего восприятия, так что он кажется объективно <sachlich> оправданным, выражением некоторой объективной <objektiven> пропорции. Итак, если при обмене в данных обстоятельствах ощущения ценности жертвы и ценности прибыли, по меньшей мере, выступают как равные, - потому что иначе ни один субъект, который вообще производит сравнение, не стал бы этот обмен совершать, - но, с точки зрения указанных общих характеристик, между ними обнаруживаются различия, тогда говорят о разрыве между ценностью и ценой. Самым решительным образом это проявляется при наличии двух предпосылок, которые, впрочем, почти всегда образуют единое целое: во-первых, одно-единственное ценностное качество считается хозяйственной ценностью вообще, и два объекта, таким образом, лишь постольку считаются равно ценными, поскольку в них заложено равное количество <Quan-tum> этой фундаментальной ценности; а во-вторых, определенная пропорция между двумя ценностями выступает как должная, с акцентом не только на объективное, но и на моральное требование. Например, представление о том, что собственно ценностным моментом во всех ценностях является опредмеченное, общественно необходимое рабочее время, используется в обоих отношениях и задает, таким образом, масштаб (применимый прямо или косвенно), заставляя ценность, как маятник, колебаться по отношению к цене, с переменным интервалом отличаясь от нее в большую или меньшую сторону. Однако поначалу сам факт единого масштаба ценности совершенно оставляет в стороне [вопрос о том,] как же рабочая сила стала ценностью.
Вряд ли это произошло бы, если бы она, действуя на различные материалы и создавая различные продукты, не получила бы тем самым возможность обмена или если бы ее применение не было воспринято как жертва, которую приносят для получения результата. Также и рабочая сила лишь благодаря возможности и реальности обмена включается в категорию ценностей, невзирая на то, что затем она в рамках этой категории может задавать масштаб для других ее содержаний. Итак, пусть даже рабочая сила будет содержанием всякой ценности, форму ценности она получает лишь благодаря тому, что вступает в отношение жертвы и прибыли или цены и ценности (в узком смысле). Согласно этой теории получается, что в случае расхождения цены и ценности один контрагент отдает некое количество непосредственно опредмеченной рабочей силы за некоторое меньшее количество того же самого, причем с этим количеством таким образом сопряжены иные, не относящиеся ни к какой рабочей силе обстоятельства, что этот контрагент, тем не менее, совершает обмен, удовлетворяя, например, какую-то неотложную потребность, из любительского интереса, ради обмана, монополии и тому подобного. Итак, в более широком и субъективном смысле и здесь ценность эквивалентна другой ценности, тогда как единая норма рабочей силы, которая делает возможным их расхождение, все равно обязана генезисом своего ценностного характера обмену.
Качественная определенность объектов, которая субъективно означает их вожделенность, теперь уже больше не может претендовать на то, что именно она создает абсолютную величину их ценности: только осуществляемое в обмене отношение вожделений друг к другу делает предметы этих вожделений хозяйственными ценностями. Это определение непосредственно выступает на передний план в другом моменте ценности, который считается конститутивным для нее - в недостаточности или относительной редкости. Ведь обмен есть не что иное, как межиндивидная попытка улучшения скверных обстоятельств, возникающих из-за недостаточности благ, т. е. попытка по возможности уменьшить количество субъективных лишений путем распределения имеющихся запасов. Уже отсюда вытекает прежде всего общая соотнесенность между тем, что называют (это, впрочем, справедливо подвергается критике) ценностью редкости, и тем, что называют меновой ценностью. Однако здесь более важна обратная взаимосвязь. Выше я уже подчеркивал, что следствием недостаточности благ вряд ли было бы приписыванием им ценности <Wertung>, если бы мы не могли модифицировать эту недостаточность. А это возможно двумя способами: либо отдачей рабочей силы, объективно умножающей запас благ, либо отдачей уже имеющихся во владении объектов, потому что при смене владений для субъекта устраняется редкость того объекта, который он более всего вожделеет. Таким образом, можно поначалу, видимо, утверждать, что недостаточность благ сравнительно с ориентированным на них вожделением объективно обусловливает обмен, однако только обмен, в свою очередь, делает редкость одним из моментов ценности. Ошибочно во многих теориях ценности то, что они, беря полезность и редкость как данные, рассматривают экономическую ценность, т. е. движение обмена, как нечто само собой разумеющееся, как необходимо вытекающее из самих этих понятий следствие. Но здесь они совершенно не правы. Если бы, например, в ряду этих предпосылок находилось также аскетическое самоотречение или если бы они вызывали только борьбу и разбой (что часто и случается), то не возникло бы ни экономической ценности, ни экономической жизни.
Этнология учит нас, какими удивительно произвольными, изменчивыми, несоразмерными бывают понятия ценности в примитивных культурах, коль скоро речь идет о чем-то большем, нежели самых настоятельных повсе-днев-ных нуждах. Не вызывает сомнения, что причина этого (во всяком случае, таков один из взаимодействующих [моментов]) - в другом явлении: в отвращении первобытного человека к обмену. Основания такого отвращения назывались разные. Поскольку у примитивного человека отсутствует объективный и всеобщий масштаб ценностей, он всегда должен бояться, что при обмене его обманут; поскольку продукт труда всегда производится им самим для себя самого, он отчуждает от себя в обмене часть своей личности и дает власть над собой злым силам. Быть может, здесь же берет начало и отвращение естественного человека к труду. Здесь у него тоже нет надежного масштаба для обмена усилий на результат, он боится, что его обманет даже природа, объективность которой непредсказуема и ужасающа для него, пока он не зафиксирует также и свою деятельность на некоторой дистанции и не включит ее в категорию объективности. Итак, из-за того, что он погружен в субъективность своего отношения <Verhaltens> к предмету, обмен - как природный, так и межиндивидный, - который идет рука об руку с объективацией вещи и ее ценности, выступает для первобытного человека как нечто неподходящее. И действительно, кажется, будто первое осознание объекта как такового приносит с собой чувство страха, словно бы человек чувствует, что от его Я тем самым отрывается часть. А отсюда сразу же следует мифологическое и фетишистское толкование объекта, которое, с одной стороны, гипостазирует это чувство страха, сообщая объекту единственно возможную для первобытного человека понятность, а с другой, - ослабляет его, очеловечивая объект, ближе подводя его к примирению с субъективностью. Тем самым объясняются многие явления. Прежде всего то, что грабеж, субъективный и ненормированный захват того, чего только что захотелось, рассматривался как нечто само собой разумеющееся и почетное. Не только в гомеровскую эпоху, но и много позже морской разбой считался в отсталых областях Греции законным промыслом, а у многих примитивных народов насилие и разбой считаются даже делом более благородным, чем честная оплата. И это тоже совершенно понятно: при обмене и оплате подчиняются объективной норме, перед которой вынуждена отступить сильная и автономная личность, к чему она как раз часто не склонна. Отсюда же - презрение к торговле вообще со стороны весьма аристократических и своевольных натур. Но по той же причине обмен также поощряет мирные отношения между людьми, поскольку они признают в нем межсубъектную*, в равной мере стоящие над всеми ними объективность и нормирование.
* В оригинале: «intersubjektive». Перевод этого термина радикально испорчен традицией переложения феноменологических текстов. Во всяком случае, мы можем быть уверены, что Зиммель в 1900 г. далек от «интерсубъективности ».
Следует с самого начала предположить, что существует целый ряд опосредствующих явлений между чистой субъективностью смены владений, с чем мы имеем дело в случаях грабежа и дарения, и ее объективностью в форме обмена, когда вещи обмениваются в соответствии с равными количествами содержащихся в них ценностей. Сюда относится традиционная взаимность дарения. У многих народов имеется представление о том, что дар позволительно принять лишь тогда, когда возможно ответить на него встречным даром, так сказать, заслужить задним числом. А отсюда уже прямой путь к полноценному обмену, если он, как это часто бывает на Востоке, происходит таким образом, что продавец «дарит» объект покупателю - но горе тому, кто не сделает соответствующего «встречного дара». Сюда относится так называемая работа «всем миром» <Bitt-arbeit> которая встречается повсеместно: соседи или друзья собираются для взаимопомощи при выполнении неотложной работы, не получая за это жалованья. Однако, обычным делом при этом является, по меньшей мере, хорошенько угостить работников и, по возможности, устроить для них маленький праздник, так что, например, о сербах сообщают, что у них только состоятельные люди могли себе позволить собрать такое товарищество добровольных работников. Конечно, и сегодня на Востоке, а по большей части даже в Италии не существует понятия соразмерной цены, которое ограничивает и фиксирует субъективные предпочтения и покупателя, и продавца. Каждый продает настолько дорого и покупает настолько дешево, насколько это удается применительно к противоположной стороне, обмен есть исключительно субъективная акция, происходящая между двумя лицами и ее исход зависит только от хитрости, жадности, настойчивости сторон, но не от самой вещи и не от ее надындивидуально обоснованного отношения к цене. В том то и состоит гешефт, объяснял мне один римский антиквар, что продавец требует так много, а покупатель предлагает так мало, и постепенно они сближаются друг с другом, доходя до приемлемой позиции. Итак, здесь ясно видно, каким образом объективно соразмерное оказывается результатом встречного и соревновательного движения <Gegeneinander> субъектов - в целом, это вторжение дообменных отношений в обменное хозяйство, которое проникло уже повсюду, но еще не выявило всех своих последствий. Обмен уже тут, он уже представляет собой объективный процесс, происходящий между ценностями, но совершается он вполне субъективно, его модус и его количества связаны исключительно с взаимоотношением личных качеств. - В этом, видимо, состоит также и конечный мотив [существования] сакральных форм, закрепления в законе, гарантий со стороны общественности и традиции, которые сопутствуют торговому делу во всех ранних культурах. Все это позволяло достичь над-субъектности, необходимой по самой сути обмена, создать которую еще не умели посредством объективного соотнесения самих объектов. До тех пор, пока обмен, а также идея, что между вещами существует нечто вроде ценностного равенства, были еще чем-то новым, ни о каком согласии не было бы и речи, если бы достигать его приходилось всякий раз двум индивидам между собой. Поэтому повсеместно, вплоть до самого средневековья мы обнаруживаем, что обмен не просто совершается публично, но прежде всего, что существуют точные определения относительно обмениваемых количеств употребительных товаров и не подчиниться этим определениям, заключив приватное соглашение, не может ни одна пара контрагентов. Конечно, это - объективность механическая и внешняя, она опирается на мотивы и силы вне отдельного акта обмена. Соразмерная самой вещи <sachlich> объективность свободна от такого априорного закрепления и включает в расчеты всю совокупность особых обстоятельств, которыми насильственно овладевает эта форма. Однако намерения и принцип здесь те же самые: надсубъектное фиксирование ценности в обмене, которое только позже пошло более вещественным, более имманентным путем. Свободно и самостоятельно совершаемый индивидами обмен предполагает ценовую оценку <Taxiemng> в соответствии с масштабами, которые заложены в самой вещи, и потому на предшествующей стадии обмен должен быть содержательно фиксирован, а эта фиксация обмена должна быть социально гарантирована, потому что иначе у индивида не было бы никакой точки опоры для оценки <Schatzung> предметов. Видимо, благодаря тому же самому мотиву и примитивный труд повсеместно приобрел социально упорядоченную направленность и стал совершаться в соответствии с социальными правилами, также и здесь обнаруживая сущнос-тное тождество обмена и труда, точнее говоря, принадлежность последнего к первому как более высокому понятию. Впрочем, многообразные отношения между объективно значимым <Gultigen> - как в практическом, так и в теоретипеском аспекте - и его социальным значением <Bedeutung> и признанием часто исторически проявляются таким образом, что социальное взаимодействие, распространение, нормирование гарантируют индивиду то достоинство и ту прочность некоторого жизненного содержания, которые позже ему дают вещественное право и доказуемость этого содержания. Так, ребенок верит всему, [что ему говорят,] но не по внутренним основаниям, а поскольку доверяет [данным] людям; он верит не чему-то, а кому-то. Так и наши вкусы зависят от моды, т. е. от социального распространения некоторой деятельности и оценок, прежде чем, достаточно поздно, мы не научимся сами эстетически судить о вещах. Так индивид оказывается перед необходимостью превзойти себя самого, но одновременно обрести какую-то опору и поддержку вовне: в праве, в познании, в нравственности - как силе традиции; постепенно это поначалу необходимое нормирование, которое, правда, стоит над отдельным субъектом, но не субъектом вообще, превращается в нормирование, исходящее из знания вещей <Dinge>H постижения идеальных норм. То, что [находится] вне нас, [что] нужно нам для ориентации, принимает более доступную форму социальной всеобщности, пока не начинает выступать для нас как объективная определенность реальности и идей. Таким образом, в этом смысле, что характерно для всего развития культуры, обмен изначально является делом социального установления, пока индивиды в достаточной мере не ознакомятся с объектами и своими собственными оценками, чтобы от случая к случаю самостоятельно фиксировать норму обмена. Здесь напрашивается то возражение, что эти зафиксированные обществом и законами оценки цен <Preistaxen>, в соответствии с которыми обычно идет общение во всех полуразвитых культурах <Halbkulturen>, являются, возможно, всего лишь результатом многих предшествующих обменов, которые поначалу состоялись между индивидами в единичной и еще нефиксированной форме. Однако это возражение имеет здесь силу не больше, чем стародавние попытки объяснять возникновение языка, нравов, права, религии, короче говоря, всех основополагающих форм жизни, возникающих и господствующих в группе как целом, только тем, что их изобрели отдельные индивиды, хотя они, безусловно, с самого начала возникали как межиндивидные образования, как взаимодействие между отдельными и многими, так что приписать их происхождение нельзя ни одному индивиду как таковому. Я считаю вполне возможным, что предшественником социально фиксированного обмена явился не индивидуальный обмен, а некий род смены владений, который вообще не был обменом, например, грабеж. Тогда межиндивидный обмен был бы не чем иным, как мирным договором, а возникновение обмена было бы также и возникновением фиксированного обмена. Как аналогию этому можно было бы рассматривать похищение женщин в примитивных обществах, предшествовавшее экзогамному мирному договору с соседями, который служит основой для покупки женщин и обмена ими и регулирует этот процесс. Вводимая тем самым принципиально новая форма супружества сразу же устанавливается так, чтобы фиксировать ее предрешенность для индивида. Нет никакой нужды в том, чтобы [такому супружеству] предшествовали свободные специальные договоры того же рода между отдельными людьми, поскольку тип супружества и социальное регулирование даны одновременно. Считать, что всякое социально регулируемое отношение исторически развилось из тождественной по содержанию, но только индивидуальной, социально не отрегулированной формы, - это предрассудок. Такому отношению предшествовало, скорее, то же самое содержание, но в совершенно иной по своему роду форме отношения. Обмен выходит за субъективные формы присвоения чужого владения - грабеж и дарение, - в полном соответствии с тем, что подарки вождю и налагаемые им денежные штрафы являются предшественниками налогов, - и на этом пути у него обнаруживается первая надсубъектная возможность социального регулирования, которая только и подготавливает объективность в смысле вещности; только вместе с этим общественным нормированием в свободную смену владений врастает та объективность, которая составляет сущность обмена.
Результат всего этого таков: обмен есть социологическое образование sui generis, изначальная форма и функция межиндивидной жизни, которая отнюдь не вытекает как логическое следствие из тех качественных и количественных свойств вещей, которые называются их полезностью и редкостью. Как раз наоборот: и полезность, и редкость обнаруживают свое значение для образования ценности только в тех случаях, когда предпосылкой является обмен. Если по каким-либо причинам обмен, жертвование в целях получения прибыли, прекращается, то никакая редкость вожделенного объекта не может сделать его хозяйственной ценностью, пока такое отношение не станет вновь возможным. - Значение предмета для субъекта заключено всегда только в его вожделенности; в том, что он может нам дать, решающую роль играет его качественная определенность, а если мы его имеем, то в позитивном отношении к нему совершенно неважно, существуют ли еще другие экземпляры того же рода, будь то в большем или меньшем количестве, или их вообще нет. (Я не рассматриваю здесь по отдельности те случаи, когда сама редкость вновь становится родом качественной определенности, делающей предмет для нас достойным вожделения, подобно тому, как это происходит со старым почтовыми марками, диковинами, древностями, которые не имеют эстетической или исторической ценности, и т. п.). Впрочем, ощущение различия, которое необходимо для наслаждения в узком смысле слова, может быть повсеместно обусловлено редкостью объекта, т. е. тем, что наслаждаются им как раз не везде и не всегда. Однако это внутреннее психологическое условие наслаждения не становится практическим уже потому, что должно было бы повлечь за собой не преодоление, а консервацию и даже усиление редкости, чего, как показывает опыт, не происходит. Практически помимо прямого, зависящего от качества вещей наслаждения, речь может идти только о пути к получению такового. Коль скоро этот путь долог и труден, если требуется приносить жертвы, затрачивать терпение, испытывать разочарования, вкладывать труд, переносить неудобства, идти на отречения и т. д., то этот предмет мы называем «редким» . Непосредственно это можно выразить так: вещи труднодостижимы не потому, что они редки, напротив, они редки потому, что труднодостижимы. Сам по себе тот жесткий внешний факт, что запас определенных благ слишком мал, дабы удовлетворить все наши вожделения, направленные на них, не имел бы никакого значения. Есть много объективно редких вещей, которые не редки в хозяйственном смысле; а для хозяйственной редкости решающим обстоятельством является то, в какой мере для ее получения ее через обмен нужны силы, терпение, самоотдача - те жертвы, которые, конечно, предполагают вож-деленность объекта. Трудности с получением [вещи], т. е. величина приносимой в обмене жертвы есть подлинно конститутивный момент ценности, а редкость - лишь внешнее его проявление, лишь объективация в форме количества. Часто не замечают, что редкость как таковая является все-таки лишь негативным определением, сущим, характеризуемым через несущее. Однако несущее не может быть действенным, всякое позитивное следствие должно исходить от позитивного определения и силы, а это негативное [определение] есть как бы только тень позитивного. Но этими конкретными силами очевидно являются лишь те, которые вложены в обмен. Только нельзя полагать, будто характер конкретности принижается от того, что здесь он не связан с индивидом* как таковым. [Господствующая] среди вещей относительность занимает уникальное положение: она выходит за пределы индивида, существует <subsistiert> только в множестве как таковом и все-таки не является всего лишь понятийным обобщением и абстракцией.
В этом тоже выражается глубинная связь относительности с обобществлением, самым непосредственным образом делающая относительность наглядной на материале человечества: общество есть надъединичное, но не абстрактное образование. Благодаря обществу историческая жизнь оказывается избавленной от альтернативы: либо совершаться в одних лишь в индивидах <Individuen>, либо протекать в абстрактных всеобщностях; оно есть то всеобщее, которое одновременно имеет конкретную жизненность. Отсюда - и уникальное значение обмена для общества как хозяйственно-исторического осуществления относительности вещей: он выводит отдельную вещь <Ding> и ее значение для отдельного человека из ее единичности, но не в сферу всеобщего, а в живое взаимодействие, являющееся как бы телом хозяйственной ценности. Как бы точно ни были исследованы сущие сами по себе определения предмета, обнаружить хозяйственную ценность тем самым не удастся, так как она состоит исключительно во взаимоотношении, возникающем между многими предметами на основе этих определений, [причем] каждый предмет обусловливает другой и возвращает ему то значение, которое от него получает.
* В оригинале: «Einzelwesen» (буквально: «отдельная сущность»), что может означать и отдельную вещь, и человека как индивида.
Роберт Парк ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
I. ТКАНЬ ЖИЗНИ
Натуралисты прошлого века были чрезвычайно заинтригованы своими наблюдениями взаимосвязей и взаимосоответствий в царстве живой природы - многочисленностью и разнообразием повсюду распространившихся видов. Их последователи - сегодняшние ботаники и зоологи - обратили свое внимание к более специфичным исследованиям, и «царство природы», как и понятие эволюции, стало для них чем-то далеким и умозрительным.
«Ткань жизни», в которой все живые организмы (растения и животные) связаны воедино в обширной системе взаимозависимых жизней, все же является, по выражению Артура Томпсона, «одним из фундаментальных биологических понятий» и «столь же характерно дарвиновским, как и борьба за существование»*.
Знаменитый пример Дарвина с кошками и клевером - классическая иллюстрация этой взаимозависимости. Он обнаружил, как он говорит, что шмели просто необходимы для опыления анютиных глазок, так как другие пчелы не посещают этот цветок. То же самое происходит и с некоторыми видами клевера. Только шмели садятся на красный клевер; другие пчелы не могут добраться до его нектара. Вывод заключается в том, что если шмели станут редки или вообще исчезнут в Англии, редкими станут или же вовсе исчезнут и анютины глазки и красный клевер. Однако, численность шмелей в каждом отдельном районе в большой степени зависит от численности полевых мышей, которые разоряют их норы и гнезда. Подсчитано, что более двух третей из них таким образом уже разрушено по всей Англии. Гнезд шмелей гораздо больше возле деревень и малых городов, чем в других местах, и это благодаря кошкам, которые уничтожают мышей**. Таким образом, будущий урожай красного клевера в некоторых частях Англии зависит от численности шмелей в этих районах; численность шмелей зависит от количества полевых мышей, численность мышей - от числа и проворности кошек, а количество кошек, как кто-то добавил, - от числа старых дев, проживающих в окрестных деревнях, которые и держат кошек.
Эти длинные цепочки пищи, как их называют, каждое звено в которых поедает другое, имеют своим прототипом детское стихотворение «Дом, который построил Джек». Помните:
А это корова безрогая, Лягнувшая старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота. Который пугает и ловит синицу. Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится, В доме, Который построил Джек***.
*J. Arthur Thompson. The System of Animate Nature (Gifford Lectures, 1915-16), II (New York, 1920), 58.
** J. Arthur Thompson. Darvinism and Human Life. New York 1911 P. 52-53.
*** Перевод С. Маршака. (Прим, перев.).
Дарвина и его современников-натуралистов особенно интересовали наблюдения и описания подобных любопытных иллюстраций взаимной адаптации, взаимосвязи растений и животных, поскольку это, как им представлялось, проливает свет на происхождение видов. И виды, и их взаимозависимость в едином обиталище являются, по всей видимости, результатом все той же дарвиновской борьбы за существование.
Примечательно, что именно приложение к органической жизни социологического принципа, а именно - принципа «соревновательной кооперации» - дало Дарвину.первую возможность сформулировать его эволюционную теорию.
«Он перенес на органическую жизнь, - пишет Томпсон, - социологическую идею» и «тем самым доказал уместность и полезность социологических идей в области биологии»*.
* Ibid., P. 72.
Действующим принципом упорядочивания и регулирования жизни в царстве живой природы является, по Дарвину, «борьба за существование». С ее помощью регулируется жизнь многих организмов, контролируется их распределение и поддерживается равновесие в природе. Наконец, при помощи этой изначальной формы конкуренции существующие виды, те, кто выжил в этой борьбе, находят свои ниши в физической окружающей среде и в существующей взаимозависимости, или разделении труда между различными видами. Дж. Артур Томпсон приводит впечатляющее подтверждение тому в своей «Системе живой природы»:
«Множества живых организмов - ...не изолированные создания, ибо каждая жизнь переплетена с другими в сложной ткани... Цветы и насекомые пригнаны друг к другу, как рука к перчатке. Кошки так же имеют отношение к чуме в Индии, как и к урожаю клевера здесь... Так же, как взаимосвязаны органы тела, взаимосвязаны и организмы в мире жизни. Когда мы что-нибудь узнаем о подспудном обмене, спросе и предложении, действии и реакции между растениями и животными, цветами и насекомыми, травоядными и плотоядными, между другими конфликтующими, но взаимосвязанными интересами, мы начинаем проникать в обширную саморегулирующуюся организацию».
Эги проявления живого, изменяющегося, но устойчивого порядка среди конкурирующх организмов - организмов, воплощающих в себе «конфликтующие, но взаимосвязанные интересы» - являются, по всей видимости, основой для понятия социального порядка, относящегося к отдельным видам, и к обществу, покоящемуся, скорее, на биотическом, нежели культурном основании; это понятие позднее было разработано экологами применительно к растениям и животным.
В последние годы географы растений первыми возродили свойственный предшествующим естествоиспытателям определенный интерес к взаимосвязям видов. Геккель в 1878 году первым назвал такого рода исследования «экологией» и, тем самым, придал им характер отдельной самостоятельной науки, науки, которую Томпсон описывает как «новую естественную историю»*. Взаимосвязь и взаимозависимость видов, естественно, более очевидны и более тесны в привычном окружении, чем где бы то ни было еще. Более того, по мере увеличения числа взаимосвязей и уменьшения конкуренции в последовательности взаимных адаптации конкурирующих видов, окружающая среда и ее обитатели стремились принять характер более или менее совершенно закрытой системы.
В пределах этой системы индивидуальные единицы популяции вовлечены в процесс соревновательной кооперации, которая придает их взаимосвязям характер естественной экономии. Такого рода среду и ее обитателей - растения ли, животных или человека - экологи называют «сообществом».
Существенными характеристиками интерпретируемого таким образом сообщества являются: 1) популяция, территориально организованная, 2) более или менее полностью укорененная на земле, которую она занимает, 3) причем ее индивидуальные единицы живут в состоянии взаимозависимости, которая более симбиотична, нежели социеталь-на в том смысле, в каком этот термин применим к людям.
Эти симбиотические сообщества - не просто неорганизованные собрания растений и животных, которые по случайности сосуществуют в одной среде. Напротив, они взаимосвязаны самым замысловатым образом. У каждого сообщества есть что-то от органического образования. Оно обладает более или менее определенной структурой и «историей жизни, в которой прослеживаются периоды юности, зрелости и старости»**. Если это организм, то он - один из органов, какими являются и другие организмы. Это, выражаясь словами Спенсера, - суперорганизм.
* «Экология», - пишет Элтон, - соответствует ранее употреблявшимся терминам «естественная история» и «биономика», однако ее методы теперь более тщательны и точны». См. статью «Ecology» // Encyclopaedia Вгиапгаса (14th ed.)
** Edward J. Salisbury. Plants// Encyclopaedia Britannica (14th ed.).
Более чем что бы то ни было придает симбиотическому сообществу характер организма тот факт, что оно обладает механизмом (конкуренцией) для того, чтобы 1) регулировать свою численность и 2) сохранять равновесие между составляющими его конкурирующими видами. Именно благодаря поддержанию этого биотического равновесия сообщество сохраняет свою тождественность и целостность как индивидуальное образование и переживает все изменения и чередования, которым оно подвержено в процессе движения от ранних к поздним стадиям своего существования.
II. РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ
Равновесие в природе, как его понимают экологи животных и растений, во многом является вопросом численности. Когда давление популяции на природные ресурсы среды обитания достигает определенной степени интенсивности, неизбежно что-то должно произойти. В одном случае популяция может схлынуть и ослабить давление, мигрируя в другое место. В другом случае, когда нарушение равновесия между популяцией и природными ресурсами является результатом некоторого внезапного или постепенного изменения в условиях жизни, существовавшие до него отношения между видами могут быть полностью нарушены.
Причиной изменения может быть голод, эпидемия, вторжение в среду обитания чуждых видов. Результатом такого вторжения может быть резкое увеличение численности вторгшейся популяции и внезапное уменьшение численности изначально обитавшей в этой среде популяции, если не полное ее исчезновение. Определенного рода изменение является продолжительным, хотя иногда и варьирует существенно по времени и скорости. Чарльз Элтон пишет:
«Впечатление, возникающее у любого исследователя популяций диких животных, таково, что «равновесие в природе» вряд ли существует, разве что - в головах ученых. Кажется, что численность животных всегда стремится достичь слаженного и гармоничного состояния, но всегда что-нибудь случается и препятствует достижению этого счастья»*.
* «Animal Ecology», Ibid.
В обычных условиях эти малозначительные отклонения от биотического баланса опосредуются и поглощаются, не нарушая существующего равновесия и обыденности жизни. Но когда происходят внезапные и катастрофические изменения - война ли, голод или мор, - тогда нарушается биотический баланс, вдребезги разбиваются все традиции, и высвобождаются силы, доселе подконтрольные. Тогда могут последовать многие внезапные и даже губительные изменения, которые глубоко преобразуют существующую организацию коммунальной жизни и зададут другое направление развитию дальнейших событий.
Так, появление коробочного долгоносика на южных хлопковых плантациях - случай незначительный, но прекрасно иллюстрирующий принцип. Коробочный долгоносик пересек Рио Гранде в районе Браунсвилля летом 1892 года. К 1894 году он распространился уже на десяток графств в Техасе, поражая хлопковые коробочки и нанося огромный ущерб плантаторам. Его распространение продолжалось каждый сезон вплоть до 1928 года, когда он поразил практически все хлопкопроизводящие области Соединенных Штатов. Это распространение приняло форму территориальной сукцессии. Последствия для сельского хозяйства были катастрофическими, но не бывает худа без добра - это нашествие послужило толчком для начала уже давно назревших преобразований в организации производства хлопка. Оно также способствовало и переселению на север негритянских фермеров-арендаторов.
Случай с коробочным долгоносиком типичен. В нашем подвижном современном мире, где пространство и время сведены на нет, не только люди, но и все низшие организмы (включая микробы), кажется, как никогда, находятся в движении. Торговля, поступательно разрушая замкнутость, на которой основывался древний порядок в природе, усилила борьбу за существование и расширила арену этой борьбы в обитаемом мире. В результате этой борьбы появляется новое равновесие и новая система живой природы, новое биотическое основание для нового мирового общества.
Как отмечает Элтон, именно «колебания численности» и происходящие время от времени «сбои в механизме регуляции прироста численности животных» как правило прерывают установленный порядок вещей и, тем самым, начинают новый цикл изменений. По поводу этих колебаний численности Элтон пишет:
«Эти сбои в механизме регуляции прироста численности животных - обусловлены ли они (1) внутренними изменениями, вроде внезапно зазвонившего будильника или взорвавшегося парового котла, или же какими-либо факторами внешней среды - растительностью или чем-то в этом роде?»*.
* Ibid.
и добавляет:
«Оказывается, что эти сбои происходят и из-за внутренних, и из-за внешних факторов, но последние являются более существенными и обычно играют решающую роль».
Условия, воздействующие на передвижения и численность популяций и контролирующие их, в человеческих обществах более сложны, чем в растительных и животных сообществах, но обнаруживают и поразительные сходства с последними.
Коробочный долгоносик, перемещающийся из своей давным-давно обжитой среды на Мексиканское нагорье и на девственную территорию южных хлопковых плантаций и увеличивающий численность своей популяции соответственно новым территориям и их ресурсам, не так уж отличается от буров из Южноафриканской Капской провинции, прокладывающих себе путь на вельды (пастбища) Южноафриканского нагорья и заселяющих ее своими потомками в течение каких-нибудь ста лет.
Конкуренция в человеческом (как и в растительном или животном) сообществе стремится привести его к равновесию, восстановить его, когда в результате вторжения внешних факторов или в ходе обычной жизни сообщества это равновесие нарушается.
Таким образом, любой кризис, дающий начало периоду быстрых перемен и усиления конкуренции, в конце концов переходит в фазу более или менее стабильного равновесия и нового разделения труда. Таким способом конкуренция создает условие, при котором ее сменяет кооперация. Только когда конкуренция ослабевает (и только в той степени, в какой она ослабевает), можно говорить о существовании того типа порядка, который мы называем обществом. Короче говоря, с экологической точки зрения общество, постольку, поскольку оно является территориальным образованием, является просто областью, в которой биотическая конкуренция уменьшилась и борьба за существование приняла высшие, более сублимированные формы.
III. КОНКУРЕНЦИЯ, ГОСПОДСТВО Я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Существуют и другие, менее очевидные способы, посредством которых конкуренция контролирует отношения индивидов и видов в коммунальной среде. Два экологических принципа - господство и последовательность, - стремящиеся к установлению и поддержанию такого коммунального порядка, являются функциями конкуренции и зависят от нее.
В каждом сообществе живых организмов всегда есть один (или более) господствующий вид. В растительном сообществе такое господство - результат борьбы различных видов за солнечный свет. В климате, благоприятствующем росту леса, господствующим видом, безусловно, будут деревья. В степях и прериях господствующими будут травы.
«В сообществе растений, где солнечный свет является основной потребностью, господствующим будет самое высокое из всех растений, которое сможет вытянуть свои энергетические ловушки поверх голов других. Второстепенное использование может заключаться в использовании тусклого света под сенью более высоких крон. Нечто похожее происходит в любом сообществе живых организмов на земле, в поле, как и в лесу, есть уровни растительности, адаптировавшиеся к существованию с менее интенсивным освещением, чем растения, стоящие на уровень выше. Как правило существует два или три таких уровня; в дубровнике, например, есть уровень мха, над ним - травы, и низкий кустарник, а затем - ничего, до самых крон; на пшеничном поле господствующей формой будет пшеница, а ниже, между ее стеблей, - сорняки. А в тропических лесах все пространство от пола до крыши поделено на зоны и населено»*.
* Н. G. Wells, Julian S. Huxley, and G. P. Wells. The Science of Life. New York, 1934. P. 968-969.
Но принцип господства действует в человеческих сообществах так же, как и в сообществах растений и животных. Так называемые естественные или функциональные области городского сообщества - например, трущоба, район доходных домов, центральные торговые ряды и центральный район банков - каждый из этих районов обязан своим существованием непосредственно фактору господства, и опосредованно - конкуренции.
Борьба производственных и коммерческих институтов за стратегическое местоположение определяет в перспективе и основные очертания городского сообщества. Распределение населения, равно, как и местоположение и границы занимаемых им областей расселения, определяются другой, схожей, но подчиненной системой сил.
Господствующим районом в любом сообществе является, как правило, тот, где самые высокие цены на землю. В любом большом городе есть обычно два таких положения с самыми высокими ценами на землю - это центральный торговый район и центральный район банков. Начиная с этих позиций цены на землю снижаются, сначала резко, а затем - постепенно, по мере приближения к периферии городского сообщества. Именно эти цены на землю определяют местоположение социальных институтов и деловых предприятий. И те, и другие взаимосвязаны в едином своеобразном территориальном комплексе, внутри которого они являются одновременно и конкурирующими, и взаимозависимыми образованиями.
По мере расширения городского сообщества в сторону пригородов давление профессиональных сообществ, деловых предприятий и разного рода социальных институтов, призванных обслуживать весь метрополитенский регион, постепенно усиливает их потребность пространства именно в центре. Таким образом, не только увеличение пригородной зоны, но и любое изменение в способах передвижения, делающее деловой центр города более доступным, увеличивает давление на центр. Отсюда это давление передается и распространяется, как показывает профиль цен на землю, на все остальные части города.
Тем самым принцип доминирования, действующий в границах, обусловленных территорией и другими естественными характеристиками местоположения, в целом определяет и общий социологический тип города и функциональное отношение различных частей города между собой.
Более того, доминирование, поскольку оно стремится стабилизировать биотическое или культурное сообщество, косвенным образом отвечает и за феномен наследственности.
Термин «наследственность» экологи используют для описания и обозначения той упорядоченной последовательности изменений, через которою проходит биотическое сообщество в своем развитии от начальной и сравнительно нестабильной к относительно устойчивой стадии или к высшей стадии. Суть в том, что не только отдельные растения или животные растут в среде сообщества, но и само сообщество - система отношений между видами - как бы вовлечено в упорядоченный процесс изменения и развития.
Тот факт, что в ходе этого развития сообщество проходит через целый ряд более или менее определенных стадий, придает этому развитию циклический характер, как раз и предполагаемый понятием «наследственность».
Объяснением цикличности изменений, составляющих наследственность, может служить тот факт, что на каждой стадии этого процесса достигается более или менее устойчивое равновесие, которое образуется в ходе последовательных изменений в условиях жизни и как результат этих изменений, а равновесие, достигнутое на ранних стадиях тем самым нарушается. В этом случае силы, доселе сдерживаемые равновесием, высвобождаются, конкуренция усиливается, изменение происходит относительно быстро до тех пор, пока не установится новое равновесие.
Наивысшая стадия развития сообщества соответствует поре зрелости в жизни индивида.
«В развивающемся отдельно взятом организме каждая стадия развития самореализуется и дает начало новой стадии: так, головастик отращивает щитовидную железу, которая предназначена для того, чтобы перейти из состояния головастика к состоянию лягушонка. То же самое происходит и в развивающемся сообществе организмов - каждая стадия изменяет свою среду обитания, поскольку изменяет и почти необратимо обогащает почву своего произрастания, тем самым фактически приближаясь к собственному завершению, и создает возможность для новых видов растений с большими потребностями в минеральных солях или каких-либо других свойствах почвы для своего процветания на ней. Соответственно, большие и более прихотливые растения постепенно вытесняют предшествующих им первопроходцев до тех пор, пока, наконец, не установится равновесие - предельная возможность для данного климата.»*
* Ibid., pp. 977-78.
Культурное сообщество развивается сходным с биотическим сообществом образом, однако, несколько сложнее. Изобретения, равно как и внезапные катастрофические изменения, видимо, имеют более важное значение для появления циклических изменений в культурном соообществе, нежели в биотическом. Но сам принцип появления изменений в сущности тот же. Во всяком случае, все, или большинство наиболее существенных процессов функционально связаны с конкуренцией и зависят от нее.
Конкуренция, которая на биотическом уровне функционирует в целях контроля и регулирования отношений между организмами, на социальном уровне стремится принять форму конфликта. На тесную связь между конкуренцией и конфликтом указывает тот факт, что война зачастую, если не всегда, имеет, или предполагает, своим источником экономическую конкуренцию, которая в этом случае принимает более сублимированную форму борьбы за власть и престиж. Социальная функция войны, с другой стороны, судя по всему, расширяет сферу, в пределах которой возможно сохранение мира.
IV. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Если, с одной стороны, давление населения дополняется изменениями локальной и более широкой среды так, что в одночасье нарушается биотический баланс и социальное равновесие, это, в то же время, усиливает и конкуренцию. А это косвенным образом приводит к новому, более сложному и одновременно территориально более экстенсивному разделению труда.
Под влиянием усилившейся конкуренции и увеличившейся активности, предполагаемой этой конкуренцией, все индивиды и все виды, каждый по-своему, стремятся найти свою особую нишу в физической и жилой среде, где он сможет выжить и процветать в наибольшей степени, соответствующей его неизбежой зависимости от своих соседей.
Именно так устанавливается и поддерживается территориальная организация и биологическое разделение труда в среде сообщества. Это объясняет, хотя бы отчасти, тот факт, что биотическое сообщество одно время воспринималось как нечто вроде сверхорганизма, а затем и как экономическая организация для эксплуатации природных ресурсов своей среды обитания.
X. Дж. Уэллс со своими сотрудниками Джулианом Хаксли и Дж. П. Уэллсом в интересном обзоре под названием «Наука жизни» описывают экологию как «биологическую экономику», которая занимается в большей мере «балансами и взаимным давлением друг на друга видов, обитающих в одной среде»*.
* Ibid.
«Экология, - пишут они, - это распространение экономики на все живое». С другой стороны, наука экономики в традиционном смысле, несмотря на то, что она на целое столетие старше экологии, является просто отраслью более общей науки экологии, которая включает человека вместе со всеми живыми существами. В известном смысле то, что традиционно описывалось как экономика и строго привязывалось к деятельности человека, можно вполне описать и как экологию человека, как несколько лет назад Бэрроуз описал географию. Именно в этом смысле и используют этот термин Уэллс и его соавторы.
«Наука экономики - сначала ее называли политической экономией - на столетие старше экологии. Она была и остается наукой о социальном жизнеобеспечении, о потребностях и их удовлетворении, о труде и богатстве. Она стремится прояснить отношения производителя, торговца, потребителя в человеческом сообществе и показать, как держится вся система. Экология расширяет это исследование до всеобщего изучения отдачи и получения, усилия, накопления и потребления во всех уголках жизни. Экономика, поэтому, есть лишь экология человека, это узкое и специальное изучение в рамках экологии весьма своеобразного сообщества, в котором мы живем. Она могла бы, стать лучшей и более ясной наукой, если бы она начиналась с биологических основ»*.
* Н. Н. Barrows. Geography as Human Ecology // Annals Association American Geographers, 13 (1923): 1-14. See H. G. Wells, et al., pp. 961 - 962.
Поскольку экология человека не может быть одновременно и географией, и экономикой, можно принять в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что она не является ни тем, ни другим, но представляет собой нечто независимое от обеих. Но и тогда причины отождествления экологии с географией, с одной сторны, и с экономикой - с другой, достаточно очевидны.
С точки зрения географии растение, животное и популяция людей вместе с ее обиталищем и другими свидетельствами человеческого пребывания на земле являются лишь частью ландшафта, к детальному описанию и представлению которого и стремится географ.
С другой стороны, экология (биологическая экономика), даже когда она включает в себя некую неосознанную кооперацию и естественное, спонтанное и нерациональное разделение труда, представляет собой нечто отличное от коммерческой экономики, нечто не укладывающееся в рамки торговли на рынке. Коммерция, как отметил где-то Зим-мель, - одно из более поздних и наиболее сложных социальных отношений, которые усвоили люди. Человек - это единственное животное, которое торгуется и обменивается.
Экология и экология человека, если она не отождествляется с экономикой на специфически человеческом и культурном уровне, отличается все же и от статического порядка, обнаруживаемого социальным географом, когда тот описывает культурный ландшафт.
Сообщество, описываемое географом отличается от сообщества описываемого экологом, хотя бы по той причине, что закрытая система с сетью коммуникаций, распространенная человеком по всей земле - это не то же, что и «ткань жизни», связывающая живые существа по всему свету жизненными узами.
V. СИМБИОЗ И ОБЩЕСТВО
Экология человека, не отождествляемая ни с экономикой, ни с географией, как таковая отличается во многих отношениях и от экологии растений и животных. Взаимоотношения между людьми и взаимодействие человека со средой обитания сопоставимы, но не тождественны отношениям других форм жизни, живущих совместно и осуществляющих нечто вроде «биологической экономии» в пределах общей среды обитания.
Прежде всего, человек не столь непосредственно зависит от своего физического окружения, как другие животные. Благодаря существующему всеобщему разделению труда, отношение человека к его физическому окружению опосредовано вторжением другого человека. Обмен товарами и услугами способствовал его освобождению от зависимости от его локального окружения.
Более того, человек, благодаря изобретениям и различного рода техническим изыскам развил невероятную способность преобразовывать не только свое непосредственное окружение и реагировать на него, но осваивать свой мир. Наконец, человек воздвиг на основе биотического сообщества институциональную структуру, укорененную в традиции и обычае.
Структура, там, где она существует, сопротивляется изменению, по меньшей мере - изменению, навязываемому извне; тогда как внутренние изменения она, вероятно, стремится накапливать*. В сообществах растений и животных структура предопределена биологически и, в той мере, в какой вообще существует разделение труда, она имеет физиологические и инстинктивные основания. Одним из самых любопытных примеров этого факта могут служить социальные насекомые, а одной из причин изучения их повадок, как отмечает Уилер, является то, что они показывают, до какой степени социальная организация может быть развита начисто физиологическом и инстинктивном основании; то же самое можно отнести и к людям, находящимся в естественной семье, в отличие от институциональной**.
* Это, очевидно, является еще одним свидетельством той органической природы взаимодействий организмов в биосфере, которую отмечают Артур Томпсон и другие. Она указывает на тот способ, каким конкуренция опо-средует влияния извне, приспосабливая вновь и вновь отношения внутри сообщества. В этом случае «внутри» совпадает с траекторией процесса конкуренции, постольку, поскольку результаты этого процесса существенны и очевидны. Сравни также с зиммелевским определением общества и социальной группы в пространстве и времени, приведенном во «Введении в науку социологии» Парка и Бэрджесса (2-е изд.), ее. 348-356.
** William Morton Wheeler. Social life among the Insects. - Lowell Institute Lectures, March, 1922. - pp. 3-18.
Однако в случае человеческого общества эта структура сообщества подкрепляется обычаем и приобретает институциональный характер. В человеческих обществах, в отличие от сообществ животных, конкуренция и индивидуальная свобода ограничиваются обычаем и консенсусом на каждом уровне, следующим за биотическим.
Случайность этого более или менее произвольного контроля, который обычай и консенсус налагают на естественный социальный порядок, усложняет социальный процесс, но не меняет его существенно, а если и меняет, то результаты биотической конкуренции проявят себя в последующем социальном порядке и в ходе последующих событий.
Таким образом, можно считать, что человеческое общество, в отличие от сообществ растений и животных, организовано на двух уровнях - биотическом и культурном. Есть симбиотическое общество, основанное на конкуренции, и культурное общество, основанное на коммуникации и консенсусе. По сути дела эти два общества являются лишь разными аспектами одного общества, они, несмотря на все перипетии и изменения, остаются, тем не менее, в определенной зависимости друг от друга. Культурная над-структура основывается на симбиотической подструктуре, а возникающие силы, которые проявляются на биотическом уровне как передвижения и действия, на высшем, социальном, уровне принимают более утонченные, сублимированные формы.
Однако, взаимоотношения людей гораздо более разнообразны и сложны, они не сводятся к этой дихотомии - симбиотического и культурного. Этот факт находит подтверждение в самых различных системах человеческих взаимоотношений, которые выступают предметом специальных социальных наук. Поэтому следует иметь в виду, что человеческое общество, в его зрелом и более рациональном виде, представляет собой не только экологический, но и экономический, политический и моральный порядки. Социальные науки состоят не только из социальной географии и экологии, но из экономики, политических наук и культурной антропологии.
Примечательно, что эти различного рода социальные порядки организованы в своего рода иерархию. Можно сказать, что они образуют пирамиду, основанием которой служит экологический порядок, а вершиной - моральный. На каждом из последовательно расположенных уровней - на экологическом, экономическом, политическом и моральном - индивид оказывается полнее инкорпорированным в социальный порядок, более подчиненным ему, нежели на предшествующем уровне.
Общество повсюду является организацией контроля. Его функция состоит в том, чтобы организовывать, интегрировать и направлять усилия составляющих его индивидов. Наверное, можно сказать и так, что функцией общества везде является сдерживание конкуренции и, тем самым, установление более эффективной кооперации органических составляющих этого общества.
Конкуренция на биотическом уровне, как это наблюдается в растительных и животных сообществах, представляется относительно неограниченной. Общество, по факту своего существования, является анархичным и свободным. На культурном уровне эта свобода индивида конкурировать сдерживается конвенциями, пониманием и законом. Индивид более свободен на экономическом уровне, чем на политическом, и более свободен на политическом, нежели на моральном.
По мере развития общества контроль все более распространяется и усиливается, свободная коммерческая деятельность индивидов ограничивается, если не законом, то тем, что Джильберт Мюррей называет «нормальным ожиданием человечества». Нравы - это лишь то, чего люди привыкли ожидать в определенного рода ситуации.
Экология человека, в той мере, в какой она соотносится с социальным порядком, основанным более на конкуренции, нежели на согласии, идентична, по крайней мере в принципе, экологии растений и животных. Проблемы, с которыми обычно имеет дело экология растений и животных, - это, по сути, проблемы популяции. Общество, в представлениях экологов, - это популяция оседлая и ограниченная местом своего обитания. Ее индивидуальные составляющие связаны между собой свободной и естественной экономикой, основывающейся на естественном разделении труда. Такое общество территориально организованно, и связи, скрепляющие его, скорее физические и жизненные, нежели традиционные и моральные.
Экология человека, однако, должна считаться с тем фактом, что в человеческом обществе конкуренция ограничивается обычаем и культурой. Культурная надструктура довлеет как направляющая и контролирующая инстанция над биотической субструктурой.
Если человеческое сообщество свести к его элементам, то можно его себе представить как состоящее из населения и культуры, последняя, при этом, включает в себя 1) совокупность обычаев и верований, 2) соответствующую первой совокупность артефактов и технологических изобретений.
К этим трем элементам, или факторам, - населению, артефактам (технологической культуре) и обычаям и верованиям (нематериальной культуре) - составляющим социальный комплекс, следует, наверное, добавить и четвертый, а именно - природные ресурсы среды обитания.
Именно взаимодействие этих четырех факторов - населения, артефактов (технологической культуры), обычаев и верований (нематериальной культуры) и природных ресурсов - поддерживает одновременно и биотический баланс, и социальное равновесие всегда и везде, где они существуют.
Изменения, которые интересны для экологии, - это движение населения и артефактов (товаров), это изменения в местоположении и занятии - фактически любое изменение, которое влияет на сложившееся разделение труда или отношение населения к земле.
Экология человека по сути своей является попыткой исследовать процесс, в котором биотический баланс и социальное равновесие 1) сохраняются, как только они установлены и 2) процесс перехода от одного относительно стабильного порядка к другому, как только биотический баланс и социальное равновесие нарушены.
ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
Основную часть книги образуют переводы работ современных теоретиков.
Библиографическое оформление этих переводов было по возможности унифицировано. Списки используемой литературы размещаются в конце каждой статьи в алфавитном порядке. В ряде случаев они дополнены библиографическими описаниями русских переводов цитируемых произведений. В переводах классических сочинений библиографическое оформление соответствует оригиналу.
В наиболее сложных теоретических работах необходимые для понимания по-русски, но отсутствующие в оригинале слова или фрагменты фраз заключены в квадратные скобки.
Отточия в квадратных скобках означают незначительные сокращения. В угловые скобки заключены слова на языке оригинала, если перевод предполагает возможные разночтения или нуждается в соответствующем уточнении.
ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ
Первоначальный замысел этой книги был связан с публикацией под одной обложкой ряда социологических работ, опубликованных в русских переводах в альманахе THESIS. В конечном счете было отобрано только три из них, вошедших в выпуск № 4 за 1994 г. («Научный метод»):
Р. Коллинз. Социология: наука или антинаука? (CollinsR. Sociology: Pro-science or Antiscience? // American Sociological Review, 1989, vol. 54 (February). P. 124-139), THESIS. № 4. C. 71-96; Г. Терборн. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке (Goran Therborn. Cultural Belonging, Structural Location and Human Action. Explanation in Sociology and in Social Science //Acta Sociologica. 1991. Vol. 34. No 3. P. 177-192). THESIS, № 4. C. 97-118; Дж. Тернер. Аналитическое теоретизирование (Jonathan Turner. Analytical Theorizing// Social Theory Today / Ed. by Giddens A., Turner J. Stanford: Polity Press, 1987. P. 156-194). THESIS. № 4. C. 119-157. Для данного издания эти переводы были заново сверены и отредактированы. Печатаются с разрешения издателей THESIS'а.
РаботаМ Арчер «Реализм и морфогенез» (Realism and Morphogenesis) была получена в рукописи в 1994 г., еще до выхода книги: Archer Margaret S. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, в которой она должна была стать пятой главой. В русском переводе частично опубликована в «Социологическом журнале». 1994. № 4. С. 50-68. Для данного издания редактором были частично переработаны, а частично переведены заново некоторые фрагменты, выпущенные в первой публикации. Весь перевод был сверен и основательно отредактирован.
Статья Г. Вагнера «Социология: к вопросу о единстве дисциплины» (Gerhard Wagner. Soziologie: Uberlegungen zur Einheit des Faches. Ms. 1995) была написана по моей просьбе и предоставлена в рукописи. В русском переводе впервые опубликована в «Социологическом журнале», 1996, № ѕ. С. 60-83 Для настоящего издания перевод заново сверен.
Статья Ф. Макнотена и Дж. Урри «Социология природы» (PhilMacnagh-ten, John Urry. A Sociology of Nature) была предоставлена в рукописи по моей просьбе в 1995 г. специально для данного издания. Перевод публикуется впервые.
Отдельная история связана с публикацией работы Н. Лумана «Теория общества» (Nik/as Luhmann. Theorie der Gesellschaft. Fassung San Foca' 89). Рукопись я получил от Лумана в феврале 1991 г. Он отнюдь не радовался возможной публикации на русском языке, потому что считал свое сочинение еще далеко не доработанном. Луман много раз перерабатывал рукопись, использовал как основу для курсов лекций, читанных, прежде всего, в Билефельде, но также и в других университетах; в частности, он работал над ней в Италии (отсюда подзаголовок: «Вариант San Foca' 89»), с которой вообще связывал в это время много не сбывшихся позже планов. Поддавшись на мои уговоры, он просил только предуведомить читателя, что это далеко еще не зрелый плод его труда. Однако, когда в 1997 г. вышла монументальная монография Лумана «Общество общества» (Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp), я сравнил тексты первой главы имеющейся у меня рукописи и окончательного варианта. Мне показалось, что выбранные для перевода параграфы если и отличаются от книжного текста, то очень незначительно. Таким образом, не нарушая волю автора, я все-таки могу уверить читателя в том, что он держит в руках отнюдь не полуфабрикат теории. К сожалению, известить Лумана о готовящейся публикации я уже не смог. Он скончался в ноябре 1998 г.
Статья Гая Оукса «Прямой разговор об эксцентричной теории» (Guy Oakes. Straight Thinkinh about Queer Theorizing) была предоставлена в рукописи по моей просьбе. Перевод публикуется впервые.
Работу над переводом «Философии денег» Георга Зиммеля я начал очень давно, перспективы ее завершения далеко не ясны. Между тем, интерес именно к этой книге Зиммеля заметно растет. Не имея возможности удовлетворить ожиданиям коллег полным текстом, я все-таки надеюсь, что этот небольшой фрагмент (представляющий собой две трети первой главы книги) окажется небесполезным. Перевод сделан по изданию: Georg Simmel. Philosophic des Geldes. Zweite, vermehrte Auflage. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1907. S. in-ГХ, 3-61. Сверен по изданию: SimmelG. Philosophic des Geldes / Hrsgg. v. David P. Frisby und Klaus Christian Kohnke. Ge-org Simmel Gesamtausgabe / Hrsgg. v. Otthein Rammstedt. Bd. 6. Frankfurt a.M.: Suhrlamp, 1989. S. 9-14, 23-92.
Перевод статьи Робрета Парка «Экология человека» был выполнен специально для настоящего издания и публикуется впервые. Перевод сделан по изданию: Robert E. Park. Human Ecology // Rober E. Park. On Social Control and Collective Behavior. Selected Papers / Edited and with an Introduction by Ralph H. Turner. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1967. P. 69-84.
А. Филиппов
ОБ АВТОРАХ
Маргарет Арчер (Margaret Archer) - профессор университета Уорика (Warwick), Великобритания. Основные публикации: Social Origins of Educational Systems. London: Sage, 1979; Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Герхард Вагнер (Gerhard Wagner) - приват-доцент Билефельдского университета (Bielefeld), ФРГ. Основные публикации: Geltung und normativer Zwang. Freiburg / Milnchen: Karl Alber, 1987; Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwindung der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
Рэндал Коллинз (Randall Collins) - профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: Collins R. Sociology since Midcentury. Essays in Theory Cumulation. N.Y.: Academic Press, 1981; Theoretical Sociology. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
НикласЛуман (NiklasLuhmann) (1927-1998) - в 1968-1993 гг. - профессор Билефельдского университета, ФРГ. Основные публикации: Sozio-logische Aufklarung. Bde. 1-6. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1970-1995; Gesellschaftstruktur und Semantik. Bde. 1-4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1980- 1995; Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984 и др.
Фил Макнотен (PhilMacnaghten) - сотрудник Ланкаширского Центра исследований изменений окружающей среды, Ланкастерский университет (Lancaster), Великобритания. Основная публикация: Contested Natures (соавтор - J. Urry). London: SAGE, 1998.
Гай Оукс (Guy Oakes) - профессор Монмутского (Monmouth) университета, США. Переводчик сочинений Зиммеля и Риккерта. Основные публикации, помимо переводов: Weber and Rickert. Concept Formation in the Cultural Sciences. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1988; The Imaginary War: Civil Defense and American cold war culture. N.Y.: Oxford University Press, 1994; The Soul of the Salesman : The Moral Ethos of Personal Sales. Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press International, 1990.
Гёран Терборн (Goran Therborn) - профессор Уппсальского (Uppsala) университета, Швеция. Основные сочинения: The Ideology of Power and the Power of Ideology. London: NLB, 1980; What Does the Ruling Class Do When It Rules? London: Verso, 1980; European Modernity and Beyond: the Trajectory of European Societies, 1945-2000. London: Sage, 1995
Джонатан Тернер (Jonathan Turner) - Профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: The Body and Society. Oxford: Blackwell, 1986; A Theory of Social Interaction. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1988; The Strcuture of Sociological Theory. 5th ed. Belmont, Ca.: Wadsworth, 1991.
Джон Урри (John Urry) - профессор Ланкастерского университета, Великобритания. Основные публикации: The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society. London: Sage, 1990; Economies of Signs and Space (соавтор - S. Lash). London: Sage, 1994. Consuming Places. London: Routledge, 1995.
Памяти Никласа Лумана
Никлас ЛУМАН 8.12.1927-6.11.1999
Скончался Никлас Луман. Социологов такого масштаба после второй мировой войны было совсем немного, и ничто не предвещает появления в ближайшем будущем фигуры даже не равновеликой, а хотя бы только сопоставимой с ним по дарованию и продуктивности.
Странные чувства вызывает известие о его кончине. Помимо обычных, человеческих - сожаления и горечи - еще и удивление. Кажется почти невероятным, что остановился поток публикаций, что каждый новый год не принесет одну-две новые книги Лумана. За удивлением следует - как бы кощунственно это ни звучало - своеобразное удовлетворение, вроде того, какое высказала Марина Цветаева, узнав что Волошин умер в полдень - «в свой час». Последняя книга Лумана, более чем тысячестраничная монография «Общество общества»*, так и выглядит - как последняя книга, монументальный труд, итог грандиозного проекта, дело всей жизни. Считать ли ее вершиной творчества или отчаянной неудачей (оценки книги сильно разнятся), все равно несомненно, что это - завершение, после которого могло следовать лишь новое, неожиданное начало. Огромный труд исчерпал видимые возможности теории и жизненные силы теоретика. Структурная связка аутопойесиса жизни и аутопойесиса теории была столь совершенна, что завершение труда и завершение жизни не могли не совпасть.
* Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997.
Писать о Лумане безотносительно к его трудам, даже по столь скорбному поводу, кажется, почти невозможно. Но труды остаются с нами - оборвалась жизнь: что мы скажем о ней? То же, что и о любом профессоре: диплом - диссертация - профессура? Случай Лумана, впрочем, несколько особый: то, что у других ученых растягивается на годы, у него спрессовано в наикратчайший период, которому предшествует необыкновенно затянувшееся начало и за которым уже не следует никаких изменений: в 1968 г. Луман получает профессуру в новом, только что основанном Биле-фельдском университете и остается там четверть века до выхода на пенсию. Профессуре предшествует (в 1966 году) защита диссертаций - в высшей степени необычная, а по нынешним представлениям в Германии попросту невозможная: обе диссертации (Promotion, дающая докторскую степень, и Habilitation, открывающая путь к профессуре) защищаются с перерывом всего в полгода. В том, что это удалось, заслуга не только Лумана, но и виднейшего немецкого социолога X. Шельски, основателя Билефельд-ского университета. Шельски замечает Лумана еще раньше - точная дата их знакомства мне неизвестна, но то обстоятельство, что Луман еще до получения ученых степеней становится (в 1965 году) руководителем подразделения Центра социальных исследований в Дортмунде, который возглавляет Шельски, достаточно примечательно. А что до этого? Сотрудничество с Высшей школой наук управления в Шпейере, где в это время профессорствует знаменитый Арнольд Гелен, старший друг и коллега Шельски, в соавторстве с которым он, в частности, написал первый учебник по социологии в послевоенной Германии. Установить, откуда тянется ниточка знакомств и важных связей, невозможно: краткие биографии Лумана только сообщают нам, что в Шпейере он оказывается через год после возвращения из США, где в 1960-61 гг. учится (слово сомнительное: не студентом же он туда поехал! возможно, мы бы назвали это стажировкой) у Толкота Парсонса. В это время Луман уже зрелый человек, за его плечами не только учеба на юридическом факультете Фрайбургского университета, но и почти десяток лет ответственной чиновничьей работы (к 1962 г. он занимает пост старшего правительственного советника в министерстве культов земли Нижняя Саксония). Собственно, как чиновник он и устроил себе стажировку: «Я сидел и оформлял документы для тех, кто собирался учиться в Америке, - рассказывал он впоследствии. - Мне пришло в голову, что я могу сделать то же и для себя». Все просто, если только не принимать в расчет, что преуспевающий чиновник, профессиональный юрист вдруг круто меняет всю свою жизнь. Что должно было произойти, какие предпосылки определили этот выбор? Что там в прошлом, до этого?
Он родился в семье пивовара в Люнебурге, родном городе Генриха Гейне. Впрочем, о последнем обстоятельстве Луман не знал*. Гейне и так-то не очень почитаем в Германии, но тут другое: все сознательное детство Лумана приходится на эпоху нацизма, правда, он посещает классическую гимназию и даже на старости лет не отказывает себе в удовольствии проспрягать для куда менее образованных современных студентов какой-нибудь греческий глагол. Но он не принадлежит по происхождению к образованному бюргерству. Как и многие послевоенные социологи, он чуть ли не первый в своем роду, кто получает университетское образование.
* Я как-то случайно выяснил это в разговоре.
Однако, до университета еще надо просто дожить, хотя, в отличие от Гелена и Шельски, воевавших на Восточном фронте, Лумана война, так сказать, задевает только краем. Шельски в середине 70-х напишет: «Вообще-то меня должны были закопать в Восточной Пруссии». Луман же, которого в 1944 г. забирают в армию, не дав закончить гимназию, служит помощником авиационного техника в самой Германии, остро ощущает абсурд происходящего и в 1945 г., подобно многим сверстникам, ищет только возможности сдаться в плен американцам или англичанам и уцелеть. В конце концов, ему это удается.
Он заканчивает учебу в университете в год образования обеих Германий - Федеративной и Демократической; и всего только за два с небольшим года до выхода на пенсию успевает сказать прощальное слово той старой, «неполной» Федеративной Республике, в которой прошла вся его взрослая жизнь. Луман - социолог ФРГ в самом прямом смысле этого слова. И вместе с тем его интерес к социологии вообще довольно типичен для людей его поколения и его круга. Типичен-то он типичен, но было ли его решение необходимым? Сам Луман, наверное, не удержался бы здесь от ехидных замечаний. Одно из основных понятий его концепции - «Kontingenz», что можно перевести как «ненеобходимость». В мире нет ничего прочного, субстанциального, неизменного. Существование каждого человека контингентно хотя бы потому, что само его появление на свет стало следствием стечения множества обстоятельств.
Какое-то предощущение своего призвания, у него, видимо, сложилось все-таки очень рано. Известно, что Луман уже в 1952- 53 гг. начинает создавать свои знаменитые картотечные ящики. Именно создавать, потому что ничего похожего не было ни раньше, ни позже. Правда, эта первоначальная картотека, видимо, еще не похожа на позднейшую, в ней больше сходства с обычными подборками карточек, которые ведет для себя любой ученый. На карточках - прежде всего цитаты. Картотека служит упорядочиванию чужих идей. «Настоящая» картотека Лумана появляется позже. Своеобразие ее в том, что она служит прежде всего организации идей самого теоретика, а не чьих-то еще. Представьте себе компьютер, в котором каждый текстовый файл содержит лишь небольшое суждение или группу суждений (иногда - вместе с отсылками к литературе) и может находиться лишь на строго определенном месте, в директории (папке), субдиректории и т. п., в соответствии со своим содержанием. При этом он, с одной стороны, подобно гипертексту, содержит «линки», отсылающие к другим файлам и директориям, а с другой, - сам может выступать не только как файл, но и как директория. Изначально количество директорий невелико и хорошо упорядочено, однако затем они начинают наполняться файлами (которые тоже становятся - или не становятся - директориями), члениться все дальше и дальше; здесь образуются новые и новые пересечения и отсылки. Вот это и есть идея картотеки Лумана. Поначалу теория организована только в самом общем виде. С течением времени теоретику приходит в голову больше идей, некоторые старые идеи, казавшиеся лишь элементом рассуждения, влекут за собой целые серии новых рассуждений, каждое суждение, записанное на карточке, снабжено четкой системой отсылок, позволяющей в считанные минуты извлекать и затем снова ставить на место все карточки - повторим еще раз: с собственными суждениями теоретика! - которые имеют отношение к предмету его работы в данный момент. Текст для публикации, по идее, образуется, в основном, из множества мелких фрагментов, работа над которыми занимает основное время. Это компьютер без компьютера, это рабочий инструмент человека, еще в начале 90-х гг. предпочитавшего всем новинкам оргтехники электрическую пишущую машинку. Сама идея не проста, но ее реализация бесконечно сложна. Сложность возникает из-за все увеличивающегося количества карточек и связей между ними. Картотека воплощает одну из основных категорий Лумана - «сложность», «комплексность» («Komplexitat»). Сложна картотека, сложна теория, сложен мир, упростить который пытается сложная теория. Теория и ее картотека, однако, суть составляющие мира, они одновременно и уменьшают («редуцируют») и увеличивают его сложность.
Как можно было додуматься до этого, самое позднее, в конце 50-х? Как можно было, додумавшись, воплотить замысел хотя бы даже в первоначальной форме? Как можно было поддерживать, развивать этот замысел на протяжении почти четырех десятилетий?
Кажется, ответ есть только на последний вопрос. К середине 60-х годов у Лумана, можно сказать, кончается биография. «Биографии, - говорит он, - суть в большей мере цепочки случайностей, которые организуются в нечто такое, что затем постепенно становится менее подвижным». Биография Лумана почти неподвижна с конца 60-х гг. Мы узнаем из посвящения к книге «Функция религии»*, что в 1977 г. скончалась его жена. Вдовец с тремя детьми так и не женится больше, и не один дружелюбный коллега в Билефельде полусочувственно, а скорее осуждающе расскажет вам, что детьми Луман совсем не занимается, предоставив их попечению домработницы. Он живет в Орлингхаузене**, городке, где когда-то был укоренен род Макса Вебера по отцовской линии. Дом Лумана стоит на улице, названной в честь жены Макса, Марианны. На большом участке земли мог бы поместиться еще один дом - так и было задумано, но не состоялось, семейство не разрастается.
* Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977.
** Oerlinghausen, дифтонг в начале произносится как «ё» в имени Гёте.
Луман, подобно Максу Веберу, не хлопочет за своих учеников, не сколачивает школы, больше похожей на мафиозный клан, как это сплошь и рядом случается в современной науке*. Он агрессивен в теории и любезен в жизни. Его атакуют, его идеи вызывают раздражение. Ему указывают на слабости теории, на ошибки в аргументации, на то, что «редукция комплексности» - это переряженное понятие «разгрузки» философской антропологии Гелена. Луман постоянно отбивается, он вступает в жесткую полемику с Хабермасом**, задавшую стиль теоретическим дискуссиям чуть ли не на два десятилетия. Луман постоянно совершенствует, меняет, развивает теорию. Оппоненты выдыхаются. Они не поспевают за Луманом: только что он говорил об открытых системах в духе Берталанфи - и вдруг нечувствительно усваивает феноменологию позднего Гуссерля; только что его феноменологические штудии были подвергнуты критике, а он уже говорит о закрытых системах, аутопойесисе Матураны и Варелы и логике Дж. Спенсера Брауна. Но Луман не ограничивается исследованием философских оснований теории. Он, напротив, не оставляет без внимания ни одной области современной жизни. Он поражает эрудицией. Его называют «Арно Шмидт*** социологии», раздражаясь, указывают на ошибки в цитировании, на сомнительность интерпретаций... Луман кротко замечает, что у него нет памяти на тексты и филологического чутья - и продолжает писать. Оппоненты, в который раз, отступают. Вырабатывается специфический стиль Лумана: энергичный, сжатый, ироничный, предполагающий безумное количество ссылок на литературу, иногда весьма неожиданных. Луман создает своего читателя, потратившего немало сил на овладение его специфической терминологией и убедившегося на практике, что на этом языке профессионалу легко говорить. Луман гипнотизирует читателя, он заметает следы, не давая увидеть подлинные идейные истоки своих рассуждений, он пускает в ход и эрудицию, и самую изощренную логику, и - безупречный прием - намеки на то, что подлинно современный человек должен мыслить именно так, все остальное - предрассудки и отсталость. Постепенно он становится всемирно известен. Его переводят все больше и больше, не всегда, впрочем удачно. «Я говорил ему, - сетует крупный исследователь Вебера американский социолог Г. Рот, - что так писать для американцев нельзя; это перевести невозможно, и читать такие тексты они не будут». Луман не отступает - в конце концов, многие его сочинения находят своего читателя и на английском языке.
* Современные последователи Лумана, безусловно, образуют плотную и основательно организованную, в частности, в Билефельде группу. Однако тенденции к ее оформлению определились сравнительно поздно, всего за несколько лет до выхода Лумана на пенсию.
** См.: Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnolo-gie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1971.
*** Немецкий писатель, знаменитый своей филологической эрудицией.
В 1988 г. Луман получает премию имени Гегеля города Штуттгарта и... и все. Биограф умолкает, сказать больше нечего. Еще десять лет - и «билефельдский мастер» умолкает навсегда. Мировая социология не начала говорить на языке его теории, но и пройти мимо нее трудно. Ближайшие десятилетия покажут, в должной ли мере передалась его сочинениям энергетика его мысли. Во всяком случае, оставляя в стороне маловразумительный вопрос об «истинности» или «неистинности» столь обширной, сложной, претенциозной теории, мы рискнем высказаться о Лумане нарочито архаически, вопреки букве и духу его сочинений:
Он подлинно служил науке, он отдал ей всю жизнь, он пожертвовал для нее очень многим, он умер, свершив свой труд.
 Экономика: Общество - Социология
Экономика: Общество - Социология
- Экономика и общество
- Экономические исследования
- Экономика и общество в России
- Экономика социальная
- Человек и социальная экономика
- Социология
- Государство и социология
- История социологии
- Практическая социология
- Социология в России
Роберт Парк ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
I. ТКАНЬ ЖИЗНИ
Натуралисты прошлого века были чрезвычайно заинтригованы своими наблюдениями взаимосвязей и взаимосоответствий в царстве живой природы - многочисленностью и разнообразием повсюду распространившихся видов. Их последователи - сегодняшние ботаники и зоологи - обратили свое внимание к более специфичным исследованиям, и «царство природы», как и понятие эволюции, стало для них чем-то далеким и умозрительным.«Ткань жизни», в которой все живые организмы (растения и животные) связаны воедино в обширной системе взаимозависимых жизней, все же является, по выражению Артура Томпсона, «одним из фундаментальных биологических понятий» и «столь же характерно дарвиновским, как и борьба за существование»*.
Знаменитый пример Дарвина с кошками и клевером - классическая иллюстрация этой взаимозависимости. Он обнаружил, как он говорит, что шмели просто необходимы для опыления анютиных глазок, так как другие пчелы не посещают этот цветок. То же самое происходит и с некоторыми видами клевера. Только шмели садятся на красный клевер; другие пчелы не могут добраться до его нектара. Вывод заключается в том, что если шмели станут редки или вообще исчезнут в Англии, редкими станут или же вовсе исчезнут и анютины глазки и красный клевер. Однако, численность шмелей в каждом отдельном районе в большой степени зависит от численности полевых мышей, которые разоряют их норы и гнезда. Подсчитано, что более двух третей из них таким образом уже разрушено по всей Англии. Гнезд шмелей гораздо больше возле деревень и малых городов, чем в других местах, и это благодаря кошкам, которые уничтожают мышей**. Таким образом, будущий урожай красного клевера в некоторых частях Англии зависит от численности шмелей в этих районах; численность шмелей зависит от количества полевых мышей, численность мышей - от числа и проворности кошек, а количество кошек, как кто-то добавил, - от числа старых дев, проживающих в окрестных деревнях, которые и держат кошек.
Эти длинные цепочки пищи, как их называют, каждое звено в которых поедает другое, имеют своим прототипом детское стихотворение «Дом, который построил Джек». Помните:
А это корова безрогая, Лягнувшая старого пса без хвоста, Который за шиворот треплет кота. Который пугает и ловит синицу. Которая часто ворует пшеницу, Которая в темном чулане хранится, В доме, Который построил Джек***.
*J. Arthur Thompson. The System of Animate Nature (Gifford Lectures, 1915-16), II (New York, 1920), 58.
** J. Arthur Thompson. Darvinism and Human Life. New York 1911 P. 52-53.
*** Перевод С. Маршака. (Прим, перев.).
Дарвина и его современников-натуралистов особенно интересовали наблюдения и описания подобных любопытных иллюстраций взаимной адаптации, взаимосвязи растений и животных, поскольку это, как им представлялось, проливает свет на происхождение видов. И виды, и их взаимозависимость в едином обиталище являются, по всей видимости, результатом все той же дарвиновской борьбы за существование.
Примечательно, что именно приложение к органической жизни социологического принципа, а именно - принципа «соревновательной кооперации» - дало Дарвину.первую возможность сформулировать его эволюционную теорию.
«Он перенес на органическую жизнь, - пишет Томпсон, - социологическую идею» и «тем самым доказал уместность и полезность социологических идей в области биологии»*.
* Ibid., P. 72.
Действующим принципом упорядочивания и регулирования жизни в царстве живой природы является, по Дарвину, «борьба за существование». С ее помощью регулируется жизнь многих организмов, контролируется их распределение и поддерживается равновесие в природе. Наконец, при помощи этой изначальной формы конкуренции существующие виды, те, кто выжил в этой борьбе, находят свои ниши в физической окружающей среде и в существующей взаимозависимости, или разделении труда между различными видами. Дж. Артур Томпсон приводит впечатляющее подтверждение тому в своей «Системе живой природы»:
«Множества живых организмов - ...не изолированные создания, ибо каждая жизнь переплетена с другими в сложной ткани... Цветы и насекомые пригнаны друг к другу, как рука к перчатке. Кошки так же имеют отношение к чуме в Индии, как и к урожаю клевера здесь... Так же, как взаимосвязаны органы тела, взаимосвязаны и организмы в мире жизни. Когда мы что-нибудь узнаем о подспудном обмене, спросе и предложении, действии и реакции между растениями и животными, цветами и насекомыми, травоядными и плотоядными, между другими конфликтующими, но взаимосвязанными интересами, мы начинаем проникать в обширную саморегулирующуюся организацию».
Эги проявления живого, изменяющегося, но устойчивого порядка среди конкурирующх организмов - организмов, воплощающих в себе «конфликтующие, но взаимосвязанные интересы» - являются, по всей видимости, основой для понятия социального порядка, относящегося к отдельным видам, и к обществу, покоящемуся, скорее, на биотическом, нежели культурном основании; это понятие позднее было разработано экологами применительно к растениям и животным.
В последние годы географы растений первыми возродили свойственный предшествующим естествоиспытателям определенный интерес к взаимосвязям видов. Геккель в 1878 году первым назвал такого рода исследования «экологией» и, тем самым, придал им характер отдельной самостоятельной науки, науки, которую Томпсон описывает как «новую естественную историю»*. Взаимосвязь и взаимозависимость видов, естественно, более очевидны и более тесны в привычном окружении, чем где бы то ни было еще. Более того, по мере увеличения числа взаимосвязей и уменьшения конкуренции в последовательности взаимных адаптации конкурирующих видов, окружающая среда и ее обитатели стремились принять характер более или менее совершенно закрытой системы.
В пределах этой системы индивидуальные единицы популяции вовлечены в процесс соревновательной кооперации, которая придает их взаимосвязям характер естественной экономии. Такого рода среду и ее обитателей - растения ли, животных или человека - экологи называют «сообществом».
Существенными характеристиками интерпретируемого таким образом сообщества являются: 1) популяция, территориально организованная, 2) более или менее полностью укорененная на земле, которую она занимает, 3) причем ее индивидуальные единицы живут в состоянии взаимозависимости, которая более симбиотична, нежели социеталь-на в том смысле, в каком этот термин применим к людям.
Эти симбиотические сообщества - не просто неорганизованные собрания растений и животных, которые по случайности сосуществуют в одной среде. Напротив, они взаимосвязаны самым замысловатым образом. У каждого сообщества есть что-то от органического образования. Оно обладает более или менее определенной структурой и «историей жизни, в которой прослеживаются периоды юности, зрелости и старости»**. Если это организм, то он - один из органов, какими являются и другие организмы. Это, выражаясь словами Спенсера, - суперорганизм.
* «Экология», - пишет Элтон, - соответствует ранее употреблявшимся терминам «естественная история» и «биономика», однако ее методы теперь более тщательны и точны». См. статью «Ecology» // Encyclopaedia Вгиапгаса (14th ed.)
** Edward J. Salisbury. Plants// Encyclopaedia Britannica (14th ed.).
Более чем что бы то ни было придает симбиотическому сообществу характер организма тот факт, что оно обладает механизмом (конкуренцией) для того, чтобы 1) регулировать свою численность и 2) сохранять равновесие между составляющими его конкурирующими видами. Именно благодаря поддержанию этого биотического равновесия сообщество сохраняет свою тождественность и целостность как индивидуальное образование и переживает все изменения и чередования, которым оно подвержено в процессе движения от ранних к поздним стадиям своего существования.
II. РАВНОВЕСИЕ В ПРИРОДЕ
Равновесие в природе, как его понимают экологи животных и растений, во многом является вопросом численности. Когда давление популяции на природные ресурсы среды обитания достигает определенной степени интенсивности, неизбежно что-то должно произойти. В одном случае популяция может схлынуть и ослабить давление, мигрируя в другое место. В другом случае, когда нарушение равновесия между популяцией и природными ресурсами является результатом некоторого внезапного или постепенного изменения в условиях жизни, существовавшие до него отношения между видами могут быть полностью нарушены.Причиной изменения может быть голод, эпидемия, вторжение в среду обитания чуждых видов. Результатом такого вторжения может быть резкое увеличение численности вторгшейся популяции и внезапное уменьшение численности изначально обитавшей в этой среде популяции, если не полное ее исчезновение. Определенного рода изменение является продолжительным, хотя иногда и варьирует существенно по времени и скорости. Чарльз Элтон пишет:
«Впечатление, возникающее у любого исследователя популяций диких животных, таково, что «равновесие в природе» вряд ли существует, разве что - в головах ученых. Кажется, что численность животных всегда стремится достичь слаженного и гармоничного состояния, но всегда что-нибудь случается и препятствует достижению этого счастья»*.
* «Animal Ecology», Ibid.
В обычных условиях эти малозначительные отклонения от биотического баланса опосредуются и поглощаются, не нарушая существующего равновесия и обыденности жизни. Но когда происходят внезапные и катастрофические изменения - война ли, голод или мор, - тогда нарушается биотический баланс, вдребезги разбиваются все традиции, и высвобождаются силы, доселе подконтрольные. Тогда могут последовать многие внезапные и даже губительные изменения, которые глубоко преобразуют существующую организацию коммунальной жизни и зададут другое направление развитию дальнейших событий.
Так, появление коробочного долгоносика на южных хлопковых плантациях - случай незначительный, но прекрасно иллюстрирующий принцип. Коробочный долгоносик пересек Рио Гранде в районе Браунсвилля летом 1892 года. К 1894 году он распространился уже на десяток графств в Техасе, поражая хлопковые коробочки и нанося огромный ущерб плантаторам. Его распространение продолжалось каждый сезон вплоть до 1928 года, когда он поразил практически все хлопкопроизводящие области Соединенных Штатов. Это распространение приняло форму территориальной сукцессии. Последствия для сельского хозяйства были катастрофическими, но не бывает худа без добра - это нашествие послужило толчком для начала уже давно назревших преобразований в организации производства хлопка. Оно также способствовало и переселению на север негритянских фермеров-арендаторов.
Случай с коробочным долгоносиком типичен. В нашем подвижном современном мире, где пространство и время сведены на нет, не только люди, но и все низшие организмы (включая микробы), кажется, как никогда, находятся в движении. Торговля, поступательно разрушая замкнутость, на которой основывался древний порядок в природе, усилила борьбу за существование и расширила арену этой борьбы в обитаемом мире. В результате этой борьбы появляется новое равновесие и новая система живой природы, новое биотическое основание для нового мирового общества.
Как отмечает Элтон, именно «колебания численности» и происходящие время от времени «сбои в механизме регуляции прироста численности животных» как правило прерывают установленный порядок вещей и, тем самым, начинают новый цикл изменений. По поводу этих колебаний численности Элтон пишет:
«Эти сбои в механизме регуляции прироста численности животных - обусловлены ли они (1) внутренними изменениями, вроде внезапно зазвонившего будильника или взорвавшегося парового котла, или же какими-либо факторами внешней среды - растительностью или чем-то в этом роде?»*.
* Ibid.
и добавляет:
«Оказывается, что эти сбои происходят и из-за внутренних, и из-за внешних факторов, но последние являются более существенными и обычно играют решающую роль».
Условия, воздействующие на передвижения и численность популяций и контролирующие их, в человеческих обществах более сложны, чем в растительных и животных сообществах, но обнаруживают и поразительные сходства с последними.
Коробочный долгоносик, перемещающийся из своей давным-давно обжитой среды на Мексиканское нагорье и на девственную территорию южных хлопковых плантаций и увеличивающий численность своей популяции соответственно новым территориям и их ресурсам, не так уж отличается от буров из Южноафриканской Капской провинции, прокладывающих себе путь на вельды (пастбища) Южноафриканского нагорья и заселяющих ее своими потомками в течение каких-нибудь ста лет.
Конкуренция в человеческом (как и в растительном или животном) сообществе стремится привести его к равновесию, восстановить его, когда в результате вторжения внешних факторов или в ходе обычной жизни сообщества это равновесие нарушается.
Таким образом, любой кризис, дающий начало периоду быстрых перемен и усиления конкуренции, в конце концов переходит в фазу более или менее стабильного равновесия и нового разделения труда. Таким способом конкуренция создает условие, при котором ее сменяет кооперация. Только когда конкуренция ослабевает (и только в той степени, в какой она ослабевает), можно говорить о существовании того типа порядка, который мы называем обществом. Короче говоря, с экологической точки зрения общество, постольку, поскольку оно является территориальным образованием, является просто областью, в которой биотическая конкуренция уменьшилась и борьба за существование приняла высшие, более сублимированные формы.
III. КОНКУРЕНЦИЯ, ГОСПОДСТВО Я ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
Существуют и другие, менее очевидные способы, посредством которых конкуренция контролирует отношения индивидов и видов в коммунальной среде. Два экологических принципа - господство и последовательность, - стремящиеся к установлению и поддержанию такого коммунального порядка, являются функциями конкуренции и зависят от нее.В каждом сообществе живых организмов всегда есть один (или более) господствующий вид. В растительном сообществе такое господство - результат борьбы различных видов за солнечный свет. В климате, благоприятствующем росту леса, господствующим видом, безусловно, будут деревья. В степях и прериях господствующими будут травы.
«В сообществе растений, где солнечный свет является основной потребностью, господствующим будет самое высокое из всех растений, которое сможет вытянуть свои энергетические ловушки поверх голов других. Второстепенное использование может заключаться в использовании тусклого света под сенью более высоких крон. Нечто похожее происходит в любом сообществе живых организмов на земле, в поле, как и в лесу, есть уровни растительности, адаптировавшиеся к существованию с менее интенсивным освещением, чем растения, стоящие на уровень выше. Как правило существует два или три таких уровня; в дубровнике, например, есть уровень мха, над ним - травы, и низкий кустарник, а затем - ничего, до самых крон; на пшеничном поле господствующей формой будет пшеница, а ниже, между ее стеблей, - сорняки. А в тропических лесах все пространство от пола до крыши поделено на зоны и населено»*.
* Н. G. Wells, Julian S. Huxley, and G. P. Wells. The Science of Life. New York, 1934. P. 968-969.
Но принцип господства действует в человеческих сообществах так же, как и в сообществах растений и животных. Так называемые естественные или функциональные области городского сообщества - например, трущоба, район доходных домов, центральные торговые ряды и центральный район банков - каждый из этих районов обязан своим существованием непосредственно фактору господства, и опосредованно - конкуренции.
Борьба производственных и коммерческих институтов за стратегическое местоположение определяет в перспективе и основные очертания городского сообщества. Распределение населения, равно, как и местоположение и границы занимаемых им областей расселения, определяются другой, схожей, но подчиненной системой сил.
Господствующим районом в любом сообществе является, как правило, тот, где самые высокие цены на землю. В любом большом городе есть обычно два таких положения с самыми высокими ценами на землю - это центральный торговый район и центральный район банков. Начиная с этих позиций цены на землю снижаются, сначала резко, а затем - постепенно, по мере приближения к периферии городского сообщества. Именно эти цены на землю определяют местоположение социальных институтов и деловых предприятий. И те, и другие взаимосвязаны в едином своеобразном территориальном комплексе, внутри которого они являются одновременно и конкурирующими, и взаимозависимыми образованиями.
По мере расширения городского сообщества в сторону пригородов давление профессиональных сообществ, деловых предприятий и разного рода социальных институтов, призванных обслуживать весь метрополитенский регион, постепенно усиливает их потребность пространства именно в центре. Таким образом, не только увеличение пригородной зоны, но и любое изменение в способах передвижения, делающее деловой центр города более доступным, увеличивает давление на центр. Отсюда это давление передается и распространяется, как показывает профиль цен на землю, на все остальные части города.
Тем самым принцип доминирования, действующий в границах, обусловленных территорией и другими естественными характеристиками местоположения, в целом определяет и общий социологический тип города и функциональное отношение различных частей города между собой.
Более того, доминирование, поскольку оно стремится стабилизировать биотическое или культурное сообщество, косвенным образом отвечает и за феномен наследственности.
Термин «наследственность» экологи используют для описания и обозначения той упорядоченной последовательности изменений, через которою проходит биотическое сообщество в своем развитии от начальной и сравнительно нестабильной к относительно устойчивой стадии или к высшей стадии. Суть в том, что не только отдельные растения или животные растут в среде сообщества, но и само сообщество - система отношений между видами - как бы вовлечено в упорядоченный процесс изменения и развития.
Тот факт, что в ходе этого развития сообщество проходит через целый ряд более или менее определенных стадий, придает этому развитию циклический характер, как раз и предполагаемый понятием «наследственность».
Объяснением цикличности изменений, составляющих наследственность, может служить тот факт, что на каждой стадии этого процесса достигается более или менее устойчивое равновесие, которое образуется в ходе последовательных изменений в условиях жизни и как результат этих изменений, а равновесие, достигнутое на ранних стадиях тем самым нарушается. В этом случае силы, доселе сдерживаемые равновесием, высвобождаются, конкуренция усиливается, изменение происходит относительно быстро до тех пор, пока не установится новое равновесие.
Наивысшая стадия развития сообщества соответствует поре зрелости в жизни индивида.
«В развивающемся отдельно взятом организме каждая стадия развития самореализуется и дает начало новой стадии: так, головастик отращивает щитовидную железу, которая предназначена для того, чтобы перейти из состояния головастика к состоянию лягушонка. То же самое происходит и в развивающемся сообществе организмов - каждая стадия изменяет свою среду обитания, поскольку изменяет и почти необратимо обогащает почву своего произрастания, тем самым фактически приближаясь к собственному завершению, и создает возможность для новых видов растений с большими потребностями в минеральных солях или каких-либо других свойствах почвы для своего процветания на ней. Соответственно, большие и более прихотливые растения постепенно вытесняют предшествующих им первопроходцев до тех пор, пока, наконец, не установится равновесие - предельная возможность для данного климата.»*
* Ibid., pp. 977-78.
Культурное сообщество развивается сходным с биотическим сообществом образом, однако, несколько сложнее. Изобретения, равно как и внезапные катастрофические изменения, видимо, имеют более важное значение для появления циклических изменений в культурном соообществе, нежели в биотическом. Но сам принцип появления изменений в сущности тот же. Во всяком случае, все, или большинство наиболее существенных процессов функционально связаны с конкуренцией и зависят от нее.
Конкуренция, которая на биотическом уровне функционирует в целях контроля и регулирования отношений между организмами, на социальном уровне стремится принять форму конфликта. На тесную связь между конкуренцией и конфликтом указывает тот факт, что война зачастую, если не всегда, имеет, или предполагает, своим источником экономическую конкуренцию, которая в этом случае принимает более сублимированную форму борьбы за власть и престиж. Социальная функция войны, с другой стороны, судя по всему, расширяет сферу, в пределах которой возможно сохранение мира.
IV. БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
Если, с одной стороны, давление населения дополняется изменениями локальной и более широкой среды так, что в одночасье нарушается биотический баланс и социальное равновесие, это, в то же время, усиливает и конкуренцию. А это косвенным образом приводит к новому, более сложному и одновременно территориально более экстенсивному разделению труда.Под влиянием усилившейся конкуренции и увеличившейся активности, предполагаемой этой конкуренцией, все индивиды и все виды, каждый по-своему, стремятся найти свою особую нишу в физической и жилой среде, где он сможет выжить и процветать в наибольшей степени, соответствующей его неизбежой зависимости от своих соседей.
Именно так устанавливается и поддерживается территориальная организация и биологическое разделение труда в среде сообщества. Это объясняет, хотя бы отчасти, тот факт, что биотическое сообщество одно время воспринималось как нечто вроде сверхорганизма, а затем и как экономическая организация для эксплуатации природных ресурсов своей среды обитания.
X. Дж. Уэллс со своими сотрудниками Джулианом Хаксли и Дж. П. Уэллсом в интересном обзоре под названием «Наука жизни» описывают экологию как «биологическую экономику», которая занимается в большей мере «балансами и взаимным давлением друг на друга видов, обитающих в одной среде»*.
* Ibid.
«Экология, - пишут они, - это распространение экономики на все живое». С другой стороны, наука экономики в традиционном смысле, несмотря на то, что она на целое столетие старше экологии, является просто отраслью более общей науки экологии, которая включает человека вместе со всеми живыми существами. В известном смысле то, что традиционно описывалось как экономика и строго привязывалось к деятельности человека, можно вполне описать и как экологию человека, как несколько лет назад Бэрроуз описал географию. Именно в этом смысле и используют этот термин Уэллс и его соавторы.
«Наука экономики - сначала ее называли политической экономией - на столетие старше экологии. Она была и остается наукой о социальном жизнеобеспечении, о потребностях и их удовлетворении, о труде и богатстве. Она стремится прояснить отношения производителя, торговца, потребителя в человеческом сообществе и показать, как держится вся система. Экология расширяет это исследование до всеобщего изучения отдачи и получения, усилия, накопления и потребления во всех уголках жизни. Экономика, поэтому, есть лишь экология человека, это узкое и специальное изучение в рамках экологии весьма своеобразного сообщества, в котором мы живем. Она могла бы, стать лучшей и более ясной наукой, если бы она начиналась с биологических основ»*.
* Н. Н. Barrows. Geography as Human Ecology // Annals Association American Geographers, 13 (1923): 1-14. See H. G. Wells, et al., pp. 961 - 962.
Поскольку экология человека не может быть одновременно и географией, и экономикой, можно принять в качестве рабочей гипотезы предположение о том, что она не является ни тем, ни другим, но представляет собой нечто независимое от обеих. Но и тогда причины отождествления экологии с географией, с одной сторны, и с экономикой - с другой, достаточно очевидны.
С точки зрения географии растение, животное и популяция людей вместе с ее обиталищем и другими свидетельствами человеческого пребывания на земле являются лишь частью ландшафта, к детальному описанию и представлению которого и стремится географ.
С другой стороны, экология (биологическая экономика), даже когда она включает в себя некую неосознанную кооперацию и естественное, спонтанное и нерациональное разделение труда, представляет собой нечто отличное от коммерческой экономики, нечто не укладывающееся в рамки торговли на рынке. Коммерция, как отметил где-то Зим-мель, - одно из более поздних и наиболее сложных социальных отношений, которые усвоили люди. Человек - это единственное животное, которое торгуется и обменивается.
Экология и экология человека, если она не отождествляется с экономикой на специфически человеческом и культурном уровне, отличается все же и от статического порядка, обнаруживаемого социальным географом, когда тот описывает культурный ландшафт.
Сообщество, описываемое географом отличается от сообщества описываемого экологом, хотя бы по той причине, что закрытая система с сетью коммуникаций, распространенная человеком по всей земле - это не то же, что и «ткань жизни», связывающая живые существа по всему свету жизненными узами.
V. СИМБИОЗ И ОБЩЕСТВО
Экология человека, не отождествляемая ни с экономикой, ни с географией, как таковая отличается во многих отношениях и от экологии растений и животных. Взаимоотношения между людьми и взаимодействие человека со средой обитания сопоставимы, но не тождественны отношениям других форм жизни, живущих совместно и осуществляющих нечто вроде «биологической экономии» в пределах общей среды обитания.Прежде всего, человек не столь непосредственно зависит от своего физического окружения, как другие животные. Благодаря существующему всеобщему разделению труда, отношение человека к его физическому окружению опосредовано вторжением другого человека. Обмен товарами и услугами способствовал его освобождению от зависимости от его локального окружения.
Более того, человек, благодаря изобретениям и различного рода техническим изыскам развил невероятную способность преобразовывать не только свое непосредственное окружение и реагировать на него, но осваивать свой мир. Наконец, человек воздвиг на основе биотического сообщества институциональную структуру, укорененную в традиции и обычае.
Структура, там, где она существует, сопротивляется изменению, по меньшей мере - изменению, навязываемому извне; тогда как внутренние изменения она, вероятно, стремится накапливать*. В сообществах растений и животных структура предопределена биологически и, в той мере, в какой вообще существует разделение труда, она имеет физиологические и инстинктивные основания. Одним из самых любопытных примеров этого факта могут служить социальные насекомые, а одной из причин изучения их повадок, как отмечает Уилер, является то, что они показывают, до какой степени социальная организация может быть развита начисто физиологическом и инстинктивном основании; то же самое можно отнести и к людям, находящимся в естественной семье, в отличие от институциональной**.
* Это, очевидно, является еще одним свидетельством той органической природы взаимодействий организмов в биосфере, которую отмечают Артур Томпсон и другие. Она указывает на тот способ, каким конкуренция опо-средует влияния извне, приспосабливая вновь и вновь отношения внутри сообщества. В этом случае «внутри» совпадает с траекторией процесса конкуренции, постольку, поскольку результаты этого процесса существенны и очевидны. Сравни также с зиммелевским определением общества и социальной группы в пространстве и времени, приведенном во «Введении в науку социологии» Парка и Бэрджесса (2-е изд.), ее. 348-356.
** William Morton Wheeler. Social life among the Insects. - Lowell Institute Lectures, March, 1922. - pp. 3-18.
Однако в случае человеческого общества эта структура сообщества подкрепляется обычаем и приобретает институциональный характер. В человеческих обществах, в отличие от сообществ животных, конкуренция и индивидуальная свобода ограничиваются обычаем и консенсусом на каждом уровне, следующим за биотическим.
Случайность этого более или менее произвольного контроля, который обычай и консенсус налагают на естественный социальный порядок, усложняет социальный процесс, но не меняет его существенно, а если и меняет, то результаты биотической конкуренции проявят себя в последующем социальном порядке и в ходе последующих событий.
Таким образом, можно считать, что человеческое общество, в отличие от сообществ растений и животных, организовано на двух уровнях - биотическом и культурном. Есть симбиотическое общество, основанное на конкуренции, и культурное общество, основанное на коммуникации и консенсусе. По сути дела эти два общества являются лишь разными аспектами одного общества, они, несмотря на все перипетии и изменения, остаются, тем не менее, в определенной зависимости друг от друга. Культурная над-структура основывается на симбиотической подструктуре, а возникающие силы, которые проявляются на биотическом уровне как передвижения и действия, на высшем, социальном, уровне принимают более утонченные, сублимированные формы.
Однако, взаимоотношения людей гораздо более разнообразны и сложны, они не сводятся к этой дихотомии - симбиотического и культурного. Этот факт находит подтверждение в самых различных системах человеческих взаимоотношений, которые выступают предметом специальных социальных наук. Поэтому следует иметь в виду, что человеческое общество, в его зрелом и более рациональном виде, представляет собой не только экологический, но и экономический, политический и моральный порядки. Социальные науки состоят не только из социальной географии и экологии, но из экономики, политических наук и культурной антропологии.
Примечательно, что эти различного рода социальные порядки организованы в своего рода иерархию. Можно сказать, что они образуют пирамиду, основанием которой служит экологический порядок, а вершиной - моральный. На каждом из последовательно расположенных уровней - на экологическом, экономическом, политическом и моральном - индивид оказывается полнее инкорпорированным в социальный порядок, более подчиненным ему, нежели на предшествующем уровне.
Общество повсюду является организацией контроля. Его функция состоит в том, чтобы организовывать, интегрировать и направлять усилия составляющих его индивидов. Наверное, можно сказать и так, что функцией общества везде является сдерживание конкуренции и, тем самым, установление более эффективной кооперации органических составляющих этого общества.
Конкуренция на биотическом уровне, как это наблюдается в растительных и животных сообществах, представляется относительно неограниченной. Общество, по факту своего существования, является анархичным и свободным. На культурном уровне эта свобода индивида конкурировать сдерживается конвенциями, пониманием и законом. Индивид более свободен на экономическом уровне, чем на политическом, и более свободен на политическом, нежели на моральном.
По мере развития общества контроль все более распространяется и усиливается, свободная коммерческая деятельность индивидов ограничивается, если не законом, то тем, что Джильберт Мюррей называет «нормальным ожиданием человечества». Нравы - это лишь то, чего люди привыкли ожидать в определенного рода ситуации.
Экология человека, в той мере, в какой она соотносится с социальным порядком, основанным более на конкуренции, нежели на согласии, идентична, по крайней мере в принципе, экологии растений и животных. Проблемы, с которыми обычно имеет дело экология растений и животных, - это, по сути, проблемы популяции. Общество, в представлениях экологов, - это популяция оседлая и ограниченная местом своего обитания. Ее индивидуальные составляющие связаны между собой свободной и естественной экономикой, основывающейся на естественном разделении труда. Такое общество территориально организованно, и связи, скрепляющие его, скорее физические и жизненные, нежели традиционные и моральные.
Экология человека, однако, должна считаться с тем фактом, что в человеческом обществе конкуренция ограничивается обычаем и культурой. Культурная надструктура довлеет как направляющая и контролирующая инстанция над биотической субструктурой.
Если человеческое сообщество свести к его элементам, то можно его себе представить как состоящее из населения и культуры, последняя, при этом, включает в себя 1) совокупность обычаев и верований, 2) соответствующую первой совокупность артефактов и технологических изобретений.
К этим трем элементам, или факторам, - населению, артефактам (технологической культуре) и обычаям и верованиям (нематериальной культуре) - составляющим социальный комплекс, следует, наверное, добавить и четвертый, а именно - природные ресурсы среды обитания.
Именно взаимодействие этих четырех факторов - населения, артефактов (технологической культуры), обычаев и верований (нематериальной культуры) и природных ресурсов - поддерживает одновременно и биотический баланс, и социальное равновесие всегда и везде, где они существуют.
Изменения, которые интересны для экологии, - это движение населения и артефактов (товаров), это изменения в местоположении и занятии - фактически любое изменение, которое влияет на сложившееся разделение труда или отношение населения к земле.
Экология человека по сути своей является попыткой исследовать процесс, в котором биотический баланс и социальное равновесие 1) сохраняются, как только они установлены и 2) процесс перехода от одного относительно стабильного порядка к другому, как только биотический баланс и социальное равновесие нарушены.
ПРИНЦИПЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТЕКСТА
Основную часть книги образуют переводы работ современных теоретиков.Библиографическое оформление этих переводов было по возможности унифицировано. Списки используемой литературы размещаются в конце каждой статьи в алфавитном порядке. В ряде случаев они дополнены библиографическими описаниями русских переводов цитируемых произведений. В переводах классических сочинений библиографическое оформление соответствует оригиналу.
В наиболее сложных теоретических работах необходимые для понимания по-русски, но отсутствующие в оригинале слова или фрагменты фраз заключены в квадратные скобки.
Отточия в квадратных скобках означают незначительные сокращения. В угловые скобки заключены слова на языке оригинала, если перевод предполагает возможные разночтения или нуждается в соответствующем уточнении.
ИСТОЧНИКИ ПУБЛИКАЦИЙ
Первоначальный замысел этой книги был связан с публикацией под одной обложкой ряда социологических работ, опубликованных в русских переводах в альманахе THESIS. В конечном счете было отобрано только три из них, вошедших в выпуск № 4 за 1994 г. («Научный метод»):Р. Коллинз. Социология: наука или антинаука? (CollinsR. Sociology: Pro-science or Antiscience? // American Sociological Review, 1989, vol. 54 (February). P. 124-139), THESIS. № 4. C. 71-96; Г. Терборн. Принадлежность к культуре, местоположение в структуре и человеческая деятельность: объяснение в социологии и социальной науке (Goran Therborn. Cultural Belonging, Structural Location and Human Action. Explanation in Sociology and in Social Science //Acta Sociologica. 1991. Vol. 34. No 3. P. 177-192). THESIS, № 4. C. 97-118; Дж. Тернер. Аналитическое теоретизирование (Jonathan Turner. Analytical Theorizing// Social Theory Today / Ed. by Giddens A., Turner J. Stanford: Polity Press, 1987. P. 156-194). THESIS. № 4. C. 119-157. Для данного издания эти переводы были заново сверены и отредактированы. Печатаются с разрешения издателей THESIS'а.
РаботаМ Арчер «Реализм и морфогенез» (Realism and Morphogenesis) была получена в рукописи в 1994 г., еще до выхода книги: Archer Margaret S. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995, в которой она должна была стать пятой главой. В русском переводе частично опубликована в «Социологическом журнале». 1994. № 4. С. 50-68. Для данного издания редактором были частично переработаны, а частично переведены заново некоторые фрагменты, выпущенные в первой публикации. Весь перевод был сверен и основательно отредактирован.
Статья Г. Вагнера «Социология: к вопросу о единстве дисциплины» (Gerhard Wagner. Soziologie: Uberlegungen zur Einheit des Faches. Ms. 1995) была написана по моей просьбе и предоставлена в рукописи. В русском переводе впервые опубликована в «Социологическом журнале», 1996, № ѕ. С. 60-83 Для настоящего издания перевод заново сверен.
Статья Ф. Макнотена и Дж. Урри «Социология природы» (PhilMacnagh-ten, John Urry. A Sociology of Nature) была предоставлена в рукописи по моей просьбе в 1995 г. специально для данного издания. Перевод публикуется впервые.
Отдельная история связана с публикацией работы Н. Лумана «Теория общества» (Nik/as Luhmann. Theorie der Gesellschaft. Fassung San Foca' 89). Рукопись я получил от Лумана в феврале 1991 г. Он отнюдь не радовался возможной публикации на русском языке, потому что считал свое сочинение еще далеко не доработанном. Луман много раз перерабатывал рукопись, использовал как основу для курсов лекций, читанных, прежде всего, в Билефельде, но также и в других университетах; в частности, он работал над ней в Италии (отсюда подзаголовок: «Вариант San Foca' 89»), с которой вообще связывал в это время много не сбывшихся позже планов. Поддавшись на мои уговоры, он просил только предуведомить читателя, что это далеко еще не зрелый плод его труда. Однако, когда в 1997 г. вышла монументальная монография Лумана «Общество общества» (Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp), я сравнил тексты первой главы имеющейся у меня рукописи и окончательного варианта. Мне показалось, что выбранные для перевода параграфы если и отличаются от книжного текста, то очень незначительно. Таким образом, не нарушая волю автора, я все-таки могу уверить читателя в том, что он держит в руках отнюдь не полуфабрикат теории. К сожалению, известить Лумана о готовящейся публикации я уже не смог. Он скончался в ноябре 1998 г.
Статья Гая Оукса «Прямой разговор об эксцентричной теории» (Guy Oakes. Straight Thinkinh about Queer Theorizing) была предоставлена в рукописи по моей просьбе. Перевод публикуется впервые.
Работу над переводом «Философии денег» Георга Зиммеля я начал очень давно, перспективы ее завершения далеко не ясны. Между тем, интерес именно к этой книге Зиммеля заметно растет. Не имея возможности удовлетворить ожиданиям коллег полным текстом, я все-таки надеюсь, что этот небольшой фрагмент (представляющий собой две трети первой главы книги) окажется небесполезным. Перевод сделан по изданию: Georg Simmel. Philosophic des Geldes. Zweite, vermehrte Auflage. Leipzig: Verlag von Duncker und Humblot, 1907. S. in-ГХ, 3-61. Сверен по изданию: SimmelG. Philosophic des Geldes / Hrsgg. v. David P. Frisby und Klaus Christian Kohnke. Ge-org Simmel Gesamtausgabe / Hrsgg. v. Otthein Rammstedt. Bd. 6. Frankfurt a.M.: Suhrlamp, 1989. S. 9-14, 23-92.
Перевод статьи Робрета Парка «Экология человека» был выполнен специально для настоящего издания и публикуется впервые. Перевод сделан по изданию: Robert E. Park. Human Ecology // Rober E. Park. On Social Control and Collective Behavior. Selected Papers / Edited and with an Introduction by Ralph H. Turner. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1967. P. 69-84.
А. Филиппов
ОБ АВТОРАХ
Маргарет Арчер (Margaret Archer) - профессор университета Уорика (Warwick), Великобритания. Основные публикации: Social Origins of Educational Systems. London: Sage, 1979; Culture and Agency. The Place of Culture in Social Theory. Cambridge: Cambridge University Press, 1988. Realist Social Theory: The Morphogenetic Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
Герхард Вагнер (Gerhard Wagner) - приват-доцент Билефельдского университета (Bielefeld), ФРГ. Основные публикации: Geltung und normativer Zwang. Freiburg / Milnchen: Karl Alber, 1987; Gesellschaftstheorie als politische Theologie? Zur Kritik und Uberwindung der Theorien normativer Integration. Berlin: Duncker & Humblot, 1993.
Рэндал Коллинз (Randall Collins) - профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: Collins R. Sociology since Midcentury. Essays in Theory Cumulation. N.Y.: Academic Press, 1981; Theoretical Sociology. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich, 1988.
НикласЛуман (NiklasLuhmann) (1927-1998) - в 1968-1993 гг. - профессор Билефельдского университета, ФРГ. Основные публикации: Sozio-logische Aufklarung. Bde. 1-6. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1970-1995; Gesellschaftstruktur und Semantik. Bde. 1-4. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1980- 1995; Soziale Systeme. GrundriB einer allgemeinen Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1984 и др.
Фил Макнотен (PhilMacnaghten) - сотрудник Ланкаширского Центра исследований изменений окружающей среды, Ланкастерский университет (Lancaster), Великобритания. Основная публикация: Contested Natures (соавтор - J. Urry). London: SAGE, 1998.
Гай Оукс (Guy Oakes) - профессор Монмутского (Monmouth) университета, США. Переводчик сочинений Зиммеля и Риккерта. Основные публикации, помимо переводов: Weber and Rickert. Concept Formation in the Cultural Sciences. Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1988; The Imaginary War: Civil Defense and American cold war culture. N.Y.: Oxford University Press, 1994; The Soul of the Salesman : The Moral Ethos of Personal Sales. Atlantic Highlands, N.J. Humanities Press International, 1990.
Гёран Терборн (Goran Therborn) - профессор Уппсальского (Uppsala) университета, Швеция. Основные сочинения: The Ideology of Power and the Power of Ideology. London: NLB, 1980; What Does the Ruling Class Do When It Rules? London: Verso, 1980; European Modernity and Beyond: the Trajectory of European Societies, 1945-2000. London: Sage, 1995
Джонатан Тернер (Jonathan Turner) - Профессор Калифорнийского университета, Риверсайд (Riverside), США. Основные публикации: The Body and Society. Oxford: Blackwell, 1986; A Theory of Social Interaction. Stanford, Ca.: Stanford University Press, 1988; The Strcuture of Sociological Theory. 5th ed. Belmont, Ca.: Wadsworth, 1991.
Джон Урри (John Urry) - профессор Ланкастерского университета, Великобритания. Основные публикации: The Tourist Gaze: Leisure and Travel in Contemporary Society. London: Sage, 1990; Economies of Signs and Space (соавтор - S. Lash). London: Sage, 1994. Consuming Places. London: Routledge, 1995.
Памяти Никласа Лумана
Никлас ЛУМАН 8.12.1927-6.11.1999
Скончался Никлас Луман. Социологов такого масштаба после второй мировой войны было совсем немного, и ничто не предвещает появления в ближайшем будущем фигуры даже не равновеликой, а хотя бы только сопоставимой с ним по дарованию и продуктивности.
Странные чувства вызывает известие о его кончине. Помимо обычных, человеческих - сожаления и горечи - еще и удивление. Кажется почти невероятным, что остановился поток публикаций, что каждый новый год не принесет одну-две новые книги Лумана. За удивлением следует - как бы кощунственно это ни звучало - своеобразное удовлетворение, вроде того, какое высказала Марина Цветаева, узнав что Волошин умер в полдень - «в свой час». Последняя книга Лумана, более чем тысячестраничная монография «Общество общества»*, так и выглядит - как последняя книга, монументальный труд, итог грандиозного проекта, дело всей жизни. Считать ли ее вершиной творчества или отчаянной неудачей (оценки книги сильно разнятся), все равно несомненно, что это - завершение, после которого могло следовать лишь новое, неожиданное начало. Огромный труд исчерпал видимые возможности теории и жизненные силы теоретика. Структурная связка аутопойесиса жизни и аутопойесиса теории была столь совершенна, что завершение труда и завершение жизни не могли не совпасть.
* Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997.
Писать о Лумане безотносительно к его трудам, даже по столь скорбному поводу, кажется, почти невозможно. Но труды остаются с нами - оборвалась жизнь: что мы скажем о ней? То же, что и о любом профессоре: диплом - диссертация - профессура? Случай Лумана, впрочем, несколько особый: то, что у других ученых растягивается на годы, у него спрессовано в наикратчайший период, которому предшествует необыкновенно затянувшееся начало и за которым уже не следует никаких изменений: в 1968 г. Луман получает профессуру в новом, только что основанном Биле-фельдском университете и остается там четверть века до выхода на пенсию. Профессуре предшествует (в 1966 году) защита диссертаций - в высшей степени необычная, а по нынешним представлениям в Германии попросту невозможная: обе диссертации (Promotion, дающая докторскую степень, и Habilitation, открывающая путь к профессуре) защищаются с перерывом всего в полгода. В том, что это удалось, заслуга не только Лумана, но и виднейшего немецкого социолога X. Шельски, основателя Билефельд-ского университета. Шельски замечает Лумана еще раньше - точная дата их знакомства мне неизвестна, но то обстоятельство, что Луман еще до получения ученых степеней становится (в 1965 году) руководителем подразделения Центра социальных исследований в Дортмунде, который возглавляет Шельски, достаточно примечательно. А что до этого? Сотрудничество с Высшей школой наук управления в Шпейере, где в это время профессорствует знаменитый Арнольд Гелен, старший друг и коллега Шельски, в соавторстве с которым он, в частности, написал первый учебник по социологии в послевоенной Германии. Установить, откуда тянется ниточка знакомств и важных связей, невозможно: краткие биографии Лумана только сообщают нам, что в Шпейере он оказывается через год после возвращения из США, где в 1960-61 гг. учится (слово сомнительное: не студентом же он туда поехал! возможно, мы бы назвали это стажировкой) у Толкота Парсонса. В это время Луман уже зрелый человек, за его плечами не только учеба на юридическом факультете Фрайбургского университета, но и почти десяток лет ответственной чиновничьей работы (к 1962 г. он занимает пост старшего правительственного советника в министерстве культов земли Нижняя Саксония). Собственно, как чиновник он и устроил себе стажировку: «Я сидел и оформлял документы для тех, кто собирался учиться в Америке, - рассказывал он впоследствии. - Мне пришло в голову, что я могу сделать то же и для себя». Все просто, если только не принимать в расчет, что преуспевающий чиновник, профессиональный юрист вдруг круто меняет всю свою жизнь. Что должно было произойти, какие предпосылки определили этот выбор? Что там в прошлом, до этого?
Он родился в семье пивовара в Люнебурге, родном городе Генриха Гейне. Впрочем, о последнем обстоятельстве Луман не знал*. Гейне и так-то не очень почитаем в Германии, но тут другое: все сознательное детство Лумана приходится на эпоху нацизма, правда, он посещает классическую гимназию и даже на старости лет не отказывает себе в удовольствии проспрягать для куда менее образованных современных студентов какой-нибудь греческий глагол. Но он не принадлежит по происхождению к образованному бюргерству. Как и многие послевоенные социологи, он чуть ли не первый в своем роду, кто получает университетское образование.
* Я как-то случайно выяснил это в разговоре.
Однако, до университета еще надо просто дожить, хотя, в отличие от Гелена и Шельски, воевавших на Восточном фронте, Лумана война, так сказать, задевает только краем. Шельски в середине 70-х напишет: «Вообще-то меня должны были закопать в Восточной Пруссии». Луман же, которого в 1944 г. забирают в армию, не дав закончить гимназию, служит помощником авиационного техника в самой Германии, остро ощущает абсурд происходящего и в 1945 г., подобно многим сверстникам, ищет только возможности сдаться в плен американцам или англичанам и уцелеть. В конце концов, ему это удается.
Он заканчивает учебу в университете в год образования обеих Германий - Федеративной и Демократической; и всего только за два с небольшим года до выхода на пенсию успевает сказать прощальное слово той старой, «неполной» Федеративной Республике, в которой прошла вся его взрослая жизнь. Луман - социолог ФРГ в самом прямом смысле этого слова. И вместе с тем его интерес к социологии вообще довольно типичен для людей его поколения и его круга. Типичен-то он типичен, но было ли его решение необходимым? Сам Луман, наверное, не удержался бы здесь от ехидных замечаний. Одно из основных понятий его концепции - «Kontingenz», что можно перевести как «ненеобходимость». В мире нет ничего прочного, субстанциального, неизменного. Существование каждого человека контингентно хотя бы потому, что само его появление на свет стало следствием стечения множества обстоятельств.
Какое-то предощущение своего призвания, у него, видимо, сложилось все-таки очень рано. Известно, что Луман уже в 1952- 53 гг. начинает создавать свои знаменитые картотечные ящики. Именно создавать, потому что ничего похожего не было ни раньше, ни позже. Правда, эта первоначальная картотека, видимо, еще не похожа на позднейшую, в ней больше сходства с обычными подборками карточек, которые ведет для себя любой ученый. На карточках - прежде всего цитаты. Картотека служит упорядочиванию чужих идей. «Настоящая» картотека Лумана появляется позже. Своеобразие ее в том, что она служит прежде всего организации идей самого теоретика, а не чьих-то еще. Представьте себе компьютер, в котором каждый текстовый файл содержит лишь небольшое суждение или группу суждений (иногда - вместе с отсылками к литературе) и может находиться лишь на строго определенном месте, в директории (папке), субдиректории и т. п., в соответствии со своим содержанием. При этом он, с одной стороны, подобно гипертексту, содержит «линки», отсылающие к другим файлам и директориям, а с другой, - сам может выступать не только как файл, но и как директория. Изначально количество директорий невелико и хорошо упорядочено, однако затем они начинают наполняться файлами (которые тоже становятся - или не становятся - директориями), члениться все дальше и дальше; здесь образуются новые и новые пересечения и отсылки. Вот это и есть идея картотеки Лумана. Поначалу теория организована только в самом общем виде. С течением времени теоретику приходит в голову больше идей, некоторые старые идеи, казавшиеся лишь элементом рассуждения, влекут за собой целые серии новых рассуждений, каждое суждение, записанное на карточке, снабжено четкой системой отсылок, позволяющей в считанные минуты извлекать и затем снова ставить на место все карточки - повторим еще раз: с собственными суждениями теоретика! - которые имеют отношение к предмету его работы в данный момент. Текст для публикации, по идее, образуется, в основном, из множества мелких фрагментов, работа над которыми занимает основное время. Это компьютер без компьютера, это рабочий инструмент человека, еще в начале 90-х гг. предпочитавшего всем новинкам оргтехники электрическую пишущую машинку. Сама идея не проста, но ее реализация бесконечно сложна. Сложность возникает из-за все увеличивающегося количества карточек и связей между ними. Картотека воплощает одну из основных категорий Лумана - «сложность», «комплексность» («Komplexitat»). Сложна картотека, сложна теория, сложен мир, упростить который пытается сложная теория. Теория и ее картотека, однако, суть составляющие мира, они одновременно и уменьшают («редуцируют») и увеличивают его сложность.
Как можно было додуматься до этого, самое позднее, в конце 50-х? Как можно было, додумавшись, воплотить замысел хотя бы даже в первоначальной форме? Как можно было поддерживать, развивать этот замысел на протяжении почти четырех десятилетий?
Кажется, ответ есть только на последний вопрос. К середине 60-х годов у Лумана, можно сказать, кончается биография. «Биографии, - говорит он, - суть в большей мере цепочки случайностей, которые организуются в нечто такое, что затем постепенно становится менее подвижным». Биография Лумана почти неподвижна с конца 60-х гг. Мы узнаем из посвящения к книге «Функция религии»*, что в 1977 г. скончалась его жена. Вдовец с тремя детьми так и не женится больше, и не один дружелюбный коллега в Билефельде полусочувственно, а скорее осуждающе расскажет вам, что детьми Луман совсем не занимается, предоставив их попечению домработницы. Он живет в Орлингхаузене**, городке, где когда-то был укоренен род Макса Вебера по отцовской линии. Дом Лумана стоит на улице, названной в честь жены Макса, Марианны. На большом участке земли мог бы поместиться еще один дом - так и было задумано, но не состоялось, семейство не разрастается.
* Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977.
** Oerlinghausen, дифтонг в начале произносится как «ё» в имени Гёте.
Луман, подобно Максу Веберу, не хлопочет за своих учеников, не сколачивает школы, больше похожей на мафиозный клан, как это сплошь и рядом случается в современной науке*. Он агрессивен в теории и любезен в жизни. Его атакуют, его идеи вызывают раздражение. Ему указывают на слабости теории, на ошибки в аргументации, на то, что «редукция комплексности» - это переряженное понятие «разгрузки» философской антропологии Гелена. Луман постоянно отбивается, он вступает в жесткую полемику с Хабермасом**, задавшую стиль теоретическим дискуссиям чуть ли не на два десятилетия. Луман постоянно совершенствует, меняет, развивает теорию. Оппоненты выдыхаются. Они не поспевают за Луманом: только что он говорил об открытых системах в духе Берталанфи - и вдруг нечувствительно усваивает феноменологию позднего Гуссерля; только что его феноменологические штудии были подвергнуты критике, а он уже говорит о закрытых системах, аутопойесисе Матураны и Варелы и логике Дж. Спенсера Брауна. Но Луман не ограничивается исследованием философских оснований теории. Он, напротив, не оставляет без внимания ни одной области современной жизни. Он поражает эрудицией. Его называют «Арно Шмидт*** социологии», раздражаясь, указывают на ошибки в цитировании, на сомнительность интерпретаций... Луман кротко замечает, что у него нет памяти на тексты и филологического чутья - и продолжает писать. Оппоненты, в который раз, отступают. Вырабатывается специфический стиль Лумана: энергичный, сжатый, ироничный, предполагающий безумное количество ссылок на литературу, иногда весьма неожиданных. Луман создает своего читателя, потратившего немало сил на овладение его специфической терминологией и убедившегося на практике, что на этом языке профессионалу легко говорить. Луман гипнотизирует читателя, он заметает следы, не давая увидеть подлинные идейные истоки своих рассуждений, он пускает в ход и эрудицию, и самую изощренную логику, и - безупречный прием - намеки на то, что подлинно современный человек должен мыслить именно так, все остальное - предрассудки и отсталость. Постепенно он становится всемирно известен. Его переводят все больше и больше, не всегда, впрочем удачно. «Я говорил ему, - сетует крупный исследователь Вебера американский социолог Г. Рот, - что так писать для американцев нельзя; это перевести невозможно, и читать такие тексты они не будут». Луман не отступает - в конце концов, многие его сочинения находят своего читателя и на английском языке.
* Современные последователи Лумана, безусловно, образуют плотную и основательно организованную, в частности, в Билефельде группу. Однако тенденции к ее оформлению определились сравнительно поздно, всего за несколько лет до выхода Лумана на пенсию.
** См.: Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnolo-gie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1971.
*** Немецкий писатель, знаменитый своей филологической эрудицией.
В 1988 г. Луман получает премию имени Гегеля города Штуттгарта и... и все. Биограф умолкает, сказать больше нечего. Еще десять лет - и «билефельдский мастер» умолкает навсегда. Мировая социология не начала говорить на языке его теории, но и пройти мимо нее трудно. Ближайшие десятилетия покажут, в должной ли мере передалась его сочинениям энергетика его мысли. Во всяком случае, оставляя в стороне маловразумительный вопрос об «истинности» или «неистинности» столь обширной, сложной, претенциозной теории, мы рискнем высказаться о Лумане нарочито архаически, вопреки букве и духу его сочинений:
Он подлинно служил науке, он отдал ей всю жизнь, он пожертвовал для нее очень многим, он умер, свершив свой труд.
 Экономика: Общество - Социология
Экономика: Общество - Социология
- Экономика и общество
- Экономические исследования
- Экономика и общество в России
- Экономика социальная
- Человек и социальная экономика
- Социология
- Государство и социология
- История социологии
- Практическая социология
- Социология в России
ОБ АВТОРАХ
Памяти Никласа Лумана
Никлас ЛУМАН 8.12.1927-6.11.1999Скончался Никлас Луман. Социологов такого масштаба после второй мировой войны было совсем немного, и ничто не предвещает появления в ближайшем будущем фигуры даже не равновеликой, а хотя бы только сопоставимой с ним по дарованию и продуктивности.
Странные чувства вызывает известие о его кончине. Помимо обычных, человеческих - сожаления и горечи - еще и удивление. Кажется почти невероятным, что остановился поток публикаций, что каждый новый год не принесет одну-две новые книги Лумана. За удивлением следует - как бы кощунственно это ни звучало - своеобразное удовлетворение, вроде того, какое высказала Марина Цветаева, узнав что Волошин умер в полдень - «в свой час». Последняя книга Лумана, более чем тысячестраничная монография «Общество общества»*, так и выглядит - как последняя книга, монументальный труд, итог грандиозного проекта, дело всей жизни. Считать ли ее вершиной творчества или отчаянной неудачей (оценки книги сильно разнятся), все равно несомненно, что это - завершение, после которого могло следовать лишь новое, неожиданное начало. Огромный труд исчерпал видимые возможности теории и жизненные силы теоретика. Структурная связка аутопойесиса жизни и аутопойесиса теории была столь совершенна, что завершение труда и завершение жизни не могли не совпасть.
* Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1997.
Писать о Лумане безотносительно к его трудам, даже по столь скорбному поводу, кажется, почти невозможно. Но труды остаются с нами - оборвалась жизнь: что мы скажем о ней? То же, что и о любом профессоре: диплом - диссертация - профессура? Случай Лумана, впрочем, несколько особый: то, что у других ученых растягивается на годы, у него спрессовано в наикратчайший период, которому предшествует необыкновенно затянувшееся начало и за которым уже не следует никаких изменений: в 1968 г. Луман получает профессуру в новом, только что основанном Биле-фельдском университете и остается там четверть века до выхода на пенсию. Профессуре предшествует (в 1966 году) защита диссертаций - в высшей степени необычная, а по нынешним представлениям в Германии попросту невозможная: обе диссертации (Promotion, дающая докторскую степень, и Habilitation, открывающая путь к профессуре) защищаются с перерывом всего в полгода. В том, что это удалось, заслуга не только Лумана, но и виднейшего немецкого социолога X. Шельски, основателя Билефельд-ского университета. Шельски замечает Лумана еще раньше - точная дата их знакомства мне неизвестна, но то обстоятельство, что Луман еще до получения ученых степеней становится (в 1965 году) руководителем подразделения Центра социальных исследований в Дортмунде, который возглавляет Шельски, достаточно примечательно. А что до этого? Сотрудничество с Высшей школой наук управления в Шпейере, где в это время профессорствует знаменитый Арнольд Гелен, старший друг и коллега Шельски, в соавторстве с которым он, в частности, написал первый учебник по социологии в послевоенной Германии. Установить, откуда тянется ниточка знакомств и важных связей, невозможно: краткие биографии Лумана только сообщают нам, что в Шпейере он оказывается через год после возвращения из США, где в 1960-61 гг. учится (слово сомнительное: не студентом же он туда поехал! возможно, мы бы назвали это стажировкой) у Толкота Парсонса. В это время Луман уже зрелый человек, за его плечами не только учеба на юридическом факультете Фрайбургского университета, но и почти десяток лет ответственной чиновничьей работы (к 1962 г. он занимает пост старшего правительственного советника в министерстве культов земли Нижняя Саксония). Собственно, как чиновник он и устроил себе стажировку: «Я сидел и оформлял документы для тех, кто собирался учиться в Америке, - рассказывал он впоследствии. - Мне пришло в голову, что я могу сделать то же и для себя». Все просто, если только не принимать в расчет, что преуспевающий чиновник, профессиональный юрист вдруг круто меняет всю свою жизнь. Что должно было произойти, какие предпосылки определили этот выбор? Что там в прошлом, до этого?
Он родился в семье пивовара в Люнебурге, родном городе Генриха Гейне. Впрочем, о последнем обстоятельстве Луман не знал*. Гейне и так-то не очень почитаем в Германии, но тут другое: все сознательное детство Лумана приходится на эпоху нацизма, правда, он посещает классическую гимназию и даже на старости лет не отказывает себе в удовольствии проспрягать для куда менее образованных современных студентов какой-нибудь греческий глагол. Но он не принадлежит по происхождению к образованному бюргерству. Как и многие послевоенные социологи, он чуть ли не первый в своем роду, кто получает университетское образование.
* Я как-то случайно выяснил это в разговоре.
Однако, до университета еще надо просто дожить, хотя, в отличие от Гелена и Шельски, воевавших на Восточном фронте, Лумана война, так сказать, задевает только краем. Шельски в середине 70-х напишет: «Вообще-то меня должны были закопать в Восточной Пруссии». Луман же, которого в 1944 г. забирают в армию, не дав закончить гимназию, служит помощником авиационного техника в самой Германии, остро ощущает абсурд происходящего и в 1945 г., подобно многим сверстникам, ищет только возможности сдаться в плен американцам или англичанам и уцелеть. В конце концов, ему это удается.
Он заканчивает учебу в университете в год образования обеих Германий - Федеративной и Демократической; и всего только за два с небольшим года до выхода на пенсию успевает сказать прощальное слово той старой, «неполной» Федеративной Республике, в которой прошла вся его взрослая жизнь. Луман - социолог ФРГ в самом прямом смысле этого слова. И вместе с тем его интерес к социологии вообще довольно типичен для людей его поколения и его круга. Типичен-то он типичен, но было ли его решение необходимым? Сам Луман, наверное, не удержался бы здесь от ехидных замечаний. Одно из основных понятий его концепции - «Kontingenz», что можно перевести как «ненеобходимость». В мире нет ничего прочного, субстанциального, неизменного. Существование каждого человека контингентно хотя бы потому, что само его появление на свет стало следствием стечения множества обстоятельств.
Какое-то предощущение своего призвания, у него, видимо, сложилось все-таки очень рано. Известно, что Луман уже в 1952- 53 гг. начинает создавать свои знаменитые картотечные ящики. Именно создавать, потому что ничего похожего не было ни раньше, ни позже. Правда, эта первоначальная картотека, видимо, еще не похожа на позднейшую, в ней больше сходства с обычными подборками карточек, которые ведет для себя любой ученый. На карточках - прежде всего цитаты. Картотека служит упорядочиванию чужих идей. «Настоящая» картотека Лумана появляется позже. Своеобразие ее в том, что она служит прежде всего организации идей самого теоретика, а не чьих-то еще. Представьте себе компьютер, в котором каждый текстовый файл содержит лишь небольшое суждение или группу суждений (иногда - вместе с отсылками к литературе) и может находиться лишь на строго определенном месте, в директории (папке), субдиректории и т. п., в соответствии со своим содержанием. При этом он, с одной стороны, подобно гипертексту, содержит «линки», отсылающие к другим файлам и директориям, а с другой, - сам может выступать не только как файл, но и как директория. Изначально количество директорий невелико и хорошо упорядочено, однако затем они начинают наполняться файлами (которые тоже становятся - или не становятся - директориями), члениться все дальше и дальше; здесь образуются новые и новые пересечения и отсылки. Вот это и есть идея картотеки Лумана. Поначалу теория организована только в самом общем виде. С течением времени теоретику приходит в голову больше идей, некоторые старые идеи, казавшиеся лишь элементом рассуждения, влекут за собой целые серии новых рассуждений, каждое суждение, записанное на карточке, снабжено четкой системой отсылок, позволяющей в считанные минуты извлекать и затем снова ставить на место все карточки - повторим еще раз: с собственными суждениями теоретика! - которые имеют отношение к предмету его работы в данный момент. Текст для публикации, по идее, образуется, в основном, из множества мелких фрагментов, работа над которыми занимает основное время. Это компьютер без компьютера, это рабочий инструмент человека, еще в начале 90-х гг. предпочитавшего всем новинкам оргтехники электрическую пишущую машинку. Сама идея не проста, но ее реализация бесконечно сложна. Сложность возникает из-за все увеличивающегося количества карточек и связей между ними. Картотека воплощает одну из основных категорий Лумана - «сложность», «комплексность» («Komplexitat»). Сложна картотека, сложна теория, сложен мир, упростить который пытается сложная теория. Теория и ее картотека, однако, суть составляющие мира, они одновременно и уменьшают («редуцируют») и увеличивают его сложность.
Как можно было додуматься до этого, самое позднее, в конце 50-х? Как можно было, додумавшись, воплотить замысел хотя бы даже в первоначальной форме? Как можно было поддерживать, развивать этот замысел на протяжении почти четырех десятилетий?
Кажется, ответ есть только на последний вопрос. К середине 60-х годов у Лумана, можно сказать, кончается биография. «Биографии, - говорит он, - суть в большей мере цепочки случайностей, которые организуются в нечто такое, что затем постепенно становится менее подвижным». Биография Лумана почти неподвижна с конца 60-х гг. Мы узнаем из посвящения к книге «Функция религии»*, что в 1977 г. скончалась его жена. Вдовец с тремя детьми так и не женится больше, и не один дружелюбный коллега в Билефельде полусочувственно, а скорее осуждающе расскажет вам, что детьми Луман совсем не занимается, предоставив их попечению домработницы. Он живет в Орлингхаузене**, городке, где когда-то был укоренен род Макса Вебера по отцовской линии. Дом Лумана стоит на улице, названной в честь жены Макса, Марианны. На большом участке земли мог бы поместиться еще один дом - так и было задумано, но не состоялось, семейство не разрастается.
* Luhmann N. Funktion der Religion. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1977.
** Oerlinghausen, дифтонг в начале произносится как «ё» в имени Гёте.
Луман, подобно Максу Веберу, не хлопочет за своих учеников, не сколачивает школы, больше похожей на мафиозный клан, как это сплошь и рядом случается в современной науке*. Он агрессивен в теории и любезен в жизни. Его атакуют, его идеи вызывают раздражение. Ему указывают на слабости теории, на ошибки в аргументации, на то, что «редукция комплексности» - это переряженное понятие «разгрузки» философской антропологии Гелена. Луман постоянно отбивается, он вступает в жесткую полемику с Хабермасом**, задавшую стиль теоретическим дискуссиям чуть ли не на два десятилетия. Луман постоянно совершенствует, меняет, развивает теорию. Оппоненты выдыхаются. Они не поспевают за Луманом: только что он говорил об открытых системах в духе Берталанфи - и вдруг нечувствительно усваивает феноменологию позднего Гуссерля; только что его феноменологические штудии были подвергнуты критике, а он уже говорит о закрытых системах, аутопойесисе Матураны и Варелы и логике Дж. Спенсера Брауна. Но Луман не ограничивается исследованием философских оснований теории. Он, напротив, не оставляет без внимания ни одной области современной жизни. Он поражает эрудицией. Его называют «Арно Шмидт*** социологии», раздражаясь, указывают на ошибки в цитировании, на сомнительность интерпретаций... Луман кротко замечает, что у него нет памяти на тексты и филологического чутья - и продолжает писать. Оппоненты, в который раз, отступают. Вырабатывается специфический стиль Лумана: энергичный, сжатый, ироничный, предполагающий безумное количество ссылок на литературу, иногда весьма неожиданных. Луман создает своего читателя, потратившего немало сил на овладение его специфической терминологией и убедившегося на практике, что на этом языке профессионалу легко говорить. Луман гипнотизирует читателя, он заметает следы, не давая увидеть подлинные идейные истоки своих рассуждений, он пускает в ход и эрудицию, и самую изощренную логику, и - безупречный прием - намеки на то, что подлинно современный человек должен мыслить именно так, все остальное - предрассудки и отсталость. Постепенно он становится всемирно известен. Его переводят все больше и больше, не всегда, впрочем удачно. «Я говорил ему, - сетует крупный исследователь Вебера американский социолог Г. Рот, - что так писать для американцев нельзя; это перевести невозможно, и читать такие тексты они не будут». Луман не отступает - в конце концов, многие его сочинения находят своего читателя и на английском языке.
* Современные последователи Лумана, безусловно, образуют плотную и основательно организованную, в частности, в Билефельде группу. Однако тенденции к ее оформлению определились сравнительно поздно, всего за несколько лет до выхода Лумана на пенсию.
** См.: Habermas J., Luhmann N. Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnolo-gie - Was leistet die Systemforschung? Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1971.
*** Немецкий писатель, знаменитый своей филологической эрудицией.
В 1988 г. Луман получает премию имени Гегеля города Штуттгарта и... и все. Биограф умолкает, сказать больше нечего. Еще десять лет - и «билефельдский мастер» умолкает навсегда. Мировая социология не начала говорить на языке его теории, но и пройти мимо нее трудно. Ближайшие десятилетия покажут, в должной ли мере передалась его сочинениям энергетика его мысли. Во всяком случае, оставляя в стороне маловразумительный вопрос об «истинности» или «неистинности» столь обширной, сложной, претенциозной теории, мы рискнем высказаться о Лумане нарочито архаически, вопреки букве и духу его сочинений:
Он подлинно служил науке, он отдал ей всю жизнь, он пожертвовал для нее очень многим, он умер, свершив свой труд.
 Экономика: Общество - Социология
Экономика: Общество - Социология
- Экономика и общество
- Экономические исследования
- Экономика и общество в России
- Экономика социальная
- Человек и социальная экономика
- Социология
- Государство и социология
- История социологии
- Практическая социология
- Социология в России